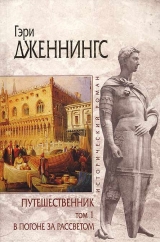
Текст книги "В погоне за рассветом"
Автор книги: Гэри Дженнингс
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 53 страниц)
Глава 4
К этому времени мы зашли уже так далеко, что попали в земли, почти совсем неизведанные, так что наш Китаб больше не мог принести ни малейшей пользы. Видимо, создатель карт аль-Идриси не только сам никогда не бывал здесь, но даже не встретил ни одного человека, у кого можно было бы выспросить хоть какие-нибудь малодостоверные сведения на этот счет. Его карты резко заканчивались восточной границей Азии у великого океана, который назывался Китайским морем. Согласно Китабу, получалось, что Кашгар находился довольно далеко от конечной цели нашего путешествия, столицы Хубилая города Ханбалыка, который, в свою очередь, находился довольно-таки далеко от этого океана, в глубине материка. Но, как предупреждали меня дядя и отец и как сам я впоследствии удостоверился, на самом деле Кашгар и Ханбалык разделены почти половиной континента – причем континента несравненно большего, чем аль-Идриси мог себе представить. Нам, путешественникам, пришлось пройти на этом отрезке пути примерно такое же расстояние, какое мы уже проделали от Суведии и до Левантийского побережья на Средиземном море.
Расстояние есть расстояние, независимо от того, как его подсчитывать – в человеческих шагах или днях пути верхом на лошади. Тем не менее в Китае создавалось впечатление, что любое расстояние здесь всегда больше, потому что его подсчитывали не в фарсангах, а в ли. Фарсанг включает в себя около двух с половиной наших западных миль, его изобрели персы и арабы, которые, испокон веку будучи путешественниками, привыкли мыслить с размахом. А ли (это составляет лишь около одной трети мили) придумали хань, известные домоседы. Думаю, большинство их крестьян за всю свою жизнь никогда не удаляется дальше чем на несколько ли от родной деревни, так что, по их понятиям, одна треть мили – солидное расстояние. Так или иначе, но когда мы только покинули Кашгар, я сначала по привычке считал расстояние в фарсангах, поэтому меня не слишком пугало, что нам придется пройти всего каких-то восемь или девять сотен фарсангов до Ханбалыка. Когда же я постепенно привык вести счет в ли, расстояние увеличилось до шести тысяч семисот. И если бы я даже не оценил прежде размах Монгольской империи, то, несомненно, сделал бы это теперь, когда разглядел всю безбрежность одной лишь центральной ее земли, Китая.
Наш отъезд из Кашгара сопровождался двумя ритуалами. Во-первых, наш монгольский эскорт настоял на том, чтобы все лошади, которых теперь было шесть верховых и три вьючных, подверглись определенному защитному обряду от преследования азгхун. Это слово означает «голоса пустыни», и я сделал вывод, что азгхун – какие-то гоблины, которыми кишат пустоши. Монгольские воины привели с собой из bok человека, которого называли шаман, – они считали его кем-то вроде священника, но нам он показался скорее магом. С безумными глазами и вымазанный краской, сам смахивающий на гоблина, он пробормотал несколько заклинаний и уронил несколько капель крови на головы наших лошадей, а затем объявил, что они защищены. Шаман предложил сделать то же самое и с нами самими, но мы вежливо возразили, что у нас имеется собственный священник.
Второй ритуал заключался в обсуждении суммы счета с хозяином гостиницы, и это продолжалось намного дольше, чем колдовство, и вызвало гораздо больше протестов с нашей стороны. Отец и дядя не просто не соглашались оплатить счет, выставленный хозяином караван-сарая, но спорили с ним по каждому пункту. Счет включал в себя не только наше проживание, но и отдельно место, которое мы занимали в гостинице, а также место в конюшне для наших животных. Там подробно перечислялись: вся еда, которую мы съели, зерно для наших лошадей, вода, выпитая нами, количество чайных листьев, использованных для заварки, топливо «кара», сожженное для нашего уюта. А еще количество света, которым мы наслаждались, и количество масла, которое потребовалось для освещения, – словом, все, кроме воздуха, которым мы дышали. Дебаты разгорелись жаркие, поскольку к обсуждению присоединились повар гостиницы, или «управитель котлов», как он сам себя величал, и человек, который накрывал на стол, или «распорядитель стола». Они вдвоем стали громогласно подсчитывать количество ходок, которые сделали, тяжестей, которые перенесли, расписывая, сколько они при этом затратили сил, пота и таланта.
Однако вскоре я догадался, что это вовсе не уловки и хитрости, в результате которых хозяин надеется поживиться за наш счет, и что монголы меньше всего хотят нас обидеть. Это было простой формальностью – еще одна традиция, которая пошла от сложностей этикета хань. Церемония эта приносила столько удовольствия как кредитору, так и должнику, что они могли часами вести красноречивые споры и браниться друг с другом, бесконечно предъявлять взаимные претензии и опротестовывать их, решительно отказываться идти на компромисс, прежде чем наконец достигнуть соглашения. Ну а когда счет был оплачен, они становились друзьями, еще лучшими, чем были прежде. Когда же мы в конце концов все-таки выехали в путь, то хозяин гостиницы, управитель котлов и распорядитель стола вместе с остальными слугами стояли в дверях. Они махали нам вслед и выкрикивали традиционное прощание хань: «Man zou», что означает: «Оставь нас, только если ты должен это сделать».
К востоку от Кашгара Шелковый путь разделился надвое. Это произошло потому, что сразу же за городскими воротами начиналась пустыня, сухая и покрытая коркой, не одноцветная, но рябая, подобно равнине с разбросанными повсюду желтыми черепками гончарных изделий. Пустыня эта огромная, как целая страна, и само название ее уже отпугивает путешественников, ибо Такла-Макан в переводе обозначает «Однажды войдешь и никогда не выйдешь». Поэтому караваны, двигавшиеся по Шелковому пути, могли выбрать любую из двух дорог – ту, что огибала пустыню с севера, или же ту, которая огибала ее с юга; мы предпочли вторую. Уже на второй день пути стали попадаться обитаемые оазисы и маленькие деревеньки. И все время слева от нас виднелись рыжевато-коричневые, как шкура льва, пески Такла-Макана, а справа – покрытые снегом вершины горного хребта Куньлунь, за которыми к северу лежало Тибетское нагорье.
Хотя мы двигались по самому краю Такла-Макана, вдоль покрытых веселой зеленью хорошо обводненных окраинных земель, но, поскольку стояла середина лета, близость пустыни чувствовалась постоянно. Путешествие было приятным лишь в те дни, когда ветер дул с заснеженных горных вершин. Но чаще всего дни стояли безветренные, но неспокойные, потому что близость пышущей жаром пустыни заставляла воздух вокруг нас словно бы дрожать. Солнце было всего лишь грубым инструментом, медной дубиной, бьющей по воздуху с такой силой, что он кружился от жары. А затем внезапно налетал ветер и приносил с собой частицу пустыни. И Такла-Макан словно бы вставала дыбом – заставляла двигаться столбы бледно-желтой пыли, которые постепенно становились коричневыми и все темнели и тяжелели, пока не опрокидывались на нас, превращая полдень в гнетущий мрак, при этом казалось, будто тебя хлестали по коже веником.
Серовато-коричневая пыль рыжевато-коричневого Такла-Макана известна в Китае повсюду: о ней знают даже те, кто никогда не путешествовал и не подозревает о существовании пустыни. Пыль хрустит на улицах Ханбалыка, который находится в тысячах ли от нее, ею осыпаны цветы в Шаньдуне, который располагается еще дальше, она пенится в водах озера Цинхай, а оно находится совсем далеко от пустыни. Пыль эту проклинают все домохозяйки во всех китайских городах, где мне довелось побывать. Однажды, когда мы плыли на корабле далеко в Китайском море, я даже не видел берега, но обнаружил, что этой же самой пылью посыпана палуба корабля. Тот, кто побывал в Китае, со временем забудет то, что он видел и испытал там, но всегда будет чувствовать серовато-коричневую пыль, осевшую на нем, как память о том, что он однажды пересек эту коричневато-рыжую землю.
Буран, так монголы называют песчаную бурю в Такла-Макане, имеет здесь одну особенность, которую я больше не встречал ни в одной другой пустыне. В то время, когда нас трепал буран, и еще долгое время после того, как он проносился, пыль поднимала наши волосы дыбом и ощетинивала бороды, а наша одежда потрескивала, словно превратилась в жесткую бумагу. Если же мы случайно притрагивались друг к другу, то видели потрескивающие искры и ощущали легкий толчок, как бывает, если потереть кошачий мех.
И еще одно я заметил: когда буран проходил и одновременно прекращалось действие небесного веника, оставляя после себя безукоризненно чистый и свежий ночной воздух, на небе высыпало несказанное количество звезд; их здесь было гораздо больше, чем я где-либо видел, и даже самая крошечная из них была такой же яркой, как драгоценный камень, а знакомые звезды среднего размера становились такими большими, что казались шариками вроде маленьких лун. В то же время настоящая Луна, в какой бы фазе она ни находилась, даже в той, которую мы обычно называем новолунием (в Венеции в это время на небе светится лишь слабый полумесяц, похожий на человеческий ноготь), здесь почему-то всегда была видна полностью: круглый бронзовый диск полной Луны покоился в серебряных объятиях новой Луны.
И если в ясную ночь посмотреть на Такла-Макан, то можно разглядеть и другие, еще более странные огни – голубые, колеблющиеся и мигающие на поверхности пустыни; иногда их один или два, а иногда – целые группы. Со стороны казалось, будто кто-то вдалеке несет какие-нибудь лампы или свечи, но мы-то знали, что это не так. Огни были слишком голубыми для обычного пламени и мигали там и тут слишком уж неожиданно. Их явно зажгли не люди. И если во время буранов волосы на наших головах шевелились от ветра, то при виде огней они начинали шевелиться от страха. Ведь мы прекрасно знали, что никто и никогда не станет путешествовать и останавливаться на ночлег в Такла-Макане. Этого не сделает ни одно из живых человеческих существ. По своей воле.
Когда мы впервые увидели огни, я спросил наш эскорт, что бы это могло быть. Монгол по имени Уссу ответил, понизив голос:
– Небесные бусы, ференгхи.
– Но кто их зажигает?
Другой монгол по имени Дондук сказал лаконично:
– Молчи и слушай, ференгхи.
Я так и сделал и, хотя мы находились на очень большом расстоянии от пустыни, услышал тихие вздохи и всхлипывания, напоминавшие слабые порывы ночного ветра. Но ветра не было.
– Это азгхун, ференгхи, – объяснил Уссу. – Бусы и голоса всегда приходят вместе.
– Множество неопытных путешественников, – добавил Дондук презрительным тоном, – видели огни и слышали крики. Они думали, что это какой-нибудь путник попал в беду, и отправлялись на поиски, чтобы ему помочь. Голоса соблазняли несчастных, и больше их никто не видел. Это азгхун – голоса пустыни и таинственные небесные бусы. Теперь ты понимаешь, почему эта пустыня так называется – «Однажды войдешь и никогда не выйдешь».
Как бы мне хотелось заявить монголам, что я разгадал причину этих явлений, но, увы, дать лучшего объяснения, чем фитиль гоблина, я не смог. Я заметил, что азгхун и огни появлялись только после того, как проносился буран, а буран был всего лишь огромной массой сухого песка, У меня даже возникла мысль: а не могли ли это быть какие-нибудь искры, вроде тех, что возникают, когда потрешь кошачий мех? Но здесь, в пустыне, не было ничего, обо что могли бы тереться камни…
Сколько я ни ломал голову над этой тайной, но объяснения найти не мог. Тогда я решил узнать ответ на другую загадку, полегче: почему Уссу и Дондук, хотя и знали имена всех нас и произносили их без труда, всегда называли нас троих, Поло, словом «ференгхи»? Уссу произносил это слово довольно дружелюбно. Похоже, ему нравилось с нами путешествовать, потому что это разнообразило скучную гарнизонную жизнь в bok Хайду. Однако Дондук говорил «ференгхи» с явным отвращением, считая, что его приставили в качестве няньки к недостойным людям. Мне нравился Уссу и не нравился Дондук, но поскольку они все время держались вместе, пришлось спросить их обоих: почему монголы называют меня «ференгхи»?
– Потому что ты и есть ференгхи, – ответил Уссу и при этом так на меня посмотрел, словно я задал глупый и неуместный вопрос.
– Но ты называешь этим словом и моего отца, и моего дядю.
– Так они оба тоже ференгхи, – сказал Уссу.
– Но ты называешь Ноздрю Ноздрей. Это оттого, что он раб?
– Нет, – ответил с пренебрежением Дондук. – Это оттого, что он не ференгхи.
– Старшие братья, – настаивал я, – объясните же мне наконец, что означает это слово.
– «Ференгхи» означает только «ференгхи», – отрывисто произнес Дондук и в раздражении вскинул руки, причем я сделал то же самое.
Однако я все-таки раскрыл эту тайну: «ференгхи» было всего лишь искаженной формой слова «франк». Восемь веков назад, во времена Франкской империи, монголы, должно быть, услышали, как пришельцы с Запада называют себя франками. Это было в ту пору, когда некоторые из предков самих монголов, которых тогда называли булгарами и хунну или чуннами, начали великое кочевье, отправившись завоевывать Запад, и дали свои собственные названия Болгарии и Венгрии. Именно с тех пор, по-видимому, монголы и стали называть всех белых пришельцев с Запада «ференгхи», вне зависимости от их национальности. Это так же неправильно, как и называть все монгольские народы монголами, потому что они имеют разное происхождение.
Уссу и Дондук рассказали мне, например, как произошли их двоюродные братья киргизы. Они сказали, что название этого народа образовано от монгольских слов «kirk kiz», что означает «сорок девственниц». Легенда гласит, что много лет тому назад в одном отдаленном селении жило множество девственниц. Дальнейшее может показаться неправдоподобным нам, современным людям: все сорок девственниц забеременели от пены, которую принесло ветром из заколдованного озера, и в результате этого чуда на свет родились предки народа, который теперь называют киргизами. Это было интересно, но еще более интересной показалась мне другая история, которую также рассказали Уссу и Дондук. Поскольку раньше киргизы жили в вечно холодной Сибири, далеко к северу от Китая, они придумали два остроумных способа передвигаться по этим суровым краям. Киргизы привязывали к подошве своих сапог хорошо отполированные куски кости, на которых могли быстро и далеко скользить по замерзшему льду. А еще они точно таким же образом привязывали к подошвам длинные доски, наподобие тех, из которых делают бочки, и неслись быстро и на большие расстояния по снежным просторам.
Жителями некоторых деревень на этом отрезке Шелкового пути были уйгуры – «союзники» монголов, другие были заселены хань. Уссу и Дондук ничего о них не сказали. Но когда мы подошли к очередному поселению, они объявили, что его жители называются калмыками, причем они произнесли это так: «Калмыки! Вах!» «Вах» – это монгольское слово, которое означает полнейшее презрение, а калмыков действительно было за что презирать. В жизни я не видел таких грязных человеческих существ, если не считать Индии. Судите сами: они не только никогда не моются, они никогда даже не снимают с себя одежду – ни днем, ни ночью. Когда верхнее платье калмыков изнашивается от носки, они не избавляются от него, а просто надевают сверху новое. И продолжают носить эту многослойную ветхую одежду, пока самый нижний слой ее не истлевает и не превращается в лохмотья, похожие на отложения в промежности. Я не буду даже пытаться описывать, как от них несло.
Однако название «калмык», как я выяснил, не является обозначением племени или нации. Это монгольское слово обозначает лишь того, кто постоянно поселился в каком-нибудь месте. Все нормальные монголы, будучи кочевниками, питают отвращение к тем представителям своей расы, кто бросил кочевать и предпочел проживать в доме. Они полагают, что если какой-нибудь монгол становится калмыком, то он обречен на вырождение и моральное разложение. На собственном опыте узнав, как выглядят калмыки и как они пахнут, не могу не согласиться с тем, что у монголов имелось достаточное основание их презирать. Тогда-то я и припомнил, как ильхан Хайду презрительно говорил о великом хане Хубилае, что тот «не лучше калмыка». «Вах, – подумал я, – если это и правда так, я немедленно развернусь и отправлюсь обратно в Венецию».
Несмотря на то что теперь я знал, что слово «монгол» было общим названием для множества народов, я все-таки продолжал им пользоваться. Я вскоре также узнал, что и коренные жители Китая тоже не все хань. Там были национальности, которые назывались юэ, яо, наси, хэчжи, мяо и бог знает как еще. Кожа их тоже была самых разных оттенков – от цвета слоновой кости до бронзы. Но так же, как это было с монголами, я продолжал думать обо всех этих национальностях как о хань. Во-первых, потому, что их языки звучали для меня совершенно одинаково. А во-вторых, представители каждого из этих народов считали себя выше других и потому называли остальных различными словами, которые означали одно: «собачьи люди». Это относилось к их соотечественникам, ну а всех чужеземцев, включая и меня, они называли именем, гораздо менее достойным, чем «франк»: на языке хань и на всех других подобных ему напевных языках и диалектах любой чужеземец – «варвар».
По мере того как мы продвигались все дальше и дальше по Шелковому пути, движение на нем становилось все более интенсивным: попадались отдельные группы и караваны путешествующих торговцев вроде нас; одинокие крестьяне, пастухи и ремесленники везли свои товары на городской рынок; с места на место кочевали монгольские семьи, кланы и целые лагеря. Я вспомнил, как Исидоро Приули, служащий в Торговом доме Поло, заметил незадолго до нашего отъезда из Венеции, что Шелковый путь был основной торговой дорогой еще с древнейших времен. Похоже, старик сказал правду: долгие годы, столетия, а возможно, и тысячелетия постоянного движения по этой дороге истерли ее, сделав гораздо ниже уровня окружающего ландшафта. Местами дорога представляла собой широкую канаву, такую глубокую, что крестьянин, выращивавший на соседнем участке бобы, мог разглядеть лишь, как в проезжающих мимо процессиях возницы взмахивают кнутами. А внизу, на дне канавы, борозды от колес повозок были такими глубокими, что теперь все телеги вынуждены были следовать только по ним. Возчику не было нужды беспокоиться о том, что его повозка может перевернуться, но он также не мог и вытащить ее на обочину, когда сам нуждался в отдыхе. Чтобы поменять направление на дороге – скажем, чтобы свернуть в сторону какой-нибудь стоящей на пути деревеньки, – возница был вынужден продолжать движение, пока не добирался до перекрестка, где имелись колеи, по которым он мог ехать.
Повозки, которые использовали в этой местности, были особенные: с огромнейшими колесами такой высоты, что они частенько возвышались над деревянной или холщовой крышей повозки. Возможно, это объясняется тем, что колеса с годами приходилось делать все больше и больше, так чтобы их оси не зацепляли бугры между колеями. У каждой такой повозки имелся навес, выступающий сверху с передней стороны, чтобы прикрыть возницу во время ненастья. Все было продумано: навес выдвигался на шестах довольно далеко, чтобы защитить также и упряжку лошадей, быков или ослов, которые тянули повозку.
Я много слышал об уме, находчивости и мастерстве жителей Китая, но, откровенно говоря, у меня зародились подозрения: уж не были ли эти их достоинства переоценены? Конечно, замечательно, что у каждой повозки имелся защитный навес, само по себе это изобретение, пожалуй, было разумным. Однако возница при этом был вынужден везти с собой несколько комплектов запасных осей и колес, потому что в каждой отдельной провинции Китая руководствовались своими собственными представлениями о том, на какое расстояние должны отстоять друг от друга колеса телеги, и, разумеется, местные повозки давно уже проделали на дорогах глубокие колеи. Таким образом, расстояние между колеями широкое, например, на том отрезке Шелкового пути, который проходит через Синьцзян, но уже на дороге через провинцию Цинхай сужается, а затем, в провинции Хунань, становится снова широким, но не таким, как раньше, и так далее. В результате возница вынужден каждый раз останавливаться и проделывать утомительную процедуру, извлекая из своей повозки весь набор запасных осей и колес и устанавливая оси необходимой ширины и подходящие колеса.
У каждого животного в упряжке сзади под хвостом привязан мешок, предназначенный для сбора его помета во время движения. Эти делается не ради того, чтобы сохранить дорогу чистой, и не вызвано заботой о тех, кто едет следом. Просто этот участок пути расположен далеко от местности, изобилующей горючими породами «кара», здесь раздобыть топливо не так-то просто, поэтому все путники тщательным образом запасают помет своих животных, чтобы потом на привале развести огонь и приготовить баранину, miàn и чай.
Мы встречали многочисленные стада овец, которых гнали на рынок или на пастбище, и у овец сзади тоже виднелся особый придаток. Это были овцы особой курдючной породы, их можно встретить по всему Востоку, но я прежде никогда таких не видел. Похожий на палицу хвост мог весить десять или двенадцать фунтов, что составляет почти десятую часть от веса всей овцы. Поистине это была настоящая ноша для такого создания. Необычный хвост считается самой вкусной частью животного, поэтому у каждой овцы позади на легкой веревочной упряжи была привязана маленькая дощечка, и на этой болтающейся полочке ехал ее хвост, защищенный от ударов и излишней грязи. А еще мы встречали многочисленные стада свиней, и мне пришло в голову, что для них тоже можно было бы что-нибудь изобрести. В Китае свиньи особой породы: у них длинное тело и нелепо раскачивающийся зад, поэтому живот чуть ли не волочится по земле. По-моему, местные свинопасы вполне могли бы придумать что-нибудь вроде колесиков для живота.
Наш эскорт, Уссу и Дондук, с презрением относились к повозкам и медленно движущимся по дороге стадам. Они были монголами и признавали единственный вид путешествия – верхом. Они жаловались, что великий хан Хубилай до сих пор не выполнил своего обещания, которое дал давным-давно: убрать все препятствия на равнинах Китая, так чтобы всадник мог галопом нестись через всю страну, даже темной ночью, не боясь, что его лошадь споткнется. Наших сопровождающих очень раздражало, что мы вели своих вьючных лошадей размеренным шагом, вместо того чтобы скакать во весь опор. Поэтому они время от времени находили способ оживить столь скучное, с их точки зрения, путешествие.
Как-то раз, когда мы расположились на ночлег лагерем у дороги, не желая толкаться в караван-сарае, Уссу и Дондук купили у возниц в соседнем лагере одну из курдючных овец и немного рыхлого овечьего сыра. (Возможно, правильнее будет сказать, что они раздобыли все это, потому что я сомневаюсь, что монголы заплатили что-нибудь пастухам хань.) Дондук извлек свой боевой топорик, срезал с овцы упряжь для хвоста и одним махом отрубил животному голову. Затем они с Уссу вскочили на лошадей, один из них нагнулся и схватил за хвост-палицу все еще подергивающуюся и истекающую кровью овечью тушу, после чего оба всадника на полном скаку начали веселую игру bous-kashia. Монголы с грохотом носились туда-сюда между нашим лагерем и лагерем пастухов, выхватывая друг у друга трофей, швыряя тушу, роняя ее на землю и топча лошадиными копытами. Кто из них выиграл или как они там договорились, я не знаю, но в конце концов оба устали и швырнули нам под ноги мягкую окровавленную тушу, всю покрытую пылью и сухими листьями.
– Для вечерней трапезы, – сказал Уссу. – Теперь хорошая и нежная, а-а?
Я был немного удивлен, что они с Дондуком вызвались сами освежевать, разделать и приготовить овцу. Оказывается, мужчины-монголы не имеют ничего против женской работы, когда рядом нет женщины, которая могла бы ее сделать. Еда, которую они приготовили, была весьма оригинальной, но не скажу чтобы аппетитной. Первым делом монголы отыскали отрубленную голову и насадили ее на вертел над костром вместе с остальной тушей. Целой овцы вполне хватило бы, чтобы накормить до отвала несколько семей, но Уссу и Дондук вместе с Ноздрей – от нас троих было мало помощи – уничтожили всю овцу, от носа до курдюка. Наблюдать и слышать, как они неаппетитно поедали голову, было весьма неприятно. Один из гурманов срезал щеку, второй – ухо, третий – губы. Они макали эти ужасные куски в миску приправленной перцем овечьей крови и жевали, чавкали, пускали слюни, глотали, рыгали и портили воздух. Поскольку монголы считают, что разговаривать во время еды – дурной тон, эта последовательность звуков, означающих хорошие манеры, не менялась до тех пор, пока они не добрались до костей, тут к ним добавился звук, с которым они высасывали костный мозг.
Мы, Поло, ели только филейную часть, хорошо отбитую во время bous-kashia и восхитительно нежную. При этом Уссу и Дондук продолжали постоянно отрезать и предлагать нам настоящие деликатесы: куски от хвоста, пузырящиеся беловато-желтым жиром. Они отвратительным образом подрагивали у нас в руках, но из вежливости мы не могли отказаться, и поэтому, давясь, с трудом кое-как глотали их. Я до сих пор еще чувствую, как эти отвратительные комки дрожат и вызывают спазмы у меня в пищеводе. Проглотив несколько кусков этой гадости, я попытался запить все большим глотком чая – и чуть не подавился. Слишком поздно я обнаружил, что Уссу заваривал его особым способом: залив чайные листья кипящей водой, он не остановился на этом, как все цивилизованные повара, но добавил в напиток ломти овечьего жира и сыра. Я полагаю, этот чай по-монгольски сам по себе был питательной едой, однако европейцу его пить совершенно невозможно.
На Шелковом пути мы ели много другой еды, вспомнить которую гораздо приятней. Но это было уже дальше, во внутренних землях Китая, где хань и уйгуры, содержащие караван-сараи, не ограничивают свои припасы только тем, что едят мусульмане. Чего нам только не подавали – ilik, маленькую косулю, которая лает, как собака, красивых фазанов с золотым оперением, мясо яков и даже мясо черных и бурых медведей, которые здесь водились. Когда мы разбивали лагерь на открытом воздухе, дядя Маттео и двое монголов устраивали состязание, кто добудет больше дичи для котла. Они приносили уток, гусей, кроликов, однажды попалась даже пустынная газель. Однако чаще всего они охотились на земляных белок, потому что эти маленькие создания давали заодно и топливо, на котором их можно готовить. Кочевники знают, что, если у них нет «кара», дерева или сухого кизяка, для того чтобы поддерживать огонь, им надо только разыскать земляных белок и их норы. Даже в бесплодной пустыне эти животные каким-то образом умудряются установить защитный «купол» над своей норой, он окаймлен сухими прутьями и травой, которые прекрасно горят.
В этой местности встречалось и много других диких зверей, не пригодных для пищи, но за которыми было интересно наблюдать. Здесь попадались черные грифы с таким размахом крыльев, что человеку надо было сделать три шага, чтобы пройти от одного конца крыла до другого. Еще я видел змею, своим цветом так сильно напоминавшую желтый металл, что я готов был поклясться: она сделана из расплавленного золота. Но когда мне сказали, что змея эта смертельно ядовита, я не стал к ней притрагиваться, чтобы удостовериться. Был здесь и маленький зверек под названием yerbò: похожий на мышь, но с очень длинными задними ногами и хвостом; опираясь на эти три придатка, он прыгал, держась почти что прямо. Водился тут и изумительно красивый дикий кот, которого назвали palang; однажды я видел, как он пожирал дикого осла, которого перед этим убил. Кот был похож на геральдического леопарда, но только мех у него был не желтый, а серебристо-серый, с черными розетками пятен по всему телу.
Монголы научили меня выкапывать различные дикие растения, которые служили гарниром и приправами к нашим блюдам, – дикий лук, например, прекрасно подходил ко всей дичи. Встречалось тут и еще одно растение, которое называли волосатиком, и оно действительно выглядело как копна черных человеческих волос. Ни название, ни его внешний вид не вызывали аппетита, однако, отваренное и политое уксусом, растение это становилось нежной маринованной приправой. Другой диковинкой было растение, которое называлось «ягненком»; монголы утверждали, что это и впрямь гибрид растения и животного, и говорили, что предпочитают его настоящему ягненку. Растение это напоминало вкусное мясо, но в действительности было всего лишь волосатым корневищем какого-то папоротника.
Однако больше всех местных деликатесов мне там понравилась изумительная дыня, которую называли hami. Даже то, как она росла, было мне в диковинку. Когда на плетях еще только начинали завязываться будущие плоды, крестьяне устилали поля кусками слюды. В результате, хотя солнцем освещалась только верхняя часть дыни, пластины слюды отражали солнечный жар таким образом, что hami созревали равномерно со всех сторон. Мякоть hami бледная, зеленовато-белого цвета, такая твердая, что потрескивает, когда по ней ударяют, и наполнена соком, на вкус прохладным и освежающим, сладким, но не приторным. Вкус и аромат hami отличаются от всех других фруктов, а плоды почти так же хороши в сушеном виде и пригодны для походного рациона. На мой взгляд, эта дыня – лучшее из всего, что растет в огороде.
После двух или трех недель путешествия Шелковый путь резко повернул на север, это был единственный раз, когда он достиг Такла-Макана, пройдя на очень небольшом отрезке по самой восточной окраине пустыни, а затем снова повернул прямо на восток, к городу Данхэ. Когда дорога отклонилась на север, нам пришлось пройти через проход, который вился среди каких-то невысоких гор – в действительности это оказались очень большие песчаные дюны под названием Пламенные холмы.
Считается, что в Китае существуют легенды, объясняющие названия всех местностей. Согласно легенде, эти холмы когда-то были покрыты зеленым лесом, а потом их сожгли какие-то злобные kwei, или демоны. Пришел обезьяний бог и задул пламя, однако к тому времени уже ничего не осталось, кроме огромной груды песка, до сих пор сверкающей, как тлеющие красные угли. Так гласит легенда. Но я лично больше склонен считать, что Пламенные холмы названы так из-за того, что их пески имеют цвет жженой охры, а если дует ветер, морща и бороздя их, то они мерцают за завесой горячего воздуха и вправду – особенно на закате – отсвечивают настоящим огненно-красным цветом, Но самым удивительным на этих холмах было гнездо с четырьмя яйцами, которое Уссу и Дондук вырыли из песка у основания одной из дюн. Я сперва подумал, что это всего лишь большие камни, совершенно гладкие и овальные, величиной с дыню hami, но Дондук настаивал:








