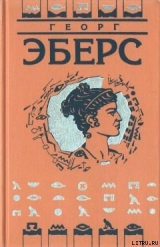
Текст книги "Тернистым путем [Каракалла]"
Автор книги: Георг Мориц Эберс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 42 страниц)
Он окончил свой рассказ восклицанием:
– Что такое жизнь? За несколько часов перед тем я был прикован к скамье гребцов и боролся с клеймовщиком на галере, который хотел выжечь мне клеймо раба, а сегодня я один из более великих среди великих!
Взгляд на окно показал ему, что время летит.
С каким-то странным смущением он затем посмотрел на кольцо, бывшее на его правой руке, и проговорил нерешительно, что вследствие присущей ему скромности он затрудняется признаться кое в чем; но он теперь уже не тот, который недавно распростился с женщинами. Милостью императора он облечен теперь в звание претора.
Сперва цезарь хотел сделать его всадником, но он объявил, что он считает свое македонское происхождение выше этого звания, к которому, как ему известно, принадлежат многие отпущенные на волю рабы. Это он откровенно высказал, и, вероятно, его замечание показалось императору вполне верным, так как он обменялся несколькими словами с префектом Макрином и вслед за тем предложил своим друзьям приветствовать его, Герона, как сенатора в ранге претора.
Тогда его охватило такое чувство, как будто мягкая подушка его сиденья превратилась в дикого коня, помчавшегося вместе с ним по морю, по небу и всюду. И ему действительно пришлось схватиться за спинку своего ложа; он только помнит, как неизвестно кто шепнул ему, что следует поблагодарить цезаря.
– Вот именно это, – продолжал Герон, – снова настолько возвратило мне утраченное сознание, что я мог высказать свою благодарность твоему будущему супругу, дитя мое. Ведь я только второй египтянин, попадающий в сенат! Только один Церан был моим предшественником. Какая милость! А как описать мне то, что последовало за этим? Меня в качестве нового товарища по службе братски обняли все знатные господа сенаторы и бывшие консулы. Когда цезарь затем приказал мне явиться с тобою в цирк облаченным в белую тогу с широкими пурпурными полосами, и я на это заметил, что теперь вследствие представления у каждого более известного портного уже заперты лавки, и подобную тогу невозможно достать, послышался громкий смех, вероятно, относившийся к приверженности александрийцев к зрелищам. Со всех сторон мне стали предлагать то, в чем я нуждался, но я отдал предпочтение Феокриту вследствие его высокого роста. То, что годится на него, не будет особенно коротко и на меня. Теперь меня ожидает императорская колесница. Ах, если бы только Александр был дома! По-настоящему, дом следовало бы осветить и украсить венками при моем появлении, и толпа рабов должна бы целовать мне руки. Скоро их прибавится у нас. Лишь бы только Аргутис сумел надевать мне обувь с ремнями и полумесяцем! Филиппу подобные вещи покажутся еще более странными, чем мне, да и к тому же бедный парень лежит больной. Хорошо, что я вспомнил о нем. А то я совсем забыл о его существовании. Да, если бы еще была в живых ваша мать, она была ловка! О она!.. Ах, госпожа Эвриала, Мелисса, вероятно, рассказывала тебе о ней. Она прозывалась Олимпией, так же как мать великого Александра, и она народила хороших детей. Ведь ты сама хвалила моих мальчиков!.. А девушка! Еще несколько дней тому назад это было хорошенькое скромное существо, от которого можно было ожидать всего, только уж никак чего-нибудь великого, а теперь чем только не обязаны мы этому тихому ребенку! Малютка всегда была любимицею матери. Вечные боги! Я не должен вспоминать, что покойница могла бы дождаться того, чтобы слышать, как меня называют претором и сенатором. О дитя, если бы она могла сидеть сегодня рядом с нами на императорских местах, и мы вместе смотрели бы на тебя, нашу гордость, славу целого города, будущую супругу императора…
Тут у этого грубого человека со слабою душою оборвался голос, и, громко рыдая, он закрыл лицо руками; Мелисса прижалась к нему и стала гладить рукою его щеки, обросшие бородою.
При ее ласковых уговариваниях он понемногу стал приходить в себя и, все еще стараясь побороть вновь набегающие слезы, воскликнул:
– О бессмысленном бегстве теперь, благодаря небожителям, не может быть и речи. Я тоже останусь здесь и никогда не воспользуюсь седалищем из слоновой кости, которое ожидает меня в курии в Риме. Твой супруг, дитя мое, да и государство вряд ли потребуют этого от меня. Но если цезарь одарит меня, своего тестя, земельными участками и сокровищами, тогда первым моим делом будет воздвигнуть памятник твоей матери. Вот вы увидите! Повторяю вам, я воздвигну памятник, которому не найдется подобного. Он будет изображать собою силу мужчины, склоняющегося перед женскою прелестью.
Затем он наклонился над дочерью, чтобы поцеловать ее в лоб, и шепнул ей на ухо:
– Тебе следует радостно смотреть в будущее, моя девочка. Отцовский глаз зорко вглядывается во все, и потому-то я и говорю тебе: император принужден был проливать кровь, чтобы укрепить за собою трон. Но при личных сношениях я узнал твоего будущего мужа как превосходного человека. Да, я не обладаю достаточным богатством, чтобы достойно отблагодарить богов за такого зятя.
Мелисса безмолвно смотрела вслед отцу.
Ей было так больно, что эти его надежды должны через нее превратиться в горе и разочарование. Она даже высказала это с увлажненными глазами и отрицательно покачала головою, когда матрона стала уверять, что для нее дело идет о жестоко уничтоженной жизни, а для ее отца играет роль пустое тщеславие, о котором он позабудет так же скоро, как оно быстро овладело им.
– Ты не знаешь его, – с грустью проговорила девушка. – Если я обращусь в бегство, то и он будет принужден скрываться на чужбине. Он навсегда утратит свою веселость, если у него отнимут могилу матери, наш домик и его птиц. Только ради всего этого он не требует для себя стула из слоновой кости в курии. Если бы ты только знала, какое огромное значение имеет для него все, напоминающее о матери, а она никогда не отлучалась из нашего города.
Тут она была прервана приходом Филострата. Он явился не один; следовавший за ним раб императора принес ей в изящной корзинке подарки от Каракаллы.
Первым из подарков были два венка – из роз и цветов лотоса, имевшие такой вид, как будто их сорвали только перед восходом солнца, так как среди цветов и листьев сверкали в виде блестящей росы прикрепленные на тонкой серебряной проволоке бриллианты в легкой оправе. Вторым подарком был букет цветов, вокруг ручки которого обвивалась гибкая, осыпанная рубинами и изумрудами змея, которая должна была служить запястьем на женской руке. Третья вещь была шейная цепочка из особенно драгоценных персидских жемчужин, которые, по уверению торговцев, принадлежали к собранию сокровищ великой Клеопатры.
Мелисса была охотница до цветов, а драгоценные подарки, их сопровождавшие, должны были порадовать сердце всякой женщины. Однако она бросила на них только мимолетный взгляд и при этом покраснела от неприятного замешательства.
То, что должен был сказать ей тот, кто передал подарки, казался ей гораздо более достойным ее внимания, чем самые подарки царственного жениха. Действительно, беспокойные манеры обыкновенно столь спокойного философа показывали, что он должен передать нечто гораздо более серьезное, чем эти подарки влюбленного.
Эвриала, видевшая, что он еще раз попытается склонить Мелиссу к уступчивости, прямо объявила, что нашла средства и пути устроить бегство девушки, но он с легким вздохом покачал головою и сказал:
– Хорошо, хорошо! В то время как дикие звери будут получать в цирке свою долю добычи, я сяду на корабль. Пусть настанет для нас радостное свидание здесь или где-нибудь в другом месте! Я должен прежде всего направить свой путь к матери императора, чтобы сообщить ей, что он избрал тебя в супруги себе. В ее согласии для этого он не нуждается: разве Каракалла когда-нибудь справлялся о чьем-либо одобрении или порицании? Но мне следует обратить к тебе сердце Юлии. Может быть, мне посчастливится это сделать. Но ты, девушка, отказываешься от этого и бежишь от ее сына. И все-таки поверь мне, дитя, сердце этой женщины – сокровище, не имеющее себе подобных, и тот, для которого открыты ее объятия, в состоянии будет перенести много тяжелого. Когда я в последний раз оставлял тебя, я старался войти в твое положение и одобрял твою решимость, но было бы недобросовестно еще раз не выставить тебе на вид, что должно будет случиться, если ты поступишь по своей воле, и цезарь сочтет, что ты пренебрегла им, дурно с ним поступила и обманула его.
– Именем богов, что такое случилось? – прервала помертвевшая Мелисса сильно возбужденного собеседника.
Но Филострат прижал руку к груди, и его голос звучал хрипло, когда он продолжал с грустным волнением:
– Решительно ничего нового. Но старое идет своим путем. Тебе известно, что император за сопротивление его союзу с тобою пригрозил смертью старому Клавдию Виндексу и его племяннику. Однако все мы надеялись, что Каракаллу можно будет уговорить смилостивиться над ними. Ведь он любит, ведь он был так весел во время трапезы. Я сам был во главе ходатаев и употребил все средства, чтобы вызвать в цезаре более кроткое настроение. Но он не допустил смягчить себя, и как старик, так и юноша, благороднейшие среди благородных жителей Рима, перестанут существовать, прежде чем закатится солнце этого дня. А эта кровь, дитя, будет пролита Каракаллой вследствие любви к тебе. Поставь же себе самой вопрос: скольких жизней будет стоить твое бегство, когда ненависть и ярость окончательно овладеют душою повелителя?
Тяжело дыша, слушала Эвриала речь философа, не обращая внимания на Мелиссу. Но едва успел Филострат задать последний вопрос, как Мелисса в страстном возбуждении бросилась к ней, схватила ее руку своими руками и точно вне себя воскликнула:
– Следует ли мне послушаться твоего совета, Эвриала, или внять воплю испуга, раздающемуся в моем собственном сердце?
Затем она отошла от матроны и, обратясь к философу, вскричала:
– Неужели ты в самом деле прав, Филострат? Неужели мне следует остаться, чтобы предотвратить это несчастье, так страшно угрожающее другим?
Тут она, охваченная душевным волнением, прижала руки ко лбу и с бурным волнением продолжала:
– Ведь вы оба люди мудрые и, наверное, одушевлены желанием добра. Каким же образом вы даете мне совершенно противоположные советы? А мое собственное сердце? Почему божество делает его немым? Ведь оно всегда умело говорить достаточно громко, когда я мучилась сомнением. Я наверняка знаю только одно: если бы мне было возможно ценою своей жизни уничтожить все это, я с такою же готовностью позволила бы бросить себя на растерзание львам и пантерам, как та девушка-христианка, которую мать видела улыбающейся, когда ее вели на арену. Блеск и могущество мне ненавистны, как вот тот букет с поддельною росою. Я научилась не слушаться голоса своекорыстия. Если я еще чего-либо желаю для себя, то только одного – сохранить верность тому, которому я поклялась в ней. Но из угождения отцу и в уверенности, что мое присутствие здесь убережет многих от смерти и гибели, я соглашалась взять на свои плечи эту тяготу, навек разлучиться с возлюбленным и презирать самое себя.
– Покорись неизбежному! – перебил ее философ внушительным тоном. – Бессмертные вознаградят тебя за это благословениями тех сотен людей, которых одно слово, произнесенное твоими устами, сохранит от погибели и всяческих ужасов.
– А ты? – спросила девушка, глядя с беспокойством в лицо Эвриалы.
– Следуй внушению собственного сердца, – с волнением проговорила матрона.
Мелисса с напряженным вниманием выслушала обоих советчиков, и они выжидательно глядели на нее, между тем как она с высоко поднимающейся грудью, в каком-то самозабвении неподвижно уставилась глазами в пространство.
И им не пришлось долго ждать. Девушка порывисто приблизилась к Филострату и проговорила с уверенною решительностью, поразившею ее друга:
– Пусть будет так. Я в глубине души чувствую, что это настоящий путь. Я остаюсь, отрекаюсь от любви своего собственного сердца и принимаю на себя то, что посылает мне судьба. Это будет тяжело, и велика моя жертва. Поэтому я должна приобрести уверенность, что все это делается мною не напрасно.
– Но, дитя, – перебил ее Филострат, – кто же в состоянии заглянуть в будущее и ручаться за грядущие события?
– Кто? – спросила Мелисса спокойно. – Только тот, в руке которого лежит моя будущая судьба. Я предоставляю решение самому цезарю. Ты теперь отправишься к нему – я делаю тебя своим ходатаем. Передай ему мой поклон и скажи от моего имени, что я, которую он удостаивает своею любовью, осмеливаюсь смиренно, но настоятельно просить его не мстить престарелому Клавдию Виндексу и его племяннику за то, что они погрешили против меня. Пусть из любви ко мне он дарует им жизнь и свободу. Прибавь, что это первое мое желание, исполнение которого я ожидаю от его великодушия, и облеки все это в такие убедительные слова, какие только может внушить тебе твое красноречие. Если он окажет милость этим несчастным, тогда это послужит ручательством того, что мне будет возможно ограждать и других от его гнева. Если же он откажется помиловать их, и они подвергнутся смерти, то это будет означать, что он сам и через него и судьба решили иначе; тогда он в последний раз увидит меня живою в цирке. Так и будет, я повторяю это.
Эти слова прозвучали подобно строгому приказанию, и Филострат, по-видимому, надеялся на милосердие императора как человека, находящегося под влиянием любви, а также и на свое собственное красноречие, потому что, как только смолкла Мелисса, он схватил ее руку и воскликнул с жаром:
– Я попытаюсь сделать это. И если он исполнит твое требование, тогда ты останешься здесь?
– Да, – твердо проговорила девушка. – Проси цезаря о милосердии, смягчи его сердце, как ты только можешь сделать это. Я ожидаю ответа до отправления в цирк.
С этими словами, не обращая внимания на призывающий ее голос Филострата, она поспешила обратно в спальню. Там она бросилась на колени и стала молиться, то обращаясь к праху своей матери, то – теперь это случилось в первый раз – к распятому Спасителю, Богу христиан, принявшему на себя мучительную смерть ради счастья других. Сперва она молила о силе, дабы во что бы то ни стало сдержать свое обещание, а затем стала молиться за Диодора, чтобы он не сделался несчастным, когда она будет принуждена изменить ему. Она также вспомнила об отце и братьях и вверила их судьбу высшей силе.
Когда Эвриала заглянула в комнату, она нашла Мелиссу все еще стоящей на коленях и видела, как содрогалось ее юное тело, точно от холода. Тогда она тихо отошла от молящейся и в храме Сераписа, которому ее муж служил в качестве верховного жреца, стала возносить молитву к Иисусу Христу, чтобы Он, призвавши к себе детей, умилосердился и над этим невинным существом, ищущим правды.
XXVI
Тихая молитва Эвриалы была прервана возвращением Александра. Он привез платья, которые получил для Мелиссы от жены Селевка. Теперь на нем была самая лучшая его одежда, и он был увенчан, подобно всем посетителям аристократических рядов цирка, но праздничное одеяние плохо гармонировало со страдальческим выражением его лица, из которого бесследно исчез жизнерадостный отпечаток, еще в это самое утро служивший его украшением.
Он узнал такие вещи, которые не позволяли ему уже считать подвигом пожертвование жизнью для спасения сестры.
Подобно темным летучим мышам, мрачные мысли затемнили веселое настроение в то время как он разговаривал с Мелиссой и ее покровительницей. И ему также было известно, как невыразимо тяжело будет отцу расстаться с Александрией, а в том случай, если и сам он отправится с сестрою в далекие страны, ему придется отказаться от борьбы за красавицу Агафью.
Христианин, отец этой девушки, хотя и принимал его ласково и приветливо, но с достаточною ясностью дал ему понять, что он ни в каком случае не допустит его, самонадеянного язычника, свататься за свою дочь. При этом он подвергся таким унижениям, которые подобно стене выросли между ним и любимой девушкой, единственною дочерью богатого, уважаемого человека.
Он утратил право выступить перед Зеноном в качестве жениха; ведь сегодня он действительно оказывался совсем иным в сравнении с тем, чем был вчера.
При известии о намерении императора сочетаться браком с Мелиссой сплетники распустили слух, что он, Александр, приобрел милость Каракаллы посредством предательства и шпионских услуг. Никто прямо не объявил ему этого, но в то время как он по поручению женщин мчался по городу в придворной колеснице, все это было выражено ему слишком открыто и в различных видах. Он, которому каждый пользующийся его симпатиями человек протягивал руку, увидал, что порядочные люди сторонятся от него, и все то, что он испытал во время этой поездки, было настолько оскорбительно, что вызвало целый переворот в его внутреннем существе.
Сознание, будто на него гневно и презрительно указывают пальцами, не покидало его в течение всей поездки. И он нисколько не ошибался. Когда он встретился со старым скульптором Лизандром, который еще вчера так любезно рассказывал ему и Мелиссе о матери императора, и Александр из колесницы кивнул ему головою, то его поклон остался без ответа, и достойный художник при этом сделал рукою жест, который каждый александриец должен был понять таким образом: «Я не знаю тебя больше и также не желаю, чтобы ты знал меня».
Диодора Александр с самого детства любил, как брата; в одной из боковых улиц, в которую свернула колесница, чтобы избежать толпы на Канопской улице, он проехал мимо него. При этом Александр приказал вознице остановить лошадей, спрыгнул на мостовую, чтобы поговорить с другом и при этом передать ему поручение от Мелиссы. Но Диодор с негодованием отшатнулся от него и на печальный просительный возглас художника: «Да выслушай же меня!» – резко отвечал: «Чем меньше я буду знать о вас обоих, тем лучше будет для меня. Поезжай дальше на колеснице императора!»
С этими словами он повернулся к нему спиною и поднял молот у двери архитектора, общего их приятеля. А Александр, терзаясь самыми тяжелыми ощущениями, поехал дальше, и в первый раз ему пришло на ум то, что он унизился до роли шпиона, передавая императору все остроты, придуманные на его счет жителями Александрии. Он мог оправдать себя тем, что он скорее согласился бы подвергнуться смерти или заточению, чем выдать Каракалле имя которого-нибудь из насмешников; но он должен был признаться себе, что вряд ли согласился бы оказать цезарю какую бы то ни была услугу, не питая надежды избавить отца и брата от смерти и тюрьмы. Милость, оказанная членам его семьи, имела как будто вид отплаты, и собственный образ действий казался ему ненавистным и отвратительным. Его соотечественники имели право быть им недовольными, а друзья устраняться с его дороги.
Им овладело никогда еще не испытанное им чувство, самое горькое из всех, а именно презрение к самому себе, и теперь он в первый раз понял, каким образом Филипп дошел до того, чтобы называть жизнь коварным даром данайцев со стороны божества.
Когда же в конце концов на Канопской улице около самого дома Селевка какой-то незнакомый молодой человек насмешливо крикнул вслед колеснице, пробиравшейся сквозь толпу: «Зять Таравтаса!» – то он едва удержался, чтобы не соскочить с колесницы и не дать крикуну почувствовать силу своих кулаков.
Ему было известно, что Таравтас было имя безобразного, кровожадного гладиатора, что это имя в качестве прозвища было присвоено императору еще в Риме, и когда он увидел, что восклицание дерзкого юноши нашло сочувствие среди окружающих, то ему показалось, как будто его забрасывают грязью и камнями.
Если бы разверзлась земля и поглотила его вместе с колесницею, чтобы скрыть его от взоров толпы, то это было бы для него облегчением. Он готов был расплакаться, подобно ребенку, которого побили.
Когда он наконец вошел в дом Селевка, то стал спокойнее: тут его знали и понимали. Вереника должна была узнать, что именно он думает о сватовстве императора, и в виду ее здравой и честной ненависти он дал себе клятву, что, рискуя умереть самою страдальческою смертью, он все-таки вырвет сестру из жадных рук тирана.
В то время как хозяйка дома занималась выбором платья для Мелиссы, он рассказал ей в коротких фразах обо всем случившемся с ним на улице и в доме Селевка.
Его провели к хозяйке сквозь толпы солдат визу и в имплювиуме, а в ее комнате он сделался свидетелем горячего супружеского спора. Селевк еще раньше передал своей жене приказание императора явиться в цирк в числе прочих знатных женщин. Ответом был горький смех и уверение, что она сядет на места для зрителей не иначе, как в траурном одеянии. А муж в свою очередь, указывая на опасность, которую повлечет за собою такого рода манифестация, стал противоречить и наконец, по-видимому, склонил ее уступить.
Когда Александр вошел к матроне, он увидел ее облаченною в драгоценное одеяние из сверкающей пурпурной парчи с венками из ярких роз и с блестящей диадемой на черных как уголь волосах. Гирлянда из роз обвивала ее грудь; драгоценный алмазный убор украшал шею и руки. Одним словом, она была одета точно исполненная радости мать в день свадьбы своей дочери.
Вскоре после художника и сам Селевк вошел к жене, и его негодование было сильнейшим образом возбуждено бросающимся в глаза ослепительным нарядом, столь малоподходящим к возрасту матроны и ее обычной манере одеваться. Очевидно, она выбрала его именно для того, чтобы в наиболее резком свете выставить все безобразие требования, предъявленного ей цезарем.
Поэтому Селевк с достаточною ясностью высказал свое неудовольствие и снова указал на опасность, грозящую за подобную уж слишком смелую выходку, но на этот раз оказалось невозможным уговорить Веренику снять хотя бы только одну розу из ее наряда. После ее торжественного уверения, что она или совсем не появится в цирке, или будет присутствовать там в таком виде, какой считает наиболее приличным, раздосадованный муж ушел от нее.
– Безумная! – прервала юношу Эвриала. Затем она указала на белую одежду из великолепного бомбикса, вытканного на острове Косе, которую наметила для Мелиссы, вместе с пеплосом, окаймленным бордюром нежного цвета морской волны, и Александр вполне одобрил этот выбор.
Время летело быстро, и, не теряя ни минуты, Эвриала, взяв новое нарядное платье, отправилась к Мелиссе. Она еще раз приветливо кивнула ей головою и попросила, чтобы она оделась с помощью прислуги, так как ей самой нужно кое о чем переговорить с Александром. Ей казалось, как будто она передает какой-нибудь приговоренной к смерти то одеяние, в котором ее должны вести на казнь, и сама Мелисса приняла его с тою же мыслью.
Наконец матрона возвратилась к художнику, прося его окончить свой рассказ.
Вереника тотчас же приказала христианке Иоанне уложить для Мелиссы самые лучшие нарядные одежды покойной Коринны. Затем Александр, по ее знаку, проводил ее на один из дворов в помещении рабов этого обширного дома, где их ожидала значительная толпа мужчин.
Это были шкиперы кораблей Селевка, в настоящее время находившихся в гавани, приказчики хлебных складов и писцы из контор. Всех вместе взятых свободных людей на службе у купца набралось бы около сотни.
По-видимому, каждому было известно, что именно им следовало сделать.
Матрона отвечала несколькими словами благодарности на их громкое приветствие и затем с горечью прибавила:
– Перед вами тоскующая мать, которую нечестивец принуждает вот так, в таком виде разряженную, подобно павлину, отправиться на веселый праздник.
Сборище бородатых мужчин громко заявило свое негодование, а Вереника продолжала:
– О местах позаботился Мелампус; но они специально выбраны в разных сторонах. Все вы здесь люди свободные, и мне не приходится отдавать вам приказания. Но если позор и сердечные раны, нанесенные жене вашего хозяина, возбуждают ваше негодование, то в цирке вы скажете это тому, кому я обязана всем этим. Ведь вы уже все пережили юношеский возраст и потому сумеете воздержаться от неосторожности, которая могла бы оказаться для вас пагубною. Пусть заступятся за вас и помогут вам боги-мстители!
С этими словами она повернулась спиною к толпе, но христианин Иоанн, самый знатный отпущенник ее дома, вовремя поспешил к двери, чтобы упросить ее отказаться от этой пагубной демонстрации и потушить тот огонь, который она только что раздула. До тех пор пока император облачен в пурпур, возмущение против него, назначенного властвовать самим божеством, есть преступление. То, что она затевает теперь, должно послужить наказанием оскорбившему ее человеку; но ведь она забывает, что этим честным людям, мужьям и отцам, здесь собравшимся, это может стоить жизни и свободы. Месть, к которой она их призывает, послужит бальзамом для ее собственного сердца. Но если могущество негодующего цезаря подвергнет гибели эти невинные орудия ее озлобления, то бальзам превратится в разъедающий яд.
Эти слова, произнесенные шепотом и с теплотою искреннего убеждения, произвели свое действие. В течение некоторого времени Вереника мрачно глядела в землю, затем еще раз приблизилась к собравшимся, чтобы повторить им предупреждение адвоката, всеми уважаемого, вследствие убеждений которого многие приняли крещение.
– Иоанн прав, – закончила она. – Истерзанное сердце не имело права поднимать перед вами свой страдальческий вопль. Лучше следовать примеру христиан и дозволять врагу топтать себя ногами, чем обрекать на тяжелые несчастья людей невинных, душою нам преданных. Поэтому соблюдайте осторожность. Воздерживайтесь от громких заявлений. Пусть каждый, не чувствующий в себе силу обуздать свое бешенство, избегает входить в цирк, а тот, кто будет там, должен принудить себя к спокойному поведению, если желает действовать в моем духе.
Одно только дозволяется вам. Постарайтесь разгласить все, что сделано со мною, в возможно большем числе кружков. А что затем сделают другие, за то они сами будут в ответе.
Христианин с видимым порицанием слушал ее последние слова; но Вереника уже более не обращала на него внимания и вместе с Александром покинула двор.
Крики возмущенных мужчин неслись им вслед, и, невзирая на предупреждение, в этих криках слышалась страшная угроза. Адвокат, разумеется, остался с ними, чтобы новыми увещаниями заставить их быть более умеренными.
– Что на уме у этих ослепленных людей? – с беспокойством прервала матрона рассказ юноши.
Но он поспешно продолжал:
– Они называют цезаря не иначе как Таравтас; из всех уст изливается насмешка и бешенство по поводу новых бессмысленных налогов, расквартирования войск, дерзкого нахальства солдат, которое Каракалла еще нарочно распаляет. Его пренебрежение к почетным гражданам города страшно всех возмутило. А его сватовство за мою сестру!.. И старый, и малый звонят языками по этому поводу.
– Ведь гораздо благоразумнее было бы радоваться этому выбору, – перебила его матрона. – Уроженка Александрии, облаченная в пурпур, на троне цезарей!
– И я также питал подобную надежду, – воскликнул Александр, – и это ведь было так близко к осуществлению! Но разве возможно разгадать эту толпу? Мне представлялось, что каждая здешняя женщина должна была бы выше поднять голову при мысли, что жительница Александрии сделается императрицею; но именно от женщин мне пришлось выслушать самые злобные, позорящие речи. И уж чего только я ни наслушался; чем ближе мы подъезжали к Серапеуму, тем труднее было колеснице прокладывать себе дорогу через толпу. Приходилось слышать удивительные вещи, у меня до сих пор сжимаются кулаки от бешенства при воспоминании об этом. А что произойдет в цирке? Чему принуждена будет подвергнуться Мелисса?
«Зависть», – прошептала про себя матрона, но она мгновенно умолкла, так как девушка вышла им навстречу из спальни. Ее одевание было окончено. Драгоценная белая одежда великолепно шла к ней. Венок из роз, осыпанный росою из алмазов, осенял ее кудри, змеевидный браслет, присланный царственным женихом, охватывал ее белую руку. Слегка склоненная вперед головка, милое бледное прелестное личико и большие глаза, опущенные с вопросительно-сконфуженным выражением, представляли очаровательное и невыразимо трогательное зрелище, и матрона стала надеяться, что в цирке только в самых окаменелых сердцах может подняться враждебное чувство против этого цветка, прелестного, непорочного, слегка склоненного безмолвным страданием.
Она была не в состоянии противиться желанию поцеловать Мелиссу, причем у нее превратилось в твердую решимость прежде колебавшееся намерение – отважиться на самые крайние меры для спасения своей любимицы.
В ее отзывчивом сердце к любви присоединилось и чувство сострадания. Когда же она увидела, что прелестное существо, при одном взгляде на которое таяла ее душа, надев на себя роскошнейшее украшение, которое другие девушки надели бы с восторгом, носит его, как самое тяжелое бремя; поникнув головою и нуждаясь в утешении, то ей показалось священною обязанностью облегчить своей несчастной любимице этот тяжелый шаг и, насколько зависит это от нее, Эвриалы, оградить девушку от позора и унижения.
Уже в продолжение многих лет она сторонилась кровавой резни в цирке, возбуждавшей в ней ужас; но сегодня сердце подсказывало ей отрешиться от старой неприязни и сопровождать девушку в амфитеатр.
Разве в сердце своем она не отдала Мелиссе опустевшее место утраченной дочери? Разве она, Эвриала, не была единственною личностью, которая своим появлением рядом с Мелиссой и ласковым с нею обращением могла заявить перед народом, что эта девушка, вследствие благоволения к ней ненавидимого и всеми презираемого злодея подвергающаяся порицанию и пренебрежению толпы, совершенно чиста и достойна быть любимой?
Под ее покровительством и охраною – это ей хорошо было известно – Мелисса будет ограждена от оскорблений и нареканий, и неужели она, Эвриала, старшая годами, христианка, должна устраниться от первой возможности взять на себя крест в подражание Богочеловеку, которого она признавала с полным убеждением, но втайне лишь из-за страха перед людьми?
Все это с быстротою молнии промелькнуло в ее уме и душе, и крик «Дорис!», относившийся к рабыне, так громко и неожиданно сорвался с ее губ, что Мелисса даже содрогнулась при своих сильно возбужденных нервах.
Она с удивлением взглянула на матрону, когда та, не сказав ни одного слова в объяснение, отдала приказание служанке, явившейся на ее зов:
– Голубое платье, которое я надевала на празднество Адониса, диадему моей матери и большую застежку на плечо с головою Сераписа! Мои волосы… На них следует накинуть покрывало. Стоит ли заботиться о них, когда наступила старость? А ты, дитя! Почему ты глядишь на меня с таким удивлением? Какая мать решилась бы отпустить в цирк без себя молодую, прекрасную дочь? При этом я могу надеяться, что твое мужество будет поддержано сознанием моего присутствия рядом с тобою. А может быть, и толпа будет подкуплена в твою пользу, когда увидит, что тебя сопровождает жена главного жреца самого высшего божества.








