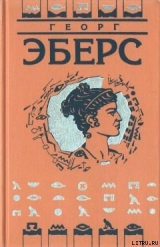
Текст книги "Тернистым путем [Каракалла]"
Автор книги: Георг Мориц Эберс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 42 страниц)
Александра привело сюда в такой поздний час единственное желание – помешать отправлению галеры, так как Иоанн слышал от христианских сторожей гавани, что галера еще не снималась с якоря. Следовательно, судно может выйти в море не ранее как завтра, при солнечном восходе, только тогда будет снята цепь, которою заперта гавань. Если приказание задержать галеру придет много времени спустя после рассвета, то узники будут уже в пути, а отец и Филипп могут совершенно измучиться от управления тяжелыми веслами, прежде чем их освободит посланная вслед за галерой более быстроходная государственная трирема.
Мелисса слушала этот рассказ с меняющимися чувствами. Ради собственной безопасности она, может быть, ввергнула отца и брата в несчастье, потому что государственных узников ожидала ужасная судьба на скамье гребцов, и что значила она, несведущая девушка, которая могла так мало сделать и принести так мало пользы?
Андреас говорил ей, что обязанность христианина и каждого хорошего человека жертвовать собственным спасением ради спасения своего ближнего, и она чувствовала себя способною забыть о самой себе для счастья и жизни тех, кого она любила больше всего, так как только их одних она считала своими «ближними».
Может быть, еще было время исправить то, в чем она провинилась, когда она усыпляла императора, нимало не подумав о своих близких. Вместо того чтобы разбудить его, она злоупотребила своею властью над братом и, не позволив ему говорить, может быть, помешала их спасению.
Но праздное сожаление было здесь более неуместно, чем где-нибудь, и потому она плотнее закутала голову в свою вуаль и, отходя, крикнула брату:
– Подожди здесь, я сейчас вернусь.
– Что ты хочешь делать? – спросил испуганный Александр.
– Я возвращаюсь к больному, – отвечала она решительно. Брат в ужасе схватил ее руку, запрещая ей этот шаг именем отца. Но при его запальчивом возгласе: «Я не потерплю этого», она пыталась высвободиться из его рук и крикнула ему в лицо:
– А ты? Разве ты, от жизни которого зависит в тысячу раз больше, чем от моей, не пошел добровольно в тюрьму и на смерть, чтобы спасти своего отца?
– Он лишился свободы из-за меня, – прервал ее Александр. Но она быстро возразила:
– Если бы я не думала только о себе, то приказание освободить наших теперь было бы уже в гавани, Я иду!
Александр выпустил ее руку и вскричал, точно вынужденный каким-то внутренним толчком:
– Так иди!
– А ты, – торопливо сказала Мелисса, – отправишься к госпоже Эвриале. Она еще ждет меня. Расскажи все и попроси ее от моего имени лечь спать. Скажи также, что я помню слова относительно «исполняющегося времени». Запомни это выражение. Объясни ей, что если я снова подвергаю себя опасности, то делаю это по внушению моего внутреннего голоса, который говорит мне, что так следует поступить, и это справедливо, поверь мне, Александр.
Художник обнял и поцеловал сестру, но пожелания, которые он высказал ей по пути, она поняла только наполовину, потому что его голос прерывался от волнения.
Он считал подразумевающимся само собою, что должен проводить ее до комнаты императора, но она не допустила этого. Его появление повело бы только к новым затруднениям, говорила она.
Он покорился и на этот раз, но не согласился ждать ее возвращения здесь.
После того как Мелисса исчезла в помещении императора, он тотчас же исполнил желание сестры и сообщил Эвриале о случившемся.
Снова, ободренный матроной, которую отвага Мелиссы сначала испугала не меньше, чем его, он вернулся в передний зал, где, то в глубоком волнении ходя взад и вперед, то отдыхая на мраморной скамье, дожидался сестры. При этом им часто овладевал сон. Тогда все омрачавшее его веселую душу удалялось от него, и вместо устрашающих образов, мучивших его во время дремоты, он во сне видел прекрасную христианку Агафью.
XX
Приемные комнаты уже были пусты, когда Мелисса проходила по ним теперь. При известии, что цезарь спит, большинство друзей императора отправилось на покой в город, а немногие оставшиеся были безмолвны при ее появлении. Филострат сказал им, что император питает к ней большое уважение как в единственной особе, которая может облегчить его страдания своею собственною чудесною силою врачевания.
В таблиниуме, превращенном в комнату для больного, теперь не было ничего слышно, кроме дыхания и легкого храпа спящих людей. Филострат тоже спал в кресле на заднем плане комнаты.
Когда философ возвратился, Каракалла заметил его и в полусне, а может быть, и совсем во сне приказал ему оставаться при нем, и, таким образом, философ был принужден провести ночь здесь.
Вольноотпущенник Эпагатос лежал на подушке, взятой из столового зала, врач крепко спал, и, когда его храп раздавался громче, старый Адвент толкал его и тихонько предостерегал. Он, бывший почтальон, был единственным человеком, который заметил приход Мелиссы; но он только блеснул ей навстречу своими полуслепыми глазами и после безмолвно заданного самому себе вопроса, что могло привести девушку снова сюда, повернулся, чтобы тоже заснуть, так как пришел в убеждению, что это молодое и сильное создание будет бодрствовать и находиться под рукой, если цезарю понадобится что-нибудь.
Его мысли о возвращении Мелиссы привели его ко многим предположениям, но не дошли ни до какого результата. «Нельзя узнать женщин, – заключил он свои размышления, – если тебе неизвестно, что у них самое неправдоподобное часто становится верным. Эта, конечно, не принадлежит к числу флейтисток. Кто знает, какая непонятная для нашего брата причуда или глупость привела ее сюда? Во всяком случае ей легче, чем мне, держать глаза открытыми».
При этом он кивнул ей и тихо попросил принести плащ из пустой соседней комнаты, потому что старое тело нуждается в теплоте, и Мелисса охотно исполнила его желание и с любезною заботливостью окутала дрожавшие от холода ноги старика широкою каракаллой.
Затем она опять вернулась к ложу больного, чтобы дожидаться его пробуждения. Он крепко спал, это было видно по его ровному дыханию. Другие тоже спали, и скоро тихий храп Адвента, смешивавшийся с более громким храпением врача, показал, что он перестал бодрствовать. Спящий Филострат по временам бормотал какие-то невнятные слова, а лев, которому, может быть, грезилась свобода на его песчаной родине, часто взвизгивал во сне.
Она одна бодрствовала.
Ей казалось, что она находится в царстве сна и вокруг нее среди какого-то странного шороха волнуются видения и грезы.
Ей было страшно, а мысль, что она, единственная женщина, находится среди такого множества мужчин, усиливала это неприятное чувство страха.
Она не могла сидеть на стуле. Неслышно, как тень, она приблизилась к изголовью спящего императора и, сдерживая дыхание, стала прислушиваться. Как крепко он спит! Но ведь она пришла затем, чтобы говорить с ним. Если его сон продлится до восхода солнца, то помилование ее близких придет слишком поздно, и прикованные к жесткой скамье отец и брат должны будут вместе с ворами и убийцами ворочать тяжелыми веслами как галерные невольники. Каким страшным способом исполнится тогда желание отца употреблять свою силу в дело. И разве Филипп, узкогрудый философ, в состоянии вынести напряжение, которое оказывалось гибельным даже для многих сильных?
Она должна была разбудить страшного человека. Только он один мог оказать помощь в этом случае.
Она уже подняла руку, чтобы положить на его плечо, но отняла ее на полдороге. Ей показалось, что отнять у больного сон, его лучшее лекарство, почти столь же преступно, как похитить жизнь у здорового. Еще не могло быть слишком поздно, а цепь гавани будет снята только при восходе солнца. Пусть он еще поспит.
С этим решением она снова опустилась на свое место и стала прислушиваться к звукам, нарушавшим ночную тишину.
Как безобразны, как отвратительны были эти звуки! Самый простой из спящих, старый Адвент, буквально рассекал воздух своим храпом. Дыхание императора было чуть слышно, и какими благородными линиями была очерчена половина его лица, которую она видела, в то время как другою он прижался к подушке. Неужели же она действительно имеет причины опасаться его пробуждения? Неужели он именно таков, каким видела его Вереника? То участие, которое она почувствовала к нему при первой встрече, снова проснулось в ней, несмотря на все испытанные ею разочарования, и она перестала бояться его. При этом ей пришла в голову мысль, оправдывавшая ее намерение нарушить сон больного. Приходилось не допустить его до нового злодеяния, не дав ему погубить людей невинных. Но она хотела сперва удостовериться, действительно ли время не терпит.
И вот она стала смотреть в открытое окно на звезды и на обширную площадь, расстилавшуюся у ее ног. Прошел уже третий час пополуночи и оставалось еще много времени до восхода солнца.
Внизу все было тихо. Макрин, префект преторианцев, узнав, что императором овладел благодетельный сон, который не следует нарушать, запретил подавать громкие сигналы; площадь была заперта для граждан города, и потому до девушки, прислушивавшейся сверху, не доходило ни одного звука, кроме размеренного шага часовых и крика сов, возвращавшихся в свои гнезда под кровлю Серапеума. Морской ветер гнал облака по небу, а покрытая палатками площадь, которую он задевал, уподоблялась морю с высокими тихо трепещущими белыми волнами. Лагерь к полудню отчасти опустел: во время трапезы Каракалла осуществил свою угрозу, высказанную утром, приказав расквартировать часть избранного войска по домам самых богатых александрийцев.
Далеко высунувшись из окна, Мелисса смотрела в сторону севера. Морской ветер развевал ее волосы. На море, откуда он несся, может быть, уже через несколько часов беспокойные волны будут перебрасывать из стороны в сторону тот корабль, на скамьях которого ее отец и брат работают руками в недостойной роли рабов. Этого не должно, не может быть!.. Но что это такое?
До нее донесся тихий шепот. Вопреки строгому запрещению, внизу очутилась любящая парочка. Жена центуриона Марциала, находившаяся так долго в разлуке с мужем, по его просьбе явилась к нему из Канопуса, где присматривала за виллой Селевка, так как служба ее мужа запрещала ему удаляться на столь значительное расстояние. И вот они стояли теперь вдвоем в тени храма, нежничали и перешептывались. Мелисса не слышала, что они говорили, но они вызвали в ней воспоминания о тех блаженных ночных часах, в которые Диодор признался ей в любви. Затем ей почудилось, будто она снова стоит у его ложа и взгляд его честных глаз встречается с ее глазами. Ни за какие блага в мире она не решилась бы нарушить сон его вчера там, в доме христиан, хотя его пробуждение сулило ей новое счастье любви; теперь же она намеревалась лишить другого человека божественного дара – сна, бывшего для него наилучшим лекарством. Но ведь Диодор был для нее всем, а что такое представлял для нее император? У возлюбленного дело шло о жизни и смерти, между тем как нарушение сна Каракаллы могло отсрочить его выздоровление не более как на один какой-нибудь час. Ведь она же сама доставила спящему императору то спокойствие, которое снова может дать ему в том случае, если разбудит его. Сперва она дала себе слово – не обращать никакого внимания на свое личное благополучие и горе, и это сначала заставляло ее быть осторожною относительно императора и пощадить его сон, но разве не было бы эгоизмом пропустить тот час, который мог бы принести освобождение отцу и брату, только ради того, чтобы освободить собственную душу от упрека в легкоисправимом проступке?
С вопросом: «Что же значишь тут ты сама?» – от девушки отлетало всякое сомнение, и уже не на кончиках пальцев, а твердыми решительными шагами приблизилась она к ложу спящего. Проступок, совершить который она боялась, превратился теперь в благодеяние: она увидела, что лоб императора покрыт крупными каплями пота, а сам он стонал и, по-видимому, терзался тяжелым кошмаром. Он воскликнул глухим, лишенным всякого выражения голосом разговаривающих во сне людей, точно почувствовал ее приближение:
– Иди прочь, мать, говорю тебе! Прочь с дороги! Ты не хочешь? Но я, я… если ты…
При этом он высоко взмахнул рукою, и у него вырвался глухой страдальческий крик.
«Он, вероятно, видит во сне убиение своего брата», – мелькнуло в голове Мелиссы, и в то же мгновение ее рука уже коснулась его руки, и с настойчивою просьбою она громко проговорила, склонясь к его уху:
– Проснись, цезарь, заклинаю тебя, великий цезарь, проснись!
Тогда он открыл глаза, и из его стесненной груди вырвалось протяжное: «А-а!»
Затем он, глубоко вздохнув, стал бросать вокруг себя дикие взгляды, но когда его глаза встретились с глазами Мелиссы, то черты его лица мгновенно разгладились и вскоре засияли так радостно, как будто ему выпало на долю какое-то неожиданное счастье.
– Ты? – спросил он с радостным удивлением. – Ты, девушка, все еще здесь? Вероятно, скоро уже будет рассветать? Я спал хорошо до последних минут… но затем, под конец… О это было ужасно!.. Адвент!
Но этот призыв был прерван Мелиссой, которая, положив палец на губы императора, попросила его молчать; он понял и охотно послушался, так как она даже угадала, чего именно он требовал от старого слуги. Она проворно подала ему лежавший на столе платок, чтобы отереть лоб, покрытый потом. Затем она принесла ему напиться, и когда Каракалла, освежившись, приподнялся на своем ложе и в то же время почувствовал, что боль, продолжавшаяся иногда целые дни после тяжелого припадка, теперь уже исчезла, то, повинуясь ее знаку, проговорил чуть слышно:
– Я чувствую себя уже значительно лучше. А этим я обязан тебе, Роксане, как ты уже знаешь. Я чувствую себя хорошо в роли Александра, но иначе… Действительно, есть нечто хорошее в владычестве над миром. Когда приходится наказывать или миловать, то по крайней мере никто не смеет ограничивать нас. Ты, дитя, узнаешь, что тебе обязан благодарностью император. Требуй, чего хочешь, и я все предоставлю тебе.
Тогда она выразительно шепнула ему:
– Возврати свободу моему отцу и брату.
– Постоянно одно и то же, – с досадой возразил Каракалла. – Неужели ты не можешь пожелать ничего лучшего?
– Нет, господин, нет! – воскликнула Мелисса с настойчивым жаром. – Желаешь ли даровать мне то, что для меня дороже всего?..
– Хочу, разумеется, хочу, – прервал ее император примирительным тоном; но вдруг он неожиданно пожал плечами и продолжал с сожалением: – Но тебе следует вооружиться терпением: твои родные, по приказанию египтянина, давно уже плывут по морю.
– Нет, господин, – с уверенностью возразила девушка, – они еще находятся здесь. Цминис нагло обманул тебя.
И тут она повторила ему то, что было сообщено ей братом.
Повинуясь кроткому настроению, Каракалла хотел оказаться благодарным по отношению к Мелиссе. Но ее просьба не понравилась ему. Резчик и его сын, философ, были заложники, долженствовавшие удержать у него девушку и живописца. Но как ни сильно было его недоверие, оскорбленное достоинство властителя и тягостное чувство быть обманутым заставили его забыть обо всем другом, и вот он, охваченный гневом, громко позвал Эпагатоса и Адвента.
Его дрожавший от ярости голос пробудил от сна и всех других; отрывисто и резко упрекнув их в лености, он поручил Эпагатосу немедленно сообщить префекту Макрину приказание не выпускать из гавани тот корабль, на котором находились Герон и Филипп, выпустить узников на свободу, а египетского блюстителя безопасности Цминиса бросить в темницу, заковав в цепи.
Когда отпущенник смиренно заметил, что префекта вряд ли возможно будет отыскать, так как он и в эту ночь тоже присутствует при вызывании духов магом Серапионом, то цезарь гневно приказал отозвать Макрина от заклинателя и немедленно отправить в гавань.
– А если я не найду его? – спросил Эпагатос.
– Тогда это послужит новым доказательством, как плохо мне служат мои подданные. В крайнем случае ты заменишь префекта и позаботишься об исполнении моих приказаний.
Отпущенник быстро удалился, а Каракалла в изнеможении откинулся на подушки.
Мелисса дала ему некоторое время отдохнуть, но затем подошла ближе, от души поблагодарила его и просила оставаться спокойным, чтобы приступ боли не вернулся и не испортил ему следующего дня.
Потом он спросил о времени, и, когда Филострат, подойдя к окну, объявил, что прошел пятый час пополуночи, Каракалла приказал приготовить для него ванну.
Врач одобрил это желание, и цезарь протянул руку девушке и сказал ей тихим голосом:
– Страдания все-таки еще не являются. Если б я был в состоянии умерить свое нетерпение, то мне стало бы легче. После подобных тяжелых ночей на меня благодетельно действовала ранняя утренняя ванна. А теперь иди. Сон, который ты умеешь дарить другим, вероятно, не оставит и тебя. Только прошу тебя не слишком далеко уходить от меня. Надеюсь, что, когда я позову тебя, мы оба будем чувствовать себя подкрепленными.
Мелисса с чувством благодарности простилась с ним; но, когда она уже приближалась к порогу, он еще раз отозвал ее назад и уже изменившимся голосом отрывисто и строго спросил ее:
– Станешь ли ты поддакивать своему отцу, если он будет бранить меня?
– Что за мысль! – возразила она с живостью. – Ведь он знает, кто именно лишил его свободы, а от меня он узнает, кто возвратил ее.
– Хорошо, – пробормотал император. – Только прими к сведению вот еще что: мне необходима твоя помощь, и я также имею нужду в твоем брате – живописце. Если твой отец попытается отдалять вас от меня…
Тут он внезапно опустил поднятую с угрожающим видом руку и продолжал шептать более мягким тоном:
– Впрочем, разве я в состоянии относиться к тебе иначе как с добротою? Не правда ли, ты и теперь еще чувствуешь ту таинственную связь, ты ведь знаешь какую? Не ошибаюсь ли я, думая, что тебе жаль расставаться со мною?
– Разумеется, ты прав, – тихо проговорила она, опуская глаза.
– Ну так ступай же, – продолжал он приветливым тоном. – Еще наступит когда-нибудь день, в который ты почувствуешь, что я столь же необходим твоей душе, как ты моей… Но ты вряд ли знаешь, каким я иногда бываю нетерпеливым. Я должен вспоминать о тебе с удовольствием всегда, всегда.
При этом он мигнул ей, и его веки еще долгое время после того продолжали двигаться и дрожать.
Филострат собирался проводить девушку, но Каракалла удержал его своим призывом.
– Сведи-ка ты меня в ванну. Если, как я надеюсь, она послужит мне в пользу, то мне придется кой о чем поговорить с тобою.
Мелисса уже не слыхала последних слов. Весело и поспешно она мчалась по плохо освещенным, совершенно пустым помещениям и нашла Александра в сидячем положении, полуспящего-полубодрствующего, с закрытыми глазами. Она приблизилась к нему на цыпочках и, так как именно в эту минуту его покачивающаяся голова упала на грудь, девушка засмеялась и пробудила брата поцелуем.
Светильники еще не совсем догорели, и когда он с удивлением взглянул в лицо сестры, то и его лицо прояснилось, и, быстро вскочив, он воскликнул:
– Теперь все хорошо, ты опять с нами, и тебе все удалось. Я уже вижу по твоему лицу, что и отец, и Филипп свободны!
– Ну да, разумеется, – радостно ответила она. – А теперь ты отправишься со мною, и мы сами привезем их из гавани.
Тогда Александр, точно обезумев от восторга, поднял вверх глаза и руки, и Мелисса последовала его примеру, и таким образом они, хотя молча, но с сердечным порывом, одновременно принесли благодарность богам за их милостивое вмешательство.
Затем они вместе вышли на улицу, и Александр сказал:
– Мне кажется, как будто благодарность струится по моим жилам. Впрочем, я только недавно узнал, что называется страхом. Вероятно, здесь местопребывание этого злого гостя. Скорее вон отсюда. Дорогой ты все расскажешь мне.
– Имей терпение на самый короткий срок, – проговорила она с оживлением, поспешно направляясь к жилищу главного Жреца. Там ее все еще продолжала ожидать Эвриала. Матрона поцеловала ее, с искренней радостью вглядываясь в ее ясные глаза, светившиеся влажным блеском.
Сперва она хотела уговорить Мелиссу прежде всего отдохнуть, так как ей еще понадобятся силы. Но вскоре вполне согласилась с законностью ее желания отправиться навстречу отцу, накинула ей на плечи свой собственный плащ, так как воздух перед восходом солнца был холодноват, и даже проводила ее до самых сеней.
Едва только девушка успела удалиться, как Эвриала обратилась к рабу своей невестки Вереники, ожидавшему там в течение целой ночи, и приказала ему сообщить своей госпоже обо всем, что она узнала от Мелиссы.
Перед Серапеумом с братом и сестрой встретился раб Аргутис. В доме Селевка он узнал, где находится девушка, и завязал дружеские отношения с прислугою верховного жреца.
Когда он поздно вечером услыхал, что Мелисса все еще находится у императора, им овладело такое беспокойство, что он прождал целую ночь перед Серапеумом, то сидя на ступенях лестницы, то шагая взад и вперед. С величайшею радостью он сопровождал теперь брата и сестру до квартала Аспендиа, и если он там и расстался с ними, так только для того, чтобы сообщить старой Дидо добрые вести и сделать приготовления к приему Герона и Филиппа, возвращавшихся домой.
Теперь Мелисса и Александр рука об руку шли одни по тихим улицам.
Юность, которой принадлежит все настоящее, желает знать только светлые стороны будущего. Так и Мелисса от радости, что милым ей существам будет возвращена свобода, только изредка думала о том, какие новые опасности придется еще преодолеть, когда все это кончится, и император снова призовет ее к себе.
Сияя радостью от своего удивительного успеха, она прежде всего рассказала брату, что пережила, находясь при больном цезаре. Затем она вдалась в воспоминания о своем посещении возлюбленного, и, когда Александр открыл ей свое сердце и начал с жаром уверять, что он не успокоится по тех пор пока не добьется руки христианки Агафьи, она охотно предоставила ему говорить и обещала свое содействие. Наконец она стала советоваться о том, каким образом приобрести благоволение императора, которого, как уверяла Мелисса, позорным образом не понимают, к отцу и Филиппу, и, наконец, они оба представляли себе изумление старика, когда он встретит их первыми после своего освобождения.
Путь был долог, и когда они близ Цезареума вошли в Брухиум, аристократический квартал города, застроенный дворцами, лежавший у моря за полуостровом Лохиасом, показался первый брезжащий свет приближавшегося утра. Море волновалось и медленными маслянистыми волнами ударяло в косу Хому, вдававшуюся в воду подобно длинному пальцу, и в стены башни Тимониума в конце косы, где Антоний скрывал свой позор после битвы при Акциуме.
У храма Посейдона, изобиловавшего колоннами и возвышавшегося у самого берега между косой Хомой и театром Диониса, Александр остановился, указал на видневшийся в сумраке остров, лежащий против плоского берега, и спросил:
– Знаешь ли ты, как мы с матерью ездили в Антиродус и как она заставляла нас собирать раковины в маленькой гавани? Если бы она была еще жива теперь, то чего бы нам оставалось еще желать?
– Чтобы император уехал! – вырвалось из глубины сердца девушки. – Если затем Диодор снова будет здоров, если отец будет работать, как прежде, а я буду занята вышиванием возле него, пока не явится за мною Диодор, о тогда… Ах, если бы произошло что-нибудь в империи, что вызвало бы цезаря отсюда далеко, к самым дальним гиперборейцам!
– Это случится скоро, – уверял Александр. – Филострат говорил, что римляне останутся в Александрии самое большее с неделю.
– Так долго? – спросила Мелисса с испугом, но Александр успокоил ее с уверением, что семь дней пройдут скоро.
– Только, – продолжал он с живостью, – не следует спрашивать о будущем. Будем радоваться, что все идет хорошо.
Здесь он внезапно остановился и тревожно посмотрел на море, не вполне омраченное исчезающими уже тенями ночи. Мелисса посмотрела вдаль, туда, куда указывала его рука, и когда он в сильном волнении вскричал: «Это не лодка, это корабль и притом большой!» – она с беспокойством прибавила:
– Он подходит уже к Диабатре, скоро он будет у Альвеус-Стеганусе и пройдет мимо маяка.
– Но там на небе стоит утренняя звезда, и огонь на башне еще горит, – сказал брат. – Внешняя цепь гавани отворяется только тогда, когда он погашен. А все-таки корабль плывет по направлению к северу. Он, должно быть, вышел из царской гавани.
С этими словами он ускорил шаги, увлекая с собою сестру, и, когда через несколько минут они дошли до гавани, он вскричал с облегчением:
– Посмотри туда. Цепь еще растянута перед входом, я вижу это явственно.
– Я тоже, – отвечала с уверенностью Мелисса, и между тем как ее брат стучал в ворота крепко запертой гавани, перед которыми стояла какая-то колесница с прекрасною упряжью, она продолжала: – Да и никакой корабль – это говорил Эпагатос – не выходит до восхода солнца по причине скал; а тот корабль у маяка…
Но она не успела высказать свое предположение. Широкие ворота гавани с шумом отворились, и в них вошел отряд римских солдат, за которыми следовало множество александрийских полицейских стражей. Последние шли за арестантом, окованным цепями, с которым разговаривал какой-то знатный римлянин в военном уборе. Оба были высокого роста и худощавые, и, когда они приблизились к брату и сестре, молодые люди узнали в одном из них префекта преторианцев Макрина, а в другом, закованном в цепи, доносчика Цминиса.
Египтянин тоже заметил художника и его спутницу. При этом глаза его ярко сверкнули, и он с торжествующею насмешкой указал на море.
Маг Серапион убедил префекта предоставить египтянину свободу действия. В гавани еще ничего не было известно о низвержении Цминиса, и потому там охотно было оказано привычное послушание его приказу, когда он, побуждаемый магом и своею старою ненавистью, велел выпустить в море галеру, на которой находились резчик и его сын, несмотря на ранний час.
Герон и Филипп, с цепями на ногах, сидя на одной скамье с тяжкими преступниками, теперь работали веслами, а оставшиеся на берегу дети старого художника смотрели на удалявшееся судно. Мелисса смотрела на него безмолвно, с глазами, мокрыми от слез, между тем как Александр, вне себя, изливал свой гнев и свою горесть в бесплодных угрозах.
Однако же убеждения сестры скоро заставили его сдержаться и осведомиться насчет того, послал ли Макрин, согласно повелению императора, государственный корабль вслед за галерой.
Оказалось, что корабль послан, и успокоенные, хотя горько разочарованные, брат и сестра отправились домой.
Между тем солнце взошло, и улицы стали наполняться народом. Перед великолепным зданием Цезареума они встретили старого ваятеля Лизандра, который был другом еще их деда. Старик принял горячее участие в судьбе Герона, и, когда Александр робко спросил, что привело его сюда в такой ранний час, он указал во внутренность великолепного здания, где большой двор был окружен статуями императоров и императриц, и пригласил брата и сестру следовать туда за ним. Он не успел докончить к приезду Каракаллы свое произведение, статую Юлии Домны, матери императора. Но вчера вечером статуя была поставлена здесь, и он пришел теперь посмотреть, какой она имеет вид в новой обстановке.
Мелисса видела изображение Юлии Домны на монетах и в разных произведениях искусства, но сегодня ей было особенно интересно вглядеться в лицо матери человека, который так могущественно повлиял на судьбу ее собственную и ее близких.
Старый скульптор видел Юлию Домну за много лет перед тем в ее отечестве, Эмезе, когда она была только дочерью Бассиана, знатного жреца Солнца, и впоследствии, когда она стала императрицей, на его долю выпало сделать модель ее статуи для ее супруга Септима Севера. Между тем как Мелисса смотрела на лицо хорошо удавшегося мраморного изваяния, старый художник рассказывал о чарующей прелести, которая привлекала к матери Каракаллы во время ее юности все сердца, о ее обширном уме и редких познаниях, которые она с усердием приобрела в общении с учеными людьми и постоянно приумножала. Говорили, что его сердце не осталось нечувствительным к прелестям его царственной модели, и Мелисса все глубже погружалась в созерцание прекрасного произведения.
Лизандр изобразил вдову императора стоящей, в одежде, ниспадавшей складками до ног. Ее миловидная юная голова была наклонена несколько набок, а правою рукою у шеи она сдвинула немножко назад головной платок, который покрывал заднюю часть головы и небрежно был наброшен на плечи, из-под него выглядывало лицо с таким выражением, как будто императрица вслушивалась в какое-нибудь прекрасное пение или в увлекательную речь. Густые, слегка волнистые волосы окаймляли под платком прелестный овал лица, и Александр выразил сочувствие к словам сестры, когда она сказала, что ей бы хотелось когда-нибудь увидеть эту женщину редкой красоты. Но ваятель уверил, что они были бы разочарованы, потому что годы жестоко изменили ее.
– Я изобразил ее в том виде, в каком она пленила меня до своих зрелых лет. Вы видите перед собою девицу Юлию; я не был бы способен изобразить ее женщиной и матерью. Воспоминание о ее сыне испортило бы все.
– Но он способен и к лучшим чувствам, – уверял Александр.
– Может быть, – отвечал старик. – Но я не знаю их. Желаю, чтобы вам были поскорее возвращены отец и брат. Мне нужно идти работать.








