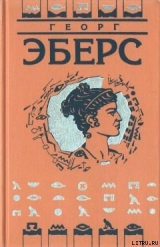
Текст книги "Тернистым путем [Каракалла]"
Автор книги: Георг Мориц Эберс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 42 страниц)
Отдельных лиц еще невозможно было рассмотреть при полумраке, еще наполнявшем обширное пространство театра. Но вскоре должно было сделаться совершенно светло, и какое терзание предстояло тогда еще только наполовину выздоровевшему вероломно покинутому несчастливцу!
После того яркого света, который ослеплял глаза перед цирком, Диодору покамест еще был приятен царствующий тут полумрак. Его утомленные члены отдыхали; из ароматного фонтана на арене к нему поднимались приятные благоухания, и его взгляд, для которого не представлялось ничего отрадного, был бесцельно устремлен в пространство.
Ему также приятна была мысль об уничтожении дудки. Ее свистком он опозорил бы самого себя, да к тому же этот звук дошел бы до слуха той достойной женщины, которая сопровождала девушку и в лице которой он не далее как вчера видел вторую мать.
Теперь вокруг него раздавалась громкая музыка, слышались восклицания и крики, а также сверху – это могло происходить в рядах, расположенных над ним – начинался необычайный шум. Но он не обращал внимания ни на что, и в то время как он вспомнил о матроне, у него внезапно и в первый раз возник вопрос, захотела ли бы эта женщина сопровождать сюда Мелиссу, если б считала ее способною на позорное нарушение верности или на какое-нибудь другое недостойное дело? Он, не пропускавший ни одного представления, еще никогда не видал Эвриалу в цирке. Сегодня она также явилась сюда едва ли ради своего собственного удовольствия. Она приехала из любви к Мелиссе, а ей ведь было известно, что девушка считается его невестою. Если император не принудил матрону показаться здесь, то это значило, что Мелисса еще достойна расположения и уважения самой лучшей из женщин; и при этих соображениях надежда снова зашевелилась в его истерзанной душе.
Теперь ему вдруг захотелось, чтобы более яркий свет изгнал тот полумрак, который еще только сейчас был для него столь благодетелен; поведение Эвриалы должно было показать ему, действительно ли она еще до сих пор дорога для нее. Если матрона будет относиться к ней с прежнею ласкою, тогда сердце девушки, может быть, еще и теперь принадлежит ему; тогда окажется, что суетный блеск пурпура не заставил ее быть против него клятвопреступницей, и лишь вследствие принуждения всесильного человека, который…
Тут его безмолвные размышления были прерваны громкими трубными звуками и боевыми криками. Вслед за тем раздался шум падения какой-то тяжелой массы, радостный, всюду повторенный крик, невообразимый гвалт и одобрительные возгласы соседей.
Только теперь заметил Диодор, что представление в это время уже началось. Внизу, у его ног, куда не обращал он свой взгляд, не поднимая его, разумеется, еще ничего не было видно на желтоватом песке арены, кроме благоухающего фонтана и неясной фигуры, к которой вскоре присоединились вторая и третья. Но у него над головою замечалось оживление, а с правой стороны светлые снопы лучей пронизывали огромное пространство арены.
Над обширным полукругом, семь рядов которого были заняты зрителями, сияли солнца и странной формы громадные звезды, распространявшие матовый свет разных цветов; но то, что юноша видел над собою, был не свод небесный, который сегодня простирался над его родным городом и был омрачен темными тучами, а велариум необычайного размера, изображавший собою ночной небосвод. Он простирался над всем не имеющим крыши пространством для зрителей. Здесь можно было узнать каждую звезду, восходившую над Александрией. Юпитер и Марс, любимцы императора, превосходили величиною и блеском все другие планеты, а в середине этой картины неба, медленно вращавшейся кругом, звезды, расположенные в виде букв, образовали настоящие имена Каракаллы: «Бассиан» и «Антонин». Но их свет был умерен и точно задернут туманом. С этого искусственного небесного свода слышалась нежная музыка, а снизу раздавались звуки военных труб и воинственные крики. Поэтому все взгляды были обращены кверху, и Диодор также глядел туда.
Он с удивлением заметил, что устроители представления, желая показать державному гостю нечто невиданное, перенесли первое воинственное представление в свободные воздушные сферы. Там, на высоте верхних рядов, происходило воздушное сражение, устройство которого даже и для избалованных римлян представляло некоторого рода неожиданность. Черные и золотые корабли, казалось, сталкивались друг с другом в пустом пространстве, и их экипажи бились с безумием отчаяния.
Основанием этого воинственного зрелища послужило сказание о богах света, которые в золотых барках плавают по океану небес, и миф о боге солнца, который каждое утро ведет борьбу с демонами тьмы, осиливает и побеждает их.
Высоко над нижними рядами, где помещались император и все те, в которых желали возбудить удивление, должно было происходить побоище между духами мрака и света; действующими лицами были живые люди, по большей части преступники, приговоренные к смерти или к тяжелым каторжным работам.
Черные корабли были наполнены африканскими, золотые – светлокожими преступниками, и они охотно входили на борт, так как многим предстояло выйти из побоища только ранеными, а другим совершенно невредимыми, и каждый решился употребить в дело оружие, чтобы поскорее покончить эту ужасающую бойню.
Негры со своими курчавыми головами, разумеется, не знали, что им будут даны ненастоящие мечи, которые должны разлететься при первом размахе, и также щиты, которые не могут оказать сопротивления серьезному удару, а светлокожие духи света получат прочное и острое оружие для серьезного нападения и защиты. Следовало во что бы то ни стало устранить возможность победы демонов мрака над духами света. Да и много ли стоила жизнь какого-нибудь негра, когда он и без того был обречен на погибель!
В то время как сидевшие внизу, на императорских местах, Эвриала и Мелисса отвращали свои взгляды от ужасающего зрелища, и матрона, держа руку девушки в своей, шептала ей: «О дитя, дитя, мне пришлось провожать тебя сюда!», раздались громкие крики одобрения и бурные рукоплескания.
Резчик Герон, поместившийся на своем покрытом подушками привилегированном месте, облаченный в окаймленную красным тогу своего нового звания, сияющий от счастья и гордости, так сильно хлопал своими огромными руками, что у соседей звенело в ушах. И ему также при входе в цирк была устроена бурная встреча громкими свистками, но он был слишком далек от того чтобы принять их на свой счет. Но когда совсем близко около императорской ложи толпа «зеленых» крикнула ему в лицо его имя, сопровождая его грубыми ругательствами, то он остановился, чтобы первому попавшемуся ткнуть под бороду своим могучим кулачищем, а прочих обругать ядовитыми завистниками. Благодаря находившимся там ликторам, он ушел цел и невредим, и как только увидал себя среди друзей императора и всяких важных лиц, на которых прежде смотрел с немым благоговением, то к нему снова вернулось хорошее расположение духа. Его в особенности радовал тот час, когда ему можно будет спросить императора – что же он теперь скажет о его родном городе?
Александр, подобно отцу, также следил за ходом кровавой военной игры. Затаив дыхание, он с напряженным вниманием смотрел вверх, когда борющиеся противники грозили сбросить друг друга в глубокую пропасть. Но он ни одной минуты не забывал позора, случившегося с ним в цирке. Как сильно болело его сердце, это было видно по его печальному лицу. Только всего один раз улыбка мелькнула на его губах. Когда после окончания первого представления сделалось посветлее, он заметил в следующем, более широком ряду напротив, хорошенькую Ино, дочь соседа Скопаса, которую несколько дней тому назад уверял в своей любви. Он сознавал, что нехорошо поступил по отношению к ней, и дал ей право называть его вероломным. Относительно нее он действительно сделался предателем, и это страшною тяжестью лежало у него на душе.
Теперь их взгляды встретились, и она самым явным образом дала ему понять, что до нее дошло данное ему прозвище императорского шпиона и что она поверила клеветникам. Один его вид, казалось, наполнял ее негодованием, и она явно старалась показать ему, как скоро нашла ему замену; Ктезий, ее сосед по месту, уже давно ухаживавший за нею без успеха, был обязан Александру тем, что наконец добился бросающейся в глаза нежности, которою осчастливливала его теперь Ино.
Это послужило утешением бедному отщепенцу. По крайней мере ему теперь не приходилось ни в чем упрекать себя относительно прекрасной дочери соседа.
Диодор сидел напротив него, и его внимание тоже прерывалось очень часто.
Светящиеся мечи и факелы в руках духов света, так же как матового блеска поддельные звезды над их головами, разбивали мрак недостаточно для того, чтобы доставить юношам возможность узнать друг друга. Хотя Диодор даже во время самых интересных боевых сцен поглядывал на ложу императора, но ему не удавалось отличить возлюбленную цезаря от других женщин в свите Каракаллы. Но вот уже стало светлеть; в то время как победа еще колебалась, внезапно явилась новая барка, наполненная духами света с высоко поднятыми факелами, и, по-видимому, небо прислало их для того, чтобы они решили битву, продолжавшуюся уже гораздо дольше, чем считали возможным устроители празднества.
Дикие боевые крики, стоны и вопли раненых и борющихся наверху давно заглушили нежную музыку сфер над их головами. Призыв труб и литавр непрерывно гремел в обширном пространстве и весьма часто сопровождался самым ужасным из звуков в этом страшном представлении, глухим звуком какого-нибудь тела, сброшенного в глубину.
И этот ужасающий звук возбуждал самое громкое одобрение среди толпы, так как он представлял нечто новое ее пресыщенному слуху. Вообще это страшное, еще никогда не виданное побоище в воздухе возбуждало бешеный восторг; оно давало глазам, привыкшим смотреть вниз, направление, в котором им еще никогда не случалось потешать свои взгляды. Да и какое это было дивное зрелище – видеть борьбу белых и черных фигур; разница в цвете помогала различать отдельных бойцов даже и тогда, когда они крепко схватывались один с другим. А когда при окончании сражения была опрокинута целая лодка и даже при падении в глубину отдельные бойцы держали друг друга в объятиях и в бешеной ненависти старались во что бы то ни стало убить противника, тогда и стены задрожали от безумных рукоплесканий и радостных восторгов многих тысяч человек во всех рядах.
Всего только один раз восторженное одобрение выразилось в еще более бешеном взрыве, именно после окончания битвы и того, что за ней последовало. Едва победоносные духи света, высоко держа свои факелы, поднялись на лодках и получили от парящих в воздухе детей-гениев лавровые венки, которые и были ими брошены к ложе императора, как благовонный дым, исходивший из того места, где небо касалось высокого круглого строения, скрыл от взглядов зрителей всю верхнюю часть театра. Музыка умолкла, и сверху доносился только какой-то странный и страшный грохот, шум, треск, какое-то шипение. Обширное помещение наполнилось еще более сумрачным полусветом, и чувство страха овладело многотысячною толпою зрителей.
Что же случилось?
Не загорелся ли велариум, не испортились ли осветительные машины, и неужели придется остаться в этой неприятной полутьме?
Уже там и сям раздавались крики неудовольствия и резкие свистки возбужденной толпы, но дым постепенно исчез, и, глядя вверх, можно было видеть, что велариум с солнцем и звездами уступил место какой-то черной поверхности. Никто не знал, принадлежит ли она покрытому облаками небу или же над театром расстилается новое одноцветное гигантское полотно. Вдруг эта завеса разорвалась. Ее части исчезли, устраненные чьими-то невидимыми руками. Как бы по мановению волшебника, раздалась громкая музыка, и в то же время полился в театр такой поток света, что каждый зритель закрыл глаза руками, чтобы не ослепнуть. Самый яркий солнечный день непосредственно последовал за мрачною ночью, подобно громкому ликующему хору, врывающемуся в заключительный аккорд тихой, печальной песни.
Машинисты Александрии устроили чудо. Даже римляне, не видавшие ничего подобного и при ночных представлениях во время празднеств Флоры в ярко освещенном цирке Флавиев, приветствовали это зрелище бурными изъявлениями одобрения, которым, казалось, не будет конца.
Кто достаточно налюбовался на источники света вверху, во много раз умноженные посредством бесчисленных зеркал и заливавшие театр своими волнами, и затем окидывал глазами места для зрителей, у того невольно вырывались снова восклицания и жесты удивления.
По невидимому знаку и в рядах для зрителей тоже засияли тысячи огоньков и светильников; блеск представления соответствовал великолепию одежд александрийских зрителей и зрительниц, и должно было ожидать чего-нибудь еще более грандиозного.
Только теперь можно было рассмотреть красоту женщин и роскошь их нарядов; только теперь драгоценные каменья стали бросать быстро вспыхивающие и угасающие молнии. Сколько лавровых рощ нужно было ограбить, для того чтобы изготовить венки, украшавшие каждую голову даже в верхних рядах. Глядя вверх на эти последние и видя великолепные одежды, в какие и здесь были облачены и мужчины, и женщины, можно было подумать, что в Александрии живут только богачи.
Куда бы ни обращался взор, он везде встречал что-нибудь прекрасное и великолепное. И изобилие отдельных очаровательных картин, бросавшихся в глаза, было обставлено пышными гирляндами из цветов лотоса и мальв, лилиями и розами, масличными ветвями и лаврами, стеблями папируса и веерами пальм, лилиями и ивовыми ветвями, которые здесь свешивались красиво закругленными фестонами, там – обвивались в виде богатых разными яркими цветами повязок вокруг столбов, колонн и основания всех рядов сидений для зрителей.
Из бесчисленных человеческих пар в этом праздничном несравненном зале только одна не слышала и не видела ничего окружающего.
Едва ночь преобразилась в ослепительный свет, как глаза Мелиссы встретились с глазами любимого ею человека, и когда они узнали друг друга, то за этим тотчас же последовали безмолвные робкие вопросы и ответы, наполнившие влюбленных новою надеждой.
Взгляд Мелиссы сказал Диодору, что она любит только его одного, по взгляду же юноши было видно, что он не может отказаться от нее. Но в этом взгляде выражалась также боль души, терзаемой сомнением и заботой, и посылался вопрос на вопрос Мелиссы.
И она поняла его безмолвные взгляды, как будто они были внятными словами, и, не обращая внимания на любопытных, которые окружали ее, и не думая о том, какою гибельною для нее может оказаться подобная отвага, она подняла букет, который держала в правой руке, наклонилась над ним, точно желая насладиться запахом цветов, и запечатлела быстрый поцелуй на прекраснейшем полу распустившемся бутоне.
Ответ, который она получила, говорил, что и Диодор понял ее, потому что его ясные глаза засветились любовью и благодарностью. Ей показалось, что он никогда не смотрел ей в лицо с большею сердечностью, и она снова наклонилась над розами.
Но среди вновь пробудившейся радости щеки ее зарделись девическою стыдливостью. Ее смутила своя собственная смелость, и, слишком счастливая для того, чтобы раскаиваться в том, что она сделала, но все-таки боясь, что те, мнением которых она дорожила больше всего, не одобрят ее поступка, Мелисса, забыв время и место, прильнула головой к плечу Эвриалы и своими большими глазами смотрела ей в лицо вопросительно и как бы прося о прощении.
Матрона видела ее насквозь. Она следила за ее взглядами и сочувствовала тому, что волновало девушку. Не подозревая того, какой большой подарок она приготовляет этим третьему лицу, она крепче привлекла Мелиссу к себе и поцеловала ее в висок, не обращая внимания на окружавшую обстановку.
При виде этого Диодор почувствовал, как будто он выиграл приз на бегах, и его друг Тимон, художнические глаза которого наслаждались в эту минуту великолепными картинами кругом, вздрогнул, когда Диодор с бурною страстностью и силой пожал ему руку.
Что сделалось с больным несчастливцем, которого он, Тимон, из сострадания проводил в цирк, что его глаза засияли так ярко и что он снова так высоко поднял голову? Что значит уверение юноши, что еще все, может быть, устроится хорошо?
Напрасно Тимон задавал вопрос за вопросом, потому что Диодор еще не желал доверить даже своему лучшему другу то, что делало его счастливым. Ему довольно было знать, что Мелисса любит его и что женщина, на которую он смотрит с восторженным почтением, считает ее достойною, как всегда.
Он теперь в первый раз начал стыдиться за свои сомнения относительно возлюбленной. Как мог он, знавший ее с детских лет, приписать ей что-нибудь нечистое, достойное осуждения? Несомненно, что только принуждение, которому нельзя было противиться, связывает ее еще с императором, и она не могла бы смотреть на него, Диодора, таким образом, если бы у нее не было на уме – и, может быть, Эвриала намерена ей в этом помочь – вовремя убежать от своего царственного жениха. Должно быть, это так; и чем больше Диодор смотрел на нее, тем несомненнее казалось ему его предположение.
Теперь его радовал окружавший его ослепительный свет: он показывал ему возлюбленную.
Слова, которые Эвриала сказала ей шепотом, должно быть, напомнили ей об осторожности, потому что Мелисса теперь только изредка бросала на него быстрый взгляд, и он сказал себе самому, что их немой, но оживленный разговор мог бы оказаться гибельным для них обоих.
Но при внезапно засиявшем свете появилось слишком много такого, что с непреодолимою силою привлекло зрение каждого, в том числе и императора, так что никому не было времени обращать внимание на них. Теперь было удовлетворено первое любопытство, и сам Диодор считал необходимым наложить на себя некоторую сдержанность.
Каракалла еще не показывался зрителям. Золотая ширма, сквозь отверстие которой он мог смотреть, невидимый никому, скрывала его от взоров толпы, но Диодор мог хорошо узнать тех, кого он принимал. Сперва явились устроители представления, затем парфянское посольство и некоторые представители высших правительственных учреждения города. Наконец Селевк подвел к трону жен тех богачей, которые вместе с ним приняли на себя расходы, потребовавшиеся для этого представления, и среди этих богато одетых женщин Вереника превзошла всех гордостью своей манеры и бросающимся в глаза великолепием своей одежды.
Когда взгляд ее больших глаз с вызывающим выражением остановился на императоре, этот последний нахмурил лоб и спросил иронически:
– Здесь, кажется, носят роскошные траурные одежды?
Вереника быстро отвечала:
– Они не имеют ни малейшего отношения к трауру и только должны служить к прославлению того могущественного лица, которое потребовало в цирк женщину, облаченную в траур.
Диодору не было видно, как загорелся взгляд Каракаллы, обращенный на бесстрашную женщину, и он также не слышал, как тот ответил небрежно:
– Вот как ошибаются здесь относительно способа оказать мне почет; впрочем, еще представится случай приобрести лучшие сведения на этот счет.
Несмотря на обширность пространства арены, юноша все-таки заметил мимолетный румянец и сменившую его бледность на лице гордой женщины, и то, что тотчас после нее префект преторианцев Макрин вместе с устроителем праздника и начальником школы гладиаторов приблизился к императору.
В то же время Диодор услышал слова своего соседа, одного из членов городского сената:
– Как все это идет мирно и спокойно! Мое предложение впустить цезаря в цирк среди полутьмы было превосходно. Против кого было направлять свистки, пока нельзя было отличить одного человека от другого? Теперь крикунов еще сдерживает восторг. Будущая императрица должна быть очень благодарна мне. Однако же она напоминает мне персидских воинов, которые перед тем как идти в битву привязывали к своим щитам кошек, так как они знали, что их неприятели египтяне скорее согласятся совсем не стрелять, чем подвергать священных животных гибели от их стрел.
– Что хочешь ты этим сказать? – спросил другой.
И получил веселый ответ:
– Госпожа Эвриала служит для невесты императора защищающей кошкой. Из уважения к матроне и из страха, как бы не оскорбить ее, до сих пор не тронули покровительствуемую ею девушку даже вон те, наверху.
При этом он указал на группу «зеленых» в одном из верхних рядов, а его сосед прибавил:
– Их сдерживает еще кое-что другое. Трое безбородых людей позади них – полицейские. Они рассеяны по всей толпе зрителей, точно изюмины в тесте для пирогов.
– Это благоразумно и хорошо, – сказал сенатор. – Иначе нам, может быть, пришлось бы оставить цирк гораздо скорее, чем мы вошли в него. Мы и без того едва ли вернемся домой в сухом платье. Взгляни только, как колеблется свет светильников там, наверху; слышны также взрывы бури, а подобное сияние исходит не из какой-нибудь машины. Отец Зевс выпускает молнии, и если разразится буря…
Здесь его речь была прервана громкими фанфарами, к которым примешивались отдаленные раскаты грома, последовавшего за первою молнией.
Вскоре за тем началось шествие, которое обыкновенно предваряло начало каждого представления.
Еще до появления императора были поставлены на предназначенных для них постаментах статуи богов – во избежание того, чтобы зрители не воспользовались появлением обоготворенных цезарей для демонстраций.
Теперь жрецы в торжественной процессии окружали статуи, и Феофил, и жрец Александра пролили на песок возлияния, первый – в честь Сераписа, а второй – в честь героя города. Затем появились распорядители праздника, гладиаторы и бойцы со зверями, которые должны были сегодня выказать свое искусство во всем его блеске.
Когда жрецы приблизились к ложе императора, тот подошел к барьеру и приветствовал зрителей, которым он теперь показался в первый раз.
В то время как он находился еще за ширмою, Эвриала, согласно его приказанию, подвела к нему Мелиссу, и он милостиво приветствовал ее. Теперь же он, по-видимому, перестал интересоваться ею, а также ее отцом и братом. По его же распоряжению несколько мест отделяло его кресло от ее места. По совету главного жреца он намеревался показать ее толпе рядом с собою только тогда, когда вторично будут спрошены звезды и когда, может быть, даже послезавтра, ему можно будет ввести Мелиссу в цирк в качестве своей жены. Он выразил матроне свою благодарность за то, что она сопровождает девушку, и с хвастливою добродетельною гордостью прибавил, что мир узнает, в какой степени он способен приносить в жертву самые пламенные желания своего сердца требованиям приличий.
Факелоносцы-слоны доставили ему удовольствие, и в ожидании новой встречи с Мелиссой и открытого со стороны публики признания, что он выбрал себе в жены первую красавицу города, он веселый приехал в цирк. Еще и теперь лицо его имело свое естественное выражение. Только по временам лоб его хмурился, потому что за ним следил взгляд жены Селевка.
Подобно богине мщения стояла против него эта отважная женщина, «разряженная Ниобея», как он презрительно назвал ее, говоря с префектом Макрином, и, странно, при всякой мысли о ней к нему возвращалось воспоминание о Виндексе и о его племяннике, казнь которых ускорило заступничество Мелиссы; и теперь ему сделалось досадно, что он не откликнулся на просьбу любимой девушки.
Его беспокоила мысль, что имя Виндекс означает также «мститель», и она не выходила у него из головы так же как и эта «Ниобея» с ужасными, мрачными глазами.
Он не хотел больше видеть ее, и гладиаторы облегчили ему это; они приближались как раз в эту минуту, и их дикий энтузиазм заставил его на некоторое время забыть обо всем остальном.
В то время как одни потрясали мечами и щитами, а другие не менее страшным оружием – сетками и гарпунами, из их грубых глоток бешено и хрипло раздавалось:
– Привет тебе, цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!
По десять человек в каждом ряду, отдельными отрядами они скорым шагом обошли окружность арены.
Между первою и второю группами гордо выступал один человек, как будто он сам по себе был чем-то особенным, причем он с надменным самомнением покачивал бедрами.
Это было право, с бою им приобретенное, и по его широкому грубому лицу со вздернутым кверху носом и толстыми губами, из-за которых сверкали белые зубы, точно у кровожадного зверя, хорошо было видно, что плохо пришлось бы тому, кто вздумал бы попытаться ограничить это право. При этом он был маленького роста, но на высокой груди, необычайно широких плечах и коротких кривых ногах мускулы выступали подобно упругим шарам и показывали знатоку, что это – гигант по силе. Передник составлял всю его одежду, так как он гордился бесчисленными шрамами, красными и белыми, которые сверкали на его светлой коже. Маленький бронзовый шлем он сдвинул назад, чтобы перед народом не был скрыт ужасный вид левой части его лица, из которой лев, во время борьбы гладиатора с ним и тремя пантерами, вырвал ему глаз с частью щеки. Он звался Таравтасом, и был известен по всей империи как самый жестокий из всех гладиаторов. Он завоевал себе и второе право – биться только на жизнь и смерть, ни под каким условием не даровать помилования и не требовать его и для себя. Там, где он только появлялся, не было недостатка в трупах.
Цезарь знал, что и ему было дано прозвище Таравтас, уподоблявшее его этому человеку, и не был этим недоволен; он прежде всего хотел казаться сильным и внушать ужас, а это был такой гладиатор, подобного которому не существовало в его ремесле. Они также знали друг друга, и Таравтас после какой-нибудь трудно доставшейся ему победы, при которой он проливал свою кровь, получал подарки от своего царственного покровителя.
И вот, когда покрытый рубцами седоголовый герой, который в длинной веренице гладиаторов представлял собою отдельное звено, переполненный тщеславием, обводил зрителей своими маленькими наглыми глазами, то заранее исполнилось его желание, из-за которого он так часто рисковал жизнью в цирке, желание привлечь на себя взгляды всех присутствующих. Это сознание заставляло подниматься его грудь, удваивало силу напряжения его упругих жил. Дойдя до ложи императора, он с редким фехтовальным искусством и твердою устойчивостью начал описывать своим коротким мечом столь быстрые круги над своей головой, что казалось, будто этот меч превратился в сверкающий стальной диск. При этом звук его сильного неблагозвучного голоса, прокричавшего: «Привет тебе, цезарь!», покрыл голоса других гладиаторов, и император, не удостоивший еще ни одного александрийца ласковым словом или приветливым взглядом, начал самым милостивым образом кивать этому дикому чудовищу, сила и ловкость которого нравились ему.
Этой-то минуты и ожидали «зеленые» в третьем ряду. Никто не мог запретить выказать симпатии тому человеку, которому выказывал одобрение сам цезарь, и вот они стали кричать: «Таравтас, Таравтас!»
Они знали, что этим подстрекали каждого сравнивать императора с кровожадным чудовищем, имя которого утвердилось за ним в виде прозвища, и кто чувствовал охоту высказать свою досаду и неудовольствие, тот понимал суть дела и присоединял свой голос к этим восклицаниям.
Таким образом, огромный театр вскоре снова огласился криком: «Таравтас!»
Сперва он раздавался беспорядочно, с отдельных мест, но вскоре никто не знал, кто именно начал – толпа во всех верхних рядах соединилась в единодушный хор, который с детским, постоянно усиливавшимся восторгом дал полную свободу своему долго сдерживаемому бешенству и выкрикивал имя Таравтаса в такт, точно по какому-то самообразовавшемуся ритму.
Вскоре стало казаться, как будто целые тысячи заучили безумный стишок, разраставшийся во все более и более громкий рев: «Тарав-тарав-таравтас!»
И как бывает всегда в тех случаях, когда в преградах сдержанности сделан пролом, так и здесь одно препятствие падало вслед за другим, и в одном месте слышался пронзительный свист камышовой дудки, а в другом резкий шум трещотки. В промежутках раздавались страстные возбужденные голоса тех, которых пытались утихомирить ликторы или городские стражи, а также голоса их протестующих соседей. И весь этот буйный, мятежный шум сопровождали страшные раскатистые громовые удары все быстрее надвигавшейся бури.
Складки на лбу императора показывали, что и в его душе собирается буря, и едва он понял намерение толпы, как тотчас же, вне себя от ярости, приказал префекту Макрину усмирить ее.
Тотчас загремели предостерегающие фанфары за фанфарами.
Распорядители празднества почувствовали, что эти демонстрации, которые грозили навлечь несчастье на весь город, можно остановить только тогда, когда им удастся приковать внимание зрителей посредством возбуждающих душу и сердце сцен. Поэтому было приказано теперь же начать представление самым эффектным зрелищем, которое было, собственно, предназначено для его заключения.
Это зрелище должно было изображать, как римские воины овладели лагерем алеманнов. В этом скрывалась лесть цезарю, который после сомнительного покорения им этого храброго народа присоединил к своим именам имя «Алеманник». Одна часть бойцов, представлявшая германцев, была одета в звериные шкуры и украшена длинными рыжими и белокурыми волосами. Другие гладиаторы изображали собою римский легион, который должен был стать победителем.
Все алеманны были приговоренные к смерти мужчины и женщины, которые должны были защищаться без брони и щитов, вооруженные только тупыми мечами. Женщинам были обещаны жизнь и свобода, если они после завоевания лагеря нанесут себе острым клинком, который был дан каждой из них, по крайней мере такие раны, чтобы потекла кровь. Той из них, которая сумеет при этом с совершенною естественностью придать себе вид умирающей, обещали дать особую награду.
К германцам с тупыми мечами были присоединены несколько гладиаторов, отличавшихся особенно выдающимся ростом и с острыми мечами, чтобы замедлить окончательную развязку.
Между тем как перед глазами зрителей в течение нескольких минут были собраны повозки, рогатый скот и лошади для составления лагеря и окружены стеною из бревен, камней и щитов, там и сям все еще слышались крики и свистки. Когда же гладиатор Таравтас в боевом уборе римского легата появился на арене впереди тяжеловооруженного отряда воинов и вновь приветствовал цезаря, то шум усилился снова.
Но терпение Каракаллы уже истощилось. Верховный жрец Феофил по его бледным щекам и дрожащим векам увидел, что в нем происходило, и, одушевленный искренним желанием оградить своих сограждан от беспредельного бедствия, стал перед статуей своего бога и воздел руки с мольбою.








