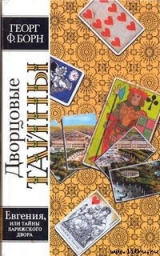
Текст книги "Евгения, или Тайны французского двора. Том 1"
Автор книги: Георг Фюльборн Борн
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 44 страниц)
VIII. ВЕРМУДЕЦ, МАДРИДСКИЙ ПАЛАЧ
Королева, возвратясь в покои мадридского королевского замка, после такого опасного приключения чувствовала себя больной. И Евгения казалась утомленной и жалкой, потому что только теперь проявились неизбежные отрицательные последствия пережитого страха и потрясения.
Но Мария-Христина была в страшном гневе и легко достигла того, что спустя уже несколько дней был вынесен смертный приговор пойманному преступнику, виновному в оскорблении ее величества, который находился в подземелье замка. Странный рассказ о похищении молодой королевы тайно и тем усерднее переходил из уст в уста. Со стороны двора употреблялись все усилия, чтобы его скрыть.
В испанской столице начало уже смеркаться. Наступил канун того дня, когда публично на плацу Педро в Мадриде должна была совершиться казнь дона Олимпио Агуадо. Последние лучи заходящего солнца золотили бесчисленные купола церквей и охватывали багровым пламенем окна высоких зданий.
По уединенной большой дороге в вечерние сумерки ехали верхом из Ла-Манча в Мадрид два всадника, закутанные в черные плащи. Прекрасным их лошадям, казалось, не шло плестись шаг за шагом, как при погребальной процессии, потому они беспрестанно фыркали и нетерпеливо поднимали и опускали свои головы.
Оба всадника были серьезны и молчаливы. Свои черные, остроконечные шляпы они надвинули на глаза и, если бы выглядывающие из-под их плащей концы сабель из чистого золота не показывали, что они носят под темным покровом, то их могли бы принять за дурных путников, с которыми на большой дороге встречаются неохотно.
Вскоре перед ними открылся королевский город со своими тысячами острых колоколен, которые, подобно мачтовому лесу, возвышались в заходящем солнце и выступали высокими куполами Святого Исидора и Святого Франциско. Правее от Мадрида они заметили скит святого Исидора, маленькую часовню, высоко почитаемую жителями города. У одной группы деревьев, вершины которых затеняли большую улицу, они сделали привал.
– Еще светло, Филиппо, – сказал один всадник, – обождем здесь, пока не стемнеет. Нам нужна предосторожность. Если нас узнают, не будет спасения Олимпио! Мы спокойно так далеко пробрались, теперь же должны подумать о цели приезда – об освобождении пленного Олимпио.
– Я горю нетерпением, Клод, – отвечал итальянец.
– У тебя слишком горячая кровь! Подумай, что мы должны проникнуть в королевский замок, который хорошо охраняется, – сказал серьезный, храбрый маркиз, не забывающий никогда об опасностях, которые им как карлистам угрожали в Мадриде, – я питаю надежду на дочь смотрителя замка. Я знаю, что эта девушка любит Олимпио!
– Тогда, без сомнения, она нам поможет, – рассуждал Филиппо, – нет лучше союзника, чем влюбленная девушка, к тому же если она дочь тюремщика!
– Не забудь, что эта Долорес должна сделать выбор между своим отцом и Олимпио! Если она освободит пленника королевы, который осужден на жестокую кару, то она погубит своего отца, ведь он отвечает за того. Это тяжелая борьба, которая предстоит ее сердцу, и мне нелегко вовлечь в нее бедную девушку. Если без ее помощи возможно освободить Олимпио из подземелья, тогда…
– Оставь бесполезные размышления, Клод, – прервал Филиппо маркиза де Монтолона, – без девушки освобождение немыслимо! Если тебе и удастся тайно пробраться в замок, то как же ты хочешь тогда проникнуть в подземелье, в особенности же открыть железные двери, которые так крепко закрывают старые тюремные камеры. Нет, нет, ты должен оставить свои бесплодные мысли. Олимпио должен быть вызволен из рук королевской партии, это намерение нас сюда привело, и тут не нужно долго размышлять.
Маркиз молчал. Он чувствовал, что Филиппо был прав, но, несмотря на это, он не мог отделаться от мысли о душевной борьбе, предстоявшей девушке.
В то время как итальянец в диком своеволии не имел к подобным мыслям никакого сочувствия, душа Монтолона была тронута глубже и серьезнее, может быть, потому, что его прошлое проложило путь к этому. По его прекрасному, благородному, серьезному взгляду часто можно было заключить, что это прошлое было весьма трогательно и в сердце этого благородного человека задело струны, которые при воспоминании часто еще колебались и уныло звучали. В тихие минуты, когда никто не обращал на маркиза внимания и никого не было вблизи, тяжкие впечатления давно прошедшего времени, казалось, так глубоко проникали в его душу, что кроткие, прекрасные глаза делались влажными и на его серьезном лице являлись следы прискорбного воспоминания. Если тогда кто-нибудь к нему подходил, то он обыкновенно своей нежной и красивой рукой стирал со лба морщины и скрывал предательские слезы.
Маркиз никогда не говорил о своем прошлом. Даже Филиппо и Олимпио, его вернейшие друзья и сподвижники, до сих пор не проникли в грустные тайны жизни маркиза Клода де Монтолона. На нем заметны были только последствия их: они сделали его кротким; через них он стал великодушным, бескорыстным, благородным человеком, который с истинной храбростью соединил в себе все прекрасные качества мужчины, почитавшего дружбу как высочайший и святейший дар богов. Наверное, он узнал в этой жизни, что любовь из-за корыстолюбия не может быть такой чистой и свободной, как дружба.
Начало уже смеркаться, когда оба карлиста, закутавшись в свои плащи и проехав опасную дорогу до самых ворот Мадрида, чтобы снасти пойманного Олимпио, все еще находились под тенью деревьев на большой дороге.
– Ночь настает, – сказал Филиппо, беспокойный итальянец, – мне кажется, что нам надо поспешить!
– В эту ночь Олимпио еще не сошлют или не передадут палачу, – вслух размышлял маркиз.
– Нет ничего хуже, как доверять этой Марии-Христине, Клод, меня одолевает мучительное беспокойство о нашем друге.
– Так отправимся, Филиппо! Пречистая Дева, помоги нам освободить Олимпио, не совершив преступления!
Итальянец медленно затянул поводья своей лошади, которая так же нетерпеливо, как и ее господин, прискакала к Толедскому мосту, ведущему через реку Мансанарес. И маркиз тихо подъехал к мосту, проследовал через него за своим спутником, Филиппо. Затем, спустившись немного с крутой улицы, они подъехали к школе тореадоров, бойцов с быками.
Наконец приблизились они к серым каменным воротам Толедо, которые представляют главный вход в Мадрид и ведут в улицу Толедо. Они беспрепятственно вошли в последнюю и постучались в один из домов, которых кругом было много, чтобы оставить в нем своих лошадей, и остальную часть пути продолжать пешком.
Закутавшись в свои плащи, шли они по мрачной, страшной улице, оканчивающейся площадью Де-ла-Себада, которая с некоторого времени была переименована в площадь Педро. Достигнув большого, окруженного домами плаца, они увидели, что на середине его устраивались подмостки. Филиппо при виде этого невольно остановился. Он узнал, несмотря на царившую вокруг темноту, помощников палача, которые ревностно занимались сооружением подмостков.
– Per Dio, – пробормотал он, – это худой признак, Клод.
– Что такое? – тихо спросил маркиз.
– Там устраивают эшафот, – отвечал итальянец, указав на середину плаца.
Это был ужасный факт для переодетых офицеров из войска карлистов. Худая встреча – Филиппо был прав.
Помощники палача стаскивали с запряженной двумя мулами телеги окровавленные доски. Другие вкопали уже в землю несколько столбов и по наставлению одного весьма высокого, одетого в черное платье мужчины наколачивали на них доски.
Удары молотков жутко отдавались в тишине ночи, и можно было наблюдать, как проходящие мимо с боязливым видом отворачивались от постройки, подымающейся посреди плаца. Филиппо не ошибся! Во мраке только что наступившей ночи устраивали эшафот. Высокий, одетый в черное мужчина с длинной седой бородой, стоявший на страшных подмостках, был Вермудец, мадридский палач, который получил приказание к будущему дню приготовиться к исполнению кровавого приговора.
Старый Вермудец привык к тому, чтобы быть аккуратным, если нужно было служить закону. Он стоял серьезно и важно, руководя работой своих помощников и удостоверяясь в безопасности и крепости эшафота; работа шла без перерыва. Палач стоял у колоды, в середине которой была гладкая прорезь для шеи осужденного, а по бокам находились крепкие ремни, которыми его притягивали.
Старый Вермудец привык к своей кровавой должности. Более тысячи голов отсек он у приговоренных в течение своей долголетней службы, и про него говорили, что он никогда дважды не поднимал своего блестящего топора. На вид палач был почтенным и величественным. Холодное, мертвое спокойствие лежало в чертах его лица, обросшего седой бородой.
Помощники его исполняли свою работу с грубыми шутками. На них были черные брюки и пестрые рубашки с засученными рукавами. На их головах с растрепанными, длинными волосами красовались красные горилласки. note 2Note2
Свешивающиеся на сторону шапки.
[Закрыть] Уже четыре угловых столба и пол эшафота были готовы, и теперь, тщательно сделав тяжелую колоду, подручные палача приступили к широким ступеням, ведущим к последней. Черное сукно, которым обтягивали страшную постройку, было уже приготовлено, и работа быстро шла к завершению.
Не говоря между собой ни слова, Филиппо и Клод, как бы имея один и тот же вопрос, приблизились к старому Вермудецу, который не обращал никакого внимания на проходящих мимо, ибо был занят только эшафотом.
– Эй, старик, – обратился к нему маркиз, – вы палач, как я догадываюсь.
Вермудец взглянул и безмолвно осмотрел с ног до головы закутанных в плащи господ.
– Да, господин, – сказал он без всякого изменения в выражении своего, как из камня высеченного, лица.
– Скажите, старый друг, вы, как я вижу, устраиваете черный трон, – продолжал Клод де Монтолон. – Вам работа заказана к утру?
– К раннему утру! Через несколько часов вы увидите площадь Педро заполненной любопытными. Мадридский народ постоянно стекается на такое зрелище.
– Per Dio, мы тоже бы рады посмотреть, старик, – заявил Филиппо. – Кто же это такой, кого вы на целую голову сделаете короче?
– Вы, должно быть, издалека пришли сюда, – сказал Вермудец, рассматривая обоих господ, – что вы спрашиваете меня об этом! Предводитель карлистов, Олимпио Агуадо, рано утром взойдет на эшафот.
Маркиз должен был собраться с духом, чтобы при этих словах не выдать себя.
– Олимпио Агуадо. – повторил Филиппо, побледнев, – он должен быть казнен!
– Вы удивляетесь этому, господин? Если бы он был простым солдатом, тогда был бы расстрелян. Но он считается мятежником и к тому же еще он виновен в оскорблении ее величества, поэтому попадает под топор Вермудеца. О, господа, не ужасайтесь так, я уже скольких генералов отправил на тот свет, когда суд произносил приговор. От этой руки пала голова Piero, мой топор казнил генералов Леона и Борзо. Почему же не должен мне повиноваться и предводитель карлистов Олимпио Агуадо!
Клод и Филиппо обменялись многозначительными взглядами.
– Он и еще кое-кто другой, кто этого сегодня не предчувствует, – сказал Вермудец странным пророческим голосом, – уже с гордым видом осмотрел эшафот, если бы я сделался его врагом, то через короткое время и он попал бы в мои руки!
– Пресвятая Дева, избавь нас от вас, – полушутливо, полусерьезно сказал итальянец и потянул за собой маркиза.
Мадридский палач посмотрел им вслед и опять обратился к своим помощникам, которые покрывали теперь окровавленные доски черным сукном.
– Ради святого креста, – шептал Филиппо, с мрачным видом идя с Клодом, – мы придем в последнюю минуту.
– Этого я не думал! Олимпио в руках палача! Этого не должно случиться, или я умру с ним!
– Время худое, Клод, слышишь? Башенные часы бьют полночь, – тихо сказал итальянец, – к утру окружат его монахи, и в шесть часов на дворе замка будут находиться войска, чтобы оказать Олимпио последние почести.
– Клянусь всеми святыми, я выбью его из их толпы и освобожу! Мы придем в самую пору!
– Еще одно. Что ты думаешь о графине Евгении Монтихо? – спросил итальянец. – Попытаемся через нее достигнуть освобождения Олимпио? Она может всего добиться через королеву.
– Не нужно никакого прошения, никакой милости, мой друг. Я освобожу пленника из замка, хотя бы ценой моей жизни! Старый Вермудец должен хоть раз напрасно наточить свой топор. Олимпио не должен пасть от руки палача, лучше я подам ему свой меч, чтобы он сам мог себя им пронзить.
Оба господина достигли плаца Де-Палацио и увидели перед собой большой четырехугольный замок с его бесчисленными окнами и балконами. Налево от них простиралась низкая, серая долина, которая отделялась от Мадрида протекающей перед замковым парком рекой Мансанарес, и простирается от ворот святого Винсента до ворот Сеговии. Направо от них лежал бугор El-Peztil, у подножья которого находились боковые постройки дворца.
На этой стороне замка, украшенной колоннами коринфского ордена, находились трое ворот со сводами. Между ними взад и вперед ходили часовые, держа в руках оружие, – их размеренные шаги глухо раздавилась на мраморных ступеньках портала. Филиппо и маркиз повернули во двор правого флигеля замка, в котором они надеялись отыскать лазейку во дворец.
IX. ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ПРИГОВОРЕННОГО
Старый смотритель замка, Мануил Кортино, который был так строг к своей дочери и проклял ее любовь, который оттолкнул сына донны Агуадо, когда тот поступил к карлистам, этот, по-видимому, такой суровый и требовательный человек был молчалив и мрачен. Он должен был вести в темницу Олимпио, которого он все-таки еще любил!
Престарелому смотрителю замка за всю его жизнь ничто не было так тяжело, как этот час и это приказание! Но он должен был повиноваться. Его обязанность была для него превыше всего. Он принес бы ей в жертву и Долорес, свое единственное дитя! Но его сердце обливалось кровью при мысли, что Олимпио, государственный изменник, был его пленником, этот мужественный, прекрасный, сильный Олимпио, который мог бы быть одним из первых офицеров королевского войска, а теперь должен был пасть от руки палача.
Кортино ходил молчаливым и сгорбленным. Он не говорил ни одного нежного слова ни своей дочери, заплаканных глаз которой не хотел видеть, ни Олимпио – тот казался суровым и холодным. Только что позволяли ему его обязанности, то он исполнял по отношению к пленнику, и более ничего.
Когда Кортино услышал приговор суда, о котором знал раньше, что Олимпио на следующий день должен быть публично казнен на площади, то, конечно, он должен был крепко стиснуть зубы, чтобы остаться господином своей скорби. Он совсем не спускался в свой нижний этаж. Долорес услышала ужасное известие от старой Энсины. Казалось, что он боялся за состояние своей дочери и не мог быть к ней суровым, так как ведь все на следующий день должно было кончиться.
Смотрителю замка принесли вино, которое пленнику полагалось в последний вечер. Старый Кортино получил все для последней трапезы преступника и должен был быстро выйти из караульни гвардии, которая была над его жилищем, в пустой коридор, чтобы никто не видел, что силы ему вдруг теперь отказали. Но он подавил свое смущение и постарался опять сделаться жестоким при мысли, что тот, к кому он теперь должен идти, был карлист, государственный изменник!
Итак, держа в одной руке вино, в другой ключи и свой фонарь, начал спускаться он по ступенькам, которые вели к подвалу замка, что находился глубоко под часовней во флигеле, в котором помещались караульная гвардия и его жилище. Старик должен был спуститься, пройти через многочисленные низкие повороты и затем опять идти по старой каменной лестнице, которая вела к тюремным камерам замка.
Скверный, удушливый, гнилой воздух переполнял эти глубокие подвалы, в которых ходы со сводами жутко освещались красноватым, мерцающим светом его фонаря. Здесь внизу была постоянная ночь, только в продолжение дня через маленькие, обнесенные решетками окна проникал скудный свет в камеры, тогда как в проходах царил вечный мрак.
Смотритель подошел к одной из низких железных дверей, находившихся по обе стороны коридора. Он выбрал из своей связки ключ и отпер тяжелую, маленькую дверь, послышался отвратительный, пронзительный звук. Кортино вошел в камеру Олимпио, узкую и низкую, в ней было совсем темно, так как уже наступила ночь. Жалкая кровать, стол с черным распятием и один стул – вот все, что заключала в себе камера, в которую проник свет фонаря.
Олимпио сидел на своей кровати и казался углубленным в свои мысли. Теперь он очнулся. По нему было видно, что он не был угнетен своим заключением, он и теперь еще был сильным и прекрасным юношей, которого боялись враги и которого любили друзья.
Конечно, перед его глазами могла бы предстать другая картина. Олимпио видел в своих грезах, как это часто случалось в последние дни, прекрасный образ графини Евгении, который произвел на него глубокое впечатление и незаметно вытеснил из сердца милую, прелестную Долорес. Казалось, что он только и думал о той, которую недавно носил на своих руках. Теперь же он видел перед собой старого, серьезного смотрителя замка.
Старик опустил фонарь на пол и приблизился к столу, чтобы поставить на него принесенное им вино рядом с кружкой для воды и хлебом. Олимпио наблюдал за каждым движением смотрителя.
– Как, Кортино, – сказал он, поднявшись, – что это значит? Вы приносите мне вино? Так действительно правда, что приближается мой последний час?
– Это так, благородный господин, приготовьтесь и откажите вашу душу Матери Божьей – перед утром прочтут вам приговор, что вам за государственную измену топором отрубят голову.
– Топором, Кортино, вы неправду говорите! Нет, ложь никогда еще не выходила из ваших уст, честный старик! Значит, меня хотят казнить, как бесчестного преступника? Меня хотят передать палачу?
– Это так, как вы сказали, дон Олимпио, – отвечал старый смотритель, – теперь конец вашему геройскому поприщу, на котором вы так много ждали себе лавров. О, если бы вы послушались старого Кортино!
– Без упреков, старик! Я знаю, что вы всегда желали мне добра. Я знаю тоже, что ваша Долорес меня очень, очень любила. Но я не был этого достоин, Кортино!
– Не говорите мне этого! Кто бы сказал мне это, тот имел бы дело со мной, даже если бы это были вы сами! Вы были прекрасный кавалер и прямодушный дон, каких только Мадрид заключал в своих стенах. Не рисуйте себя дурным передо мной, мой благородный господин, я знаю вас лучше!
С видом, выражавшим смущение, посмотрел Олимпио на старика, который так ревностно его защищал и отстаивал. Высокий, сильный юноша при мерцающем свете фонаря казался еще внушительней. Он протянул к смотрителю замка свои руки.
– Простите мне все, что я сделал вам и вашей дочери, Кортино! Передайте от всего сердца мой поклон Долорес и скажите ей, чтобы она обо мне много не грустила, потому что я этого не заслуживаю.
Я – беспокойный, неверный, дикий искатель приключений! Жизнь в армии ничего мне не обещала, и также я был бы, наверно, плохим мужем. Только скажите ей это, Кортино, слышите? Скажите Долорес, чтобы она не плакала обо мне! Но если она захочет принести умершему Олимпио букет из ее розанов на могилу, которую она будет искать в стороне у стены, где лежат самоубийцы и казненные, – там, Кортино, где разрастается плевел и не раздаются молитвы, тогда, говорю я, она сделает доброе дело для Олимпио Агуадо, который некогда ее очень любил. Да, Кортино, скажите это Долорес – тогда, может быть, хоть одна душа придет на мою могилу, чтобы за меня помолиться.
– Не одна, мой благородный господин, две придут, это – Долорес и ее отец, – вскричал теперь старый смотритель, у которого от печали навернулись слезы и сильно билось сердце. – Две придут, и ваша могила не должна быть опустелой, ее должны украшать самые лучшие цветы и лавровое дерево, хотя вы и ходили с карлистами. Я не знаю, отчего это, но в последние дни мне постоянно приходит на память ваша сиятельная мать, мой благородный господин.
– Молчите, Кортино, не напоминайте мне в эту ночь о моей матери! Слава Богу, что она не дожила до завтрашнего дня. Это удивительно, Кортино, чем становишься старше, тем больше узнаешь добродетелей и всемогущество промысла! Прежде я плакал у гроба моей матери и сокрушался, что она так рано отправилась в мир иной, теперь только я узнаю, почему это случилось! Прощайте, добрый старик, и поклонитесь от всего моего сердца Долорес. Милая девушка закрыла глаза моей матери! Слышите, Кортино, передайте ей этот поцелуй, который я запечатлел на вашей щеке! Теперь же оставьте скорби. В случившемся ничего нельзя изменить!
– Чтоб это я еще пережил, – говорил старик совершенно невнятным голосом, затем, ободрясь, он взял свой фонарь. – Не имеете ли еще какого-нибудь желания, или дела, или приказания, мой благородный господин? – спросил он, вытирая глаза.
– Да, Кортино, хорошо, что вы мне об этом напомнили! Домик, в котором умерла моя добрая мать, я завещаю вам и Долорес.
– Благодарю за вашу любовь, мой благородный господин, но мы, конечно, не перейдем в него.
– Почему, старик? Но если когда-нибудь вы будете жить милостынью и не в состоянии больше будете исполнять свою службу, тогда в окруженном виноградниками домике вы с Долорес могли бы жить хорошо, я думаю.
– Прекрасно, дон Олимпио, но вы забываете, что ваше состояние… – Старый смотритель остановился.
– Да, об этом я не подумал, Кортино! Все конфисковали! Тогда, конечно, я более ничего не имею! Последнее же мое желание: не гневайтесь на меня и передайте мой поклон Долорес. Прощайте!
Олимпио с глубокой признательностью пожал руку старого прямодушного смотрителя; даже фонарь затрясся, так глубоко был тронут Мануил Кортино этим последним прощанием со своим пленником. Он вышел через низкие двери и быстро их запер. Старый отставной солдат, может быть, за всю свою жизнь не испытал такой тяжелой сердечной борьбы, как в эту последнюю ночь карлиста Олимпио Агуадо!
В то время, когда внизу, в подвале, происходила эта трогательная сцена, Долорес сидела в комнате нижнего этажа, решетчатое окно которой выходило на большой двор замка. Она не зажигала свечей и стояла у маленького обвитого розанами окна. Цветы поникли своими верхушками, словно бы скучая, как и Долорес, ведь она совершенно забыла свои розаны и не поливала их, чего обыкновенно никогда не случалось с ней; они могли теперь все, все повянуть. Долорес больше не находила в них удовольствия.
Девушка стояла и смотрела своими прекрасными, помрачневшими и печальными глазами во мрак наступившей ночи. Темнота была ей приятна, теперь она могла совершенно спокойно думать и мечтать.
Плакать она не могла. Казалось, что слезы ее вдруг совершенно иссякли. Олимпио был осужден на смерть, последняя ночь его наступила.
Ей показалось вдруг, что к окну, у которого она находилась, кто-то приближался тихими осторожными шагами. Кто же ходил еще по дворцу! Опять сделалось тихо, и Долорес не обратила на это больше внимания, так как бывало иногда, что какая-нибудь любовная чета имела свои тайные свидания в столь поздний час ночи. Но через короткое время на дворе снова зашумело, и теперь Долорес ясно видела, что возле самого окна присела, скорчившись, черная фигура.
В другое бы время девушка при виде этого громко закричала от испуга – но странно, теперь она не знала никакого страха! Казалось, что тоска этой ночи отняла у бедняжки его весь. Она внимательно посмотрела на стоявшую на коленях фигуру и узнала теперь очертание мужчины, одетого в черный плащ.
– Сеньорита Долорес, – раздался тихий голос.
– Матерь Божья, что со мной случится, – шептала Долорес, не узнавая голоса и не догадываясь, кто появился у окна.
– Сеньорита Долорес Кортино, – раздалось яснее, – если вы внизу, в комнате, так дайте мне скорее знать.
– Кто это называет меня по имени? – спросила девушка.
– Вы одна, сеньорита? Вблизи нет вашего отца, смотрителя замка?
– Кто вы такой, кто из окна хочет сделать вход? Конечно, я одна, потому и говорите!
– Никто не может нас подслушать? То, что я имею вам сказать, никто не должен слышать.
– Так вы?.. – спросила вдруг Долорес, подумав о возможности, которая до сих пор ей не приходила в голову, и подойдя ближе к окну.
– Маркиз Клод де Монтолон, карлистский офицер! Теперь я весь в ваших руках, и достаточно одного вашего слова, чтобы и меня передать палачу, – прошептал стоявший у окна на коленях.
– О святые, никто не может вас там увидеть и найти! Чего хотите вы, благородный дон?
– Я все сделаю для Олимпио, которого хочу спасти.
– Матерь Божья, что я слышу!
– Все удастся, если вы захотите мне помочь, сеньорита!
– Чувства мои в смятении, – прошептала Долорес, поправляя обеими руками свои темные волосы. – Вы хотите спасти Олимпио?
– Потому и пришел я сюда, сеньорита! Но мы должны поспешить! Дон Филиппо ожидает нас с лошадьми на El-Pertil, около пятидесяти шагов отсюда. Если удастся нам освободить пленника из камеры, то через несколько часов он с нами будет далеко от Мадрида.
– Из камеры, – повторила Долорес, которая была поражена вдруг предложенным ей планом.
– Ваш отец, смотритель замка, имеет ключи, – шептал Монтолон.
– Вы рассчитываете, что я тайно должна взять ключи и открыть камеру,
– Вы только должны дать мне ключи, остальное предоставьте мне.
– Но мой отец, – говорила тихо Долорес, в душе которой действительно началась борьба, которую предвидел маркиз.
– Бедная девушка! Найти бы мне другое средство! Если бы приговор не должен был исполниться в наступающий день, то я не приготовил бы для вас этой борьбы.
– Мой отец обязан отвечать за пленников королевы. Что мне делать?
Клод де Монтолон от отчаяния ударил саблей о землю, он очень жалел Долорес!
– Скройте все! Отца вашего ни в чем не обвинят, если поутру не будет пленника и если он поклянется, что не отпирал дверь. Олимпио может быть освобожден с помощью поддельного ключа, – сказал он тихо.
– Да, да, вы правы, я должна его спасти, он не может умереть, – прошептала беспомощная девушка, – меня бьет дрожь. Мне кажется, что в моем сердце происходит борьба: что победит – справедливость или несправедливость? О Матерь Божья, что это за мучение!
– Время идет! Ни одной минуты мы не должны терять – уже за полночь!
– Я должна спасти моего Олимпио, вам нужны ключи. Если только никто не увидит вас на дворе…
– Никто не знает, что маркиз де Монтолон здесь, у вашего окна, меня скорее сочтут за вашего любовника! Где смотритель замка?
– Тише, прочь, я слышу его шаги, он возвращается из тюрьмы.
Предводитель карлистов исчез от окна. Тотчас после этого вошел в комнату Мануил Кортино. Он поставил на стол фонарь и положил около него ключи. Долорес видела, что он был взволнован.
– Я пришел от Олимпио, – проговорил он уныло, – состоялось последнее прощание! Он посылает тебе свой поклон.
Долорес поколебалась, не зная, что делать от безысходности и печали. Она видела своего отца глубоко тронутым и огорченным, она должна была скрыть от него намерение освободить своего любовника. Мучение, какое она претерпевала, было невыразимо! Рыдая, упала она на грудь старого отца, он понял, что она плакала об Олимпио. Что было вернее этого мнения?
– Мужайся и положись на Матерь Божью, – сказал он низким голосом, – она даст нам силу и спокойствие! Аминь!
Долорес почти задыхалась от печали и слез! Но она ничего не могла рассказать отцу о своем плане, хотела все сделать по совету друга, который не побоялся никакой опасности, чтобы сюда проникнуть.
Старый смотритель снял с гвоздя другие ключи и, словно искал еще занятия, чтобы рассеять свои мысли, ушел из комнаты. Долорес хотела его догнать, удержать и все ему рассказать, но она опустила в изнеможении свои белые руки.
Через несколько мгновений маркиз опять показался у окна.
– Скорее, ради всех святых скорее, сеньорита, иначе все пропало, – торопливо прошептал он.
Долорес подошла к столу, трясущимися пальцами взяла ключи, она была бледна, как смерть, и лихорадочно возбуждена. Девушка прислушалась, никто не идет. Как тень, подошла к окну.
– Я опять принесу вам их, сеньорита, – сказал Клод де Монтолон, осторожно беря ключи.
Сказал… и быстро скрылся, между тем как Долорес, закрыв лицо руками, рыдала. Внутренний голос говорил ей, что теперь жизнь ее на распутье и что ей предстоит пережить что-то ужасное.








