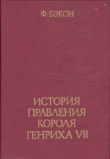Текст книги "Зрелые годы короля Генриха IV"
Автор книги: Генрих Манн
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Долина Иосафата
К востоку от города Иерусалима, в сторону, противоположную Средиземному морю, но невдалеке от Мертвого моря, лежит Долина Иосафата. Это впадина между городской стеной, кольцом окружающей город, и горой Елеонской. Нам знакома страна, нам знакома долина и слишком хорошо известен Гефсиманский[26]26.
…слишком хорошо известен Гефсиманский сад. – По евангельскому преданию, в Гефсиманском саду Христос произнес свою последнюю молитву, в которой просил Бога-Отца избавить его от мук распятия (так называемое «моление о чаше»).
[Закрыть] сад. Благочестивейшие люди желают быть похороненными только в Долине Иосафата, ибо трубный глас воскрешения и Страшного суда, когда прозвучит, прежде всего будет услышан там. А здесь, внизу, меж дерев сада, именно здесь был искушаем наш Господь. Иуда собирается его предать, что не укрылось от него, ибо великое тяготение людей отпасть от Бога открывается ему через собственную слабость. Ему не хочется умирать, и в Гефсиманском саду, с каплями смертного пота на челе, он говорит Богу: «Отче Мой! Если не может чаша сия миновать Меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя».
Долина Иосафата, так именовался королевский лагерь под Шартром, и однажды, когда король весь в грязи вылез из траншей, кого несли к нему навстречу? Генрих побежал, как мальчик, чтобы подать руку своей Габриели и помочь ей выйти из носилок: при этом он чуть не забыл госпожу де Сурди; а затем повел обеих дам в Иосафатскую долину. Габриель красовалась в зеленом бархатном платье, которое так шло к ее золотистым волосам: в туфельках из красного сафьяна ступала она по грязи, но при этом улыбалась победоносно. Длинное здание гостиницы было отведено возлюбленной короля; без долгих проволочек она в ту же ночь приняла там того, кто столь сильно желал ее.
Она поступила так по совету своей многоопытной тетки де Сурди, сказавшей ей, что она не пожалеет об этом, что король из тех, кто платит и потом, и что потом его влюбленность даже возрастет. Эта премудрая истина оправдалась, и первый, кто извлек из нее выгоду, была сама госпожа де Сурди, так как старый друг ее Шеверни получил от короля печать и стал именоваться «господином канцлером». Длительное несчастье делает недоверчивым. Когда тощий дворянин, приспешник покойной Екатерины Медичи, вдохновительницы Варфоломеевской ночи, вошел в комнату к королю-протестанту, каково ему было? Пот выступил у него на лбу, ибо он не сомневался, что над ним решили поиздеваться и вскоре его потихоньку уберут. Так принято было поступать в его время.
У окна подле короля стоял только его первый камердинер, господин д’Арманьяк, седой человек. Он все долгие годы сопровождал своего господина повсюду – в плен, на свободу, переживал с ним смертельные опасности и счастливые дни. Он спасал ему жизнь, добывал для него ломоть хлеба и отвращал беды, когда они грозили ему от мужчин. От женщин он никогда не предостерегал его, потому что и сам, как его господин, не ожидал от женщин ничего дурного, разве только от уродливых. А госпожу Сурди д’Арманьяк находил красивой, потому что у нее были рыжие волосы и дерзкие голубые глаза, которые неминуемо должны привести в восторг галантного кавалера с юга. Поэтому он заранее был на стороне господина де Шеверни и старался по мере сил, чтобы друг госпожи де Сурди встретил у короля хороший прием. По едва заметному знаку д’Арманьяк взял со стола печать и ключи и торжественно, как при официальной церемонии, вручил их королю, и тот поневоле подчинился тону, заданному первым камердинером, обнял господина канцлера, высказал ему свое благоволение и простил прежние грехи.
– Отныне, – так сказал король, обернувшись в глубь комнаты, – оружие, которое представляет собой эта печать, будет направлено господином канцлером не против меня, а против моих врагов.
Шеверни, хоть и видавший виды, тут онемел от изумления. В глубине комнаты слышен был шепот, ропот и, если верить ушам, звон оружия. То были протестанты, и недовольство их относилось не только к этой сцене: пребывание обеих дам в Иосафатском лагере не нравилось им. Их злило, что из-за дам, вместо завоевания важного пункта, Руана, зря тратится время на осаду Шартра. Они боялись еще больших бед от новой страсти короля, ибо на стойкость его в вере уже не надеялись.
Благополучно ускользнув из этой комнаты страхов, господин де Шеверни сперва никак не мог опомниться, но приятельница его де Сурди разъяснила ему, на чьей стороне сила в долине Иосафата. Во всяком случае, не на стороне пасторов. Однако оба сошлись на том, что Габриель должна держать у себя в услужении одних протестантов. Сама она тоже поняла, что это полезно. Впрочем, она преимущественно танцевала. Каждый вечер в Иосафате пировали и танцевали, то была весьма веселая осада. Когда все ложились спать, король, взяв сотню конных, отправлялся дозором. Ночь его была коротка, солнце заставало его за работой, а днем он охотился – и все оттого, что эта возлюбленная своим присутствием лишала его покоя, как ни одна до нее, и небывалым образом подхлестывала его силу и энергию. Тем более раздражало его, что осажденный город не желал покориться. Габриель д’Эстре, он знал отлично, послушалась практических советов, а не велений сердца, когда отдалась ему.
Генрих поклялся изменить это; у женщин бывают разные соображения, расчет не исключает у них чувства. «В сорок лет мы это знаем. В двадцать мы вряд ли польстились бы на возлюбленную, которая тащит за собой целый обоз непристроенных дворян. Никогда бы мы не поверили, что способны взять на себя труд явиться ей в целом ряде образов, от самого скромного до самого высокого – сперва старым низкорослым крестьянином, которому она говорит: до чего вы некрасивы; затем во всем королевском великолепии; затем солдатом, который повелевает, управляет и всегда бодрствует. Но под конец она должна увидеть победителя. Перед ним ни за что не устоит ее чувство, ибо женщины грезят о покорителях людей и городов и ради них готовы забыть любого молодого обер-шталмейстера. Тогда она станет моей, и исход борьбы будет решен».
Наконец Шартру пришлось сдаться, потому что королевские воины подкопались под самые его стены. Брали одно передовое укрепление за другим, а потом взяли замок и город; таким же образом взял Генрих и Габриель, которая, еще не любя его, уже делила с ним комнату в гостинице «Железный крест». Его упорство завоевало ему одно из передовых укреплений ее сердца, а когда он вошел в Шартр, у него были все основания полагать, что он проник и в твердыню ее души. То был ярчайший день, двадцатое апреля, то были гулкие колокола, вывешенные ковры, дети, которые усыпали весь путь цветами, духовенство, которое пело, то был мэр с ключом, а четверо советников держали синий бархатный балдахин над королем, и он, сидя в седле, созерцал свой город, едва завоеванный и уже восторженно встречавший его. Прекрасный день! Прекрасный день, и протекает он на глазах у любимейшей из всех женщин в его жизни!
Торжественный прием происходил в знаменитом, высокочтимом верующими соборе, а впереди толпы сияла возлюбленная со своей свитой, король являл ей свое величие и, поглядывая на нее искоса, убеждался, что она готова растаять перед этим величием. Какая-то тайная причина мешала ей, она покраснела, прикусила губу – да, усмешка выдала ее. Таким путем король, на беду, обнаружил, что позади нее в тени притаился кто-то: давно он не встречался с тем и даже не спрашивал о нем. Вон там прячется он. В первой вспышке гнева Генрих знаком призывает к себе всех своих протестантов, они прокладывают ему путь – он спешит к проповеди в дом, пользующийся дурной славой. Увы, это так – его пастору, чтобы молиться Богу, отведено помещение, где обычно выступают комедианты и бесчинствуют сводники и воры. Это место король предпочел обществу порядочных людей: поднялся такой ропот, что ему оставалось лишь покинуть Шартр.
Но сперва он помирился с возлюбленной, которая клялась ему, что собственные глаза обманули его, тот дворянин никак не мог находиться в церкви, иначе она бы знала об этом! Это был самый ее веский довод, Генриху очень хотелось счесть его убедительным, хотя нелепость его была очевидна. Где доказательство, что она действительно ничего не знала? Уж никак не в беспокойно блуждающем взгляде ее синих глаз, говорившем: берегись! И все-таки он согласился на примирение, именно потому, что не один владел ею до сих пор и хотел дальше бороться за нее.
Она отправилась назад в Кэвр, где он навещал ее и где господин д’Эстре заявил ему, что честь дома терпит один ущерб от такого положения. Оба выражались по-мужски.
– А как вы сами назвали свой дом? – спросил король.
– Непотребным вертепом, – проворчал честный малый. – Простые дворяне порочили его, не хватало только короля, теперь и он объявился.
– Кум, проще всего было бы вам сопровождать свою дочь в Шартр. Во-первых, вы могли бы следить за ней. Кроме того, вы были бы теперь тамошним губернатором. А вместо вас назначен господин де Сурди, но его все ненавидят по причине его уродства, и потом, он сразу показал себя хищным, – прямо не карп, а щука. Мне нужны честные люди, кум.
– Сир! Я всей душой стремлюсь служить королю, однако дом свой очищу от скверны!
– Давно пора, – сказал король, – и начать собираетесь с меня?
– Начать собираюсь с вас, – подтвердил господин д’Эстре, меж тем как лысина его покраснела.
Король ускакал, не повидав своей возлюбленной, а дорогой обдумывал предложение королевы Английской. От нее он может получить три-четыре тысячи солдат с содержанием за два месяца, и небольшой флот согласна она послать ему – только он должен всерьез заняться Руаном. Таково было ее требование, вполне понятное со стороны пожилой женщины, которая, кроме власти, не знает уже никаких других благ. Король пустил коня более быстрым аллюром, под конец перевел его даже на галоп, удивленные спутники отстали от него; он весь – движение, а в Англии неподвижно сидит старуха.
Елизавете теперь уже далеко за пятьдесят; радея единственно о своей власти, она казнила собственных фаворитов и с католиками у себя в стране поступала не лучше. Генрих же не пожертвовал ни одной женщиной, да и мужчин, хотевших убить его, он нередко миловал. Однако никакой Армады он не победил, это верно; такой удар всемирной державе нанес не он – к сожалению, не он. И будь Елизавете даже шестьдесят лет, ее народ не смотрит на годы, он видит великую королеву на белом иноходце, прекрасную, как всегда. Елизаветой руководит только единственно одна воля, которую не сломит ничто: ни жалость, ни любовь. «Имя „великий“ мне не пристало», – думает Генрих.
Лошадь его пошла шагом. «Имя „великий“ мне не пристало. Впрочем, разве можно сорокалетнему человеку медлить и откладывать свои личные дела? Я сам лучше знаю, что с Руаном мне спешить некуда, сперва надо пристроить господина д’Эстре». Это он и сделал вскоре. Он захватил город Нуайон и посадил туда губернатором отца Габриели. Честный малый сразу почувствовал, что отныне ничто не может его обесчестить. Дочь открылась ему: она надеется стать королевой.
Все слуги у нее были протестанты. Она давала пасторам деньги на их ересь, и вскоре сама была заподозрена в ереси. В течение лета король делал ей такие богатые подарки что, кроме личных трат, у нее хватало и для более высоких целей. Следуя совету тетки де Сурди, она завязала сношения с консисторией, нащупывая, согласятся ли там расторгнуть брак короля. Иначе, так намекали посредники, можно опасаться, что король отречется от своей веры. Таким путем он сразу завладеет своей столицей и будет достаточно могуществен, чтобы добиться у папы всего, чего пожелает, – вернее, того, что внушат ему госпожа де Сурди и ее тощий друг. Ибо влюбленный Генрих в это лето забыл все на свете. Такова, к сожалению, была истина.
Он продолжал быть деятельным в мелочах, иначе он не мог; но о дальних целях, к сожалению, не помышлял, и, так как, по сути дела, они были точно определены, он их не касался. Всякий вправе разрешить себе передышку, отвлечение, слабость. А быть может, это нельзя назвать слабостью, быть может, это только придаст силы для нового прыжка тому, кто уверен в своем деле. Не таковы уж женщины, их замыслам препятствует собственное сердце. Хотя клика Сурди пользовалась прекраснейшим орудием, однако и оно было подвержено слабостям женской природы. В замке Кэвр, где уже не жил никто, кроме нескольких слуг, Габриель принимала своего Бельгарда.
Английский посланник писал своей повелительнице из Нуайона, что король не может вырваться оттуда вследствие сильного увлечения дочерью губернатора. Последняя, правда, не раз исчезала из города, и королю незачем было следить за ней, ему обо всем доносили: в первый раз – куда она ездила, во второй – что она там делала. В третье ее путешествие он сам сопровождал ее на расстоянии и неприметно, потому что дело происходило ночью. Коню своему он обернул сукном копыта. В местах, освещенных луной, прятался в тень. Габриель ехала в низенькой полукруглой коляске, запряженной бараном, сама правила, а пышный плащ ее волочился по земле. Видение скользило в лунном свете. У Генриха сердце колотилось, и когда коляска огибала опушку, он ехал наперерез и нагонял ее.
Он добрался до Кэвра со стороны полей, привязал коня и прокрался в сад, который утопал в летнем цвету, так что скрыться здесь мог всякий. Однако Генрих чуял врага. Чувства, обостренные ревностью, распознавали в неподвижном теплом воздухе среди испарений листвы запах человека. «Отведи в сторону куст, один лишь куст, и откроешь лицо, которое не сулит тебе ничего доброго!» Но Бельгард не шевелился, он стоял так же неподвижно, как сам Генрих, пока их возлюбленная спускалась по лестнице к пруду.
Глубокая тишина природы. Листок, который она задела, продолжает шелестеть, в то время как она останавливается и вглядывается в темноту. Широкие ступени наполовину черны, наполовину залиты ярким лунным светом. Внизу таинственно мерцает вода. Скрытая складками плаща фигура словно отливает серебром; и рука, придерживающая его у шеи, оправлена в серебро. Большая шляпа, защитница на недозволенных путях, затеняет все лицо до подбородка, который кажется особенно белым. «О, бледный лик измены! О, женщина в ночи, зачарованная и обманчивая, как сама ночь!» Генрих теряет власть над собой, взор ему туманят слезы, он отводит куст, перепрыгивает через три ступеньки сразу, он возле нее, хватает ее, чтобы она не успела скрыться. Откидывает ей голову, говорит сквозь зубы:
– Бежать, прекрасная моя любовь? От меня, от меня?
Она пыталась овладеть собой, голос ее еще дрожал:
– Как могла я думать, что это вы, мой высокий повелитель!
Он медлил с ответом, прислушиваясь. И на ее лице он читал тревогу.
– Разве мы не созданы для того, чтобы угадывать друг друга? – спросил он элегическим тоном, соответствующим ночи и ее призрачным теням. – Разве магическое зеркало наших предчувствий не показывает нам, где находится и что делает каждый из нас?
– Да, да, конечно, мой высокий повелитель… – Сама не зная, что говорит, она прислушивалась к треску веток: он слабел, совсем затих. Она вздохнула с облегчением.
Генрих не хуже ее знал, кто это уходил.
– Сладостный вздох! Многообещающая бледность! К чему отрицать, что вы здесь ради меня. Мы не могли не встретиться. Ведь мы одни из тех вечных любовников, вокруг которых мир может рухнуть, а они и не заметят. Абеляр[27]27.
Абеляр Пьер (1079—1142) – выдающийся средневековый французский философ и богослов. Его чувство к девушке Элоизе стало примером страстной и верной любви.
[Закрыть] и Элоиза, Елена и Парис.
Она очень боялась, как бы он не догадался, что он здесь в роли не Париса, а Менелая. Но, с другой стороны, это смешило ее – она с иронией взглянула на него из-под полей шляпы и сказала:
– Мне холодно, пойдемте отсюда.
Он, взял кончики ее пальцев и, держа их в поднятой руке, повел ее по садовой лестнице, по спящему двору к левой башенке ажурной архитектуры. Лишь наверху, у себя в комнате, Габриель осознала, что происходит, и, так как изменить нельзя было ничего, она быстро сбросила с себя все одежды и скользнула в постель. Под кроватью на полу лежал тот, другой – до чего никак не могла додуматься рассудительная любовница. Только мужчина, исполненный страсти, угадал отчаянный порыв другого, был готов к тому, что соперник не устоит перед искушением, и, едва переступив порог, обыскал взглядом комнату. Кровать была ярко освещена луной.
Генрих лег рядом с возлюбленной, она с готовностью протянула к нему свои прекрасные руки. Тут он впервые заметил, что они несколько коротковаты. И больше всего его раздосадовало, что другой тоже знает этот недостаток. После любовных утех они захотели есть и открыли коробку с конфетами, которую захватил с собой Генрих. Они набили рты и ничего не говорили. Но вдруг Габриель услышала какой-то шорох, отличный от чавканья ее любовника. В испуге она сама перестала есть и замерла.
– Бери еще! – сказал он. – Разве у тебя в башенке водятся духи? Не пугайся их стонов, оружие у меня под рукой.
– О дорогой мой повелитель, это ужасно, не одну ночь провела я внизу у служанок, потому что здесь кто-то стонал. – На сей раз у нее не было охоты смеяться. Генрих сказал:
– А что если это дух Блеклого Листа? Я давно не видал его – может быть, он умер. Но все равно, дух или человек, а жить каждый хочет, – добавил он и бросил под кровать несколько конфет.
Оба ждали и в самом деле вскоре услыхали под кроватью хруст. Скорее, однако, злобный, чем жадный.
– Бежим! – молила Габриель, дрожа и цепляясь за него.
– Как же я могу встать, когда ты держишь меня?
– Возьми меня с собой, я боюсь. Открой скорее дверь, я брошу тебе платье.
Она перебралась через него и стала тянуть его за руку, моля в ужасе:
– Не заглядывай под кровать! Это может навлечь на нас беду.
– У меня есть враги и похуже духов, – сказал он невнятно от муки и страха, щемившего где-то внутри. – В духов я верить согласен. Но во что я не желаю верить и о чем не хочу знать, – это о прошлом, которое было для тебя плотью и кровью и теперь еще, пожалуй, живо в твоей памяти.
– Бежим, ради Бога!
– Мне все рассказали про тебя: о Блеклом Листе, о Лонгвиле и о том, что было до них. Когда покойный король пресытился тобой, он продал тебя левантинцу Цамету[28]28.
Цамет Себастьян (1549—1614) – сапожник-левантинец из свиты Екатерины Медичи. Благодаря своим денежным операциям стал богатейшим банкиром своего времени, ссужал деньгами Генриха IV и его возлюбленных, за что Генрих IV давал ему выгодные откупы и назначил его сюринтендантом дома королевы.
[Закрыть], который торгует деньгами.
Давая волю своему страданию, он собрался назвать еще многих, хотя сам не верил ни в одного, но тут она упала к его ногам и обнимала его колени, пока он не поднялся, да и тогда еще осталась на полу, своим телом загораживая от него кровать. Он оделся, ни разу и не посмотрев туда. Потом накинул на нее широкий плащ, поднял ее, спустился с ней по витой лесенке, снова прошел через двор, через сад до поля, где стоял конь. Он посадил ее впереди себя. Тихая ночь, обернутые копыта, мягкая вспаханная земля. Габриель явственно расслышала шепот у себя за спиной:
– Так лучше. Я знаю, искушение, испытание, трудные минуты. И все-таки я завоюю тебя, прекрасная моя любовь.
Катрин неизменно
Кэврский сад утопал в летнем цвету, так же как Генрих – в любви, а в таких случаях ни один человек не видит дальше, чем ступает его собственная нога. Но и эта буйная поросль чувств поредела, соответственно времени года, и король снова занялся своими делами, решительней прежнего, несколькими сразу, но с точным расчетом, хотя случались и неожиданности, от которых легко голову потерять. Громом среди ясного неба была затея его милой сестры покинуть и предать его и помочь сделаться королем своему возлюбленному, Суассону; тогда вместо брата Генриха она сама со своим любезным супругом взошла бы на престол. Генрих, как услышал об этом – принялся разить направо и налево. Он грозил смертью каждому, кто приложил руку к этому предприятию. Милой сестре своей он приказал явиться к нему в его кочевую резиденцию, а не то он велит доставить ее силой.
Он велит силой вывезти ее с их старой родины Беарна, где она занималась опасными происками против него, помимо того, что помышляла выйти замуж за кузена Суассона. После этого неминуема была бы попытка убить ее милого брата, что, наверно, сознавала и она. Многое становится понятно в жизни, когда брат и сестра росли вместе и были связаны общей целью на трудных переходах, без всякой опоры. Ведь, в сущности, никого нет у детей королевы Жанны, кроме них двоих. Как ни странно, Генрих позабыл Габриель д’Эстре, чужую, виновницу многих заблуждений и недоразумений, все это бледнеет перед заговором моей малютки Катрин.
Он назвал ее как в детстве и схватился за голову. Он не выходил из комнаты все те долгие дни, что карета ее катилась по дорогам, но под конец не выдержал и помчался ей навстречу. Облачко пыли вдали, в нем должно быть скрыто все то, что осталось от юной поры его жизни, исчезни оно, и он сам станет себе чужим. Облако пыли осело, карета остановилась. Никто не шевелится, сопутствующие дворяне сдерживают коней и смотрят, как король подходит к дверце кареты.
– Не угодно ли вам выйти, мадам, – предложил он церемонно, и только тогда показалась она. Неподалеку среди полей стоял крестьянский двор. Они бросили всех провожатых на дороге, они одни пошли туда. Генрих сказал: – Милая сестра, какое у вас угрюмое лицо, а я ведь так рад вас видеть.
Это звучало ободряюще, это звучало умиротворяюще и никак не походило на те слова укора, которые он готовил. Ответа не последовало, но сестра повернулась к нему лицом, и этого было достаточно: он остолбенел. Четкий свет пасмурного дня показал ему источенное скорбью лицо. Увядшей под бурей неясной розой предстало ему пепельнокудрое, едва расцветшее дитя – в его глазах по-прежнему и до конца ее дней едва расцветшее дитя; перемены были только внешние. Он успокоил свою совесть, которую встревожило это зрелище. «Следы старости только внешние – кто ж это стареет? Никак не мы». И все-таки он здесь увидал воочию: они старели.
Внезапно он понял свою собственную вину, о которой прежде не хотел и помыслить. «Мне давно надо было выдать ее замуж, хотя бы за ее Суассона. Много ли нам дано времени для того, чтобы быть счастливыми. Она немало боролась с собой из-за того, что он католик. А теперь и я скоро буду католиком. Во имя чего мы себя мучаем? Все мы комедианты. Totus mundus… Наше назначение в жизни по большей части просто игра».
Крестьянский дом был виден весь насквозь. Обитатели его куда-то подевались. Генрих обтер скамью перед входом, чтобы Катрин села на нее. Сам он, свесив ноги, уселся на стол, стоявший на врытых в землю бревнах.
– Во имя чего мы себя мучаем? – повторил он вслух. Говорить об измене было бы крайне неуместно, да и несправедливо – как ему вдруг стало ясно. – Сестра, – начал он, – знаешь ли ты, что главным образом из страха перед тобой я не решался изменить нашей вере: без тебя все было бы много легче. Как мог я думать, что ты сама отступишь от нее и пожелаешь стать католической королевой?
Он говорил просто, миролюбиво, почти весело, чтобы она улыбнулась, хотя бы сквозь слезы. Но нет, у нее по-прежнему было жалкое, замкнутое лицо.
– Брат, вы причина многих моих разочарований, – сказала она, когда уже невозможно было медлить с ответом. Он подхватил поспешно:
– Знаю. Но я питал наилучшие намерения, когда в добрый час предлагал кузену союз наших семей.
– Ты это сделал, чтобы привлечь его на свою сторону, а едва не стало тех, кто стремился возвести его на престол, как ты нарушил данное ему слово, – заключила она сурово; но сама разгорячилась, так что говорила сурово и в то же время искренне. Только одно это создание здесь на земле могло позволить себе такую откровенность с ним. Иначе он, пожалуй, и не узнал бы никогда, что нарушил данное слово. До сих пор оно казалось ему не особо веским, второстепенным, вроде самого Суассона. Настоящей угрозой был Лотарингский дом, настоящей угрозой продолжал быть Габсбургский дом. «Милого кузена можно было устранить одним безответственным словом: ты получишь мою сестру, обещание дано, и конец». В ту пору дворяне-католики особенно настойчиво требовали, чтобы Генрих решался и переходил в их веру, а не то они провозгласят королем кузена. «В общем, все это было несерьезное дело, – твердил себе Генрих, – разве я бы иначе забыл о нем? Теперь оно стало изменой. Значит, я способен на измену».
Сестра кивнула; она читала в его лице.
– Всегда во всем твоя выгода, – сказала она серьезно, но уже не сурово. – О счастье других ты забываешь, и все-таки – ты добрый, тебя называют гуманным. Только, увы, ты забывчив.
– Сам не знаю, как это получается, – пробормотал он. – Помоги мне, милая сестра, – попросил он, уверенный, что «помоги мне» больше тронет ее сердце, чем «прости мне».
– Что ты хочешь сказать? – спросила она нарочно, ибо думала о том же, о чем и он, – о созыве в Париже Генеральных штатов.
Он заявил презрительным тоном:
– Мой побежденный враг Майенн хорохорится и рассылает гонцов для созыва Генеральных штатов, чтобы королевство сделало выбор между мной и Филиппом Испанским. Им недостаточно проигранных битв.
– А королевство может выбрать и графа де Суассона, – наставительно сказала она. – Он тоже Бурбон, как ты, но уже католик.
– Клянусь Богом, тогда я поспешу отречься.
– Брат! – в ужасе произнесла она; в сильнейшем волнении бедняжка вскочила со скамьи и неровными шагами – хромота была теперь очень заметна – побежала вдоль низкого забора фермы. С дерева свешивался персик, она сорвала его и принесла брату. Тот поцеловал руку, из которой взял плод.
– Несмотря ни на что, – сказал он. – Мы остаемся сами собой.
– Ты – без сомнения. – Сестра напустила на себя тот строгий, но рассеянный вид, высокомерно-рассеянный, с каким всегда говорила о его амурных делах, впрочем, и о своем собственном непозволительном поведении тоже. – Ты опять завел себе особу, которая доведет тебя до чего угодно. Не из-за Генеральных штатов отречешься ты от нашей веры, – заявила она, хотя это совсем не вязалось со сказанным ранее. – Нет. Но стоит мадемуазель д’Эстре пальцем поманить, как ты предашь и нашу возлюбленную мать вместе с господином адмиралом, и нас, живых свидетелей.
– Габриель сама протестантка, – возразил он, чтобы упростить дело, – ведь она, во всяком случае, поддерживала отношения с пасторами.
Катрин сделала гримасу.
– Она интриганка, сколько врагов нажил ты из-за нее. Наверно, она потребовала, чтобы ты арестовал меня, и приехать сюда мне пришлось по ее приказу. – Принцесса негодующе оглядела грязный двор, по которому бродили куры. Генрих горячо запротестовал:
– Об этом она не вымолвила ни единого слова. Она рассудительна и во всем покорна мне. Зато ты сама затевала против меня преступные козни, а возлюбленный твой самовольно покинул армию.
Его вспышка заметно ее успокоила: это удивило его. Он осекся.
– Продолжай, – потребовала она.
– Что же еще, довольно и того, что твое замужество поставило бы под угрозу мою жизнь. Если у вас будут дети, то убийцы, подстерегающие меня, не переведутся никогда, это все мне твердят в один голос: а ведь я ничего так не боюсь, как ножа. Молю Бога, чтобы он даровал мне смерть в бою.
– Милый мой брат!
Она стремительно шагнула к нему, она раскрыла объятия, и он прильнул головой к ее плечу. У нее глаза остались сухими, принцесса Бурбонская плакала не так легко, как ее венценосный брат; воображения у нее тоже было меньше, и опасность, которая будто бы грозила его жизни в случае ее замужества, казалась ей измышлением врагов. Тем неизгладимее ложилась ей на сердце скорбь этой минуты; но его подернутый слезами взор ничего не прочел на состарившемся лице сестры.
После этого она напомнила ему еще только об одном давнем событии, которое произошло к концу его пленения в Луврском дворце и, собственно, послужило толчком к бегству. Он застал тогда сестру свою Екатерину в пустой зале со своим двойником: у него было то же лицо, та же осанка, но особенно убеждала в их тождественности одежда незнакомца, такая же, как у Генриха, и сестра опиралась на его руку, как обычно на руку Генриха.
– Я нарочно нарядила его, чтобы усилить природное сходство, – так сказала она теперь, стоя посреди крестьянского двора. – Съешь персик, я по лицу вижу, что тебе хочется съесть его. – Он послушался, задумавшись о тайных пружинах, воздействующих на повседневную жизнь.
Отшвырнул косточку. Произнес задумчиво:
– Недаром я готов грозить смертью всякому, кто хочет рассорить нас. Не в моих привычках грозить смертью – ради престола я бы не стал это делать, только ради тебя.
Таким образом, оба одинаково по-родственному заключили разговор, который привел к цели, хотя и оставил неразрешенными многие сомнения. Они невольно повернули руки ладонью кверху, заметили это, улыбнулись друг другу, и брат проводил сестру назад через поля.
И словно их могли подслушать посреди дороги, Генрих прошептал на ухо Екатерине:
– Катрин, не верь ничему, что мне вздумается говорить и делать в дальнейшем.
– Она не будет королевой?
На этот прямой вопрос, ради которого она совершила весь долгий путь, он ответил неопределенно, но тоном, который устранял все недоумения:
– Ты всегда останешься первой.
Принцесса приказала своим людям поворачивать назад. Король молчал, и ей повиновались среди всеобщей растерянности. Стоило ради этого ездить так далеко. Принцесса со своими дамами и с арапкой Мелани села в карету, король крикнул кучеру, чтобы гнал лошадей. Сам он поскакал рядом с каретой, по пути нагнулся к дверце, схватил руку принцессы и некоторое время держал ее. Начался лес, дорога сузилась, королю пришлось отстать. Он остановился и глядел вслед карете, пока она почти не исчезла из вида, и пустился назад, лишь когда облако пыли совсем сомкнулось над ней.