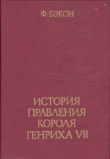Текст книги "Зрелые годы короля Генриха IV"
Автор книги: Генрих Манн
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Возврат
– Сир! Все посторонние лица удалились, и даже ваши приближенные покинули дворец по многим причинам, из которых я вижу три. Во-первых, вы никого не задерживали и не просили остаться, даже наоборот. Во-вторых, вы сегодня были на редкость радостны, а большинству недоступна ваша радость. Этого нельзя сказать про испанцев. Они одни вполне отдают вам должное, потому-то они и удалились прочь, как истинные, достойные вашего величества враги. Но те, что остались здесь, не смеют выставлять себя вашими врагами, это теперь не ко времени. От них ждут мгновенного превращения в ваших друзей и верноподданных; и не просто из страха перед наказанием, что было бы вполне понятно и согласно с человеческой природой. Нет, без всякого наказания, только под действием вашего непостижимого милосердия, сир, всяческим изменникам, убийцам, неистовым подстрекателям и присяжным лгунам надлежит сразу покориться и обратиться к истине. Сир! Вы лучше других понимаете, что никто из них этого не хочет, даже если бы и мог. Вот вам вторая причина, почему эти залы опустели.
– А третья? – спросил Генрих, так как Д’Арманьяк умолк и занялся каким-то делом. – Причин ведь было три?
– Есть и третья, – медленно повторил дворянин, после того как высек огонь и зажег несколько восковых свечей. – Хорошо, что ваши достопочтенные старейшины принесли свечи. Сир! А теперь посмотрите по сторонам. Вы за целый день не успели оглядеться в своем Луврском дворце.
Генрих послушался и тут только заметил, что все кругом опустошено. Недаром в самый разгар своей беспокойной и многоликой радости он упорно ощущал, будто находится вовсе не там, где находится. Это Лувр – но опустошенный… Впечатление подтвердилось после того, как он и господин д’Арманьяк со свечами прошли вверх и вниз по гулким лестницам и галереям. В комнате старой королевы Екатерины Медичи, именовавшейся мадам Екатерина, первый его взгляд упал на ларь, на котором Марго, его Марго, имела обыкновение сидеть, зарывшись в большие кожаные фолианты. Он не замедлил убедиться, что ларь – только мираж, созданный неверным пламенем свечей и его воспоминаниями, а действительность – пустое место.
Мертвы, как и многие прежние обитатели дворца, были его покои. Вот сюда, в один из давних дней, вошли двое в черном, развернули на столе лист бумаги с изображением вскрытого черепа, а мать юноши Генриха только что умерла от яда, и та, кого он считал отравительницей, сидела против него. Стола уже нет, значит, нет и всего остального. Самое яркое прошлое бледнеет, когда не видно стола и ларя. Однако заглянем в другую комнату: там высокий камин все еще поддерживают мраморные фигуры Марса и Цереры работы мастера по имени Гужон. При виде их в памяти всплывает то, что некогда произошло здесь. Из призрачных глубин поднимается карточный стол и зловещая партия в карты. Кровь неиссякаемой струей сочилась тогда из-под карт, как знамение для игроков, и все они действительно умерли, и нет уже их карт, и нет уже их крови.
Вот тут, между гобеленами, которых теперь нет, с криком пробежал Карл Девятый и, чтоб не слышать воплей убиваемых, захлопнул вот это окно, на котором сейчас отсутствуют занавеси. От своей Варфоломеевской ночи искал прибежища в безумии. Он представлялся помешанным во время всего путешествия по дворцу, которое было путешествием по преисподней. Бесчисленные мертвецы… «Друзья и враги, где вы? Куда делась Марго? Раз нет опрокинутых кресел и нет вышивки, желтой с фиолетовым, – она покрывала двух молодых мертвецов, которые лежали тут друг на друге, – значит, и ничего не было. Без декораций нет и действия; история теряет опору, когда исчезает соответствующая обстановка. Я рад, и мне не верится, что я нахожусь там, где нахожусь», – пробежала в мозгу одинокого человека заученная мысль, когда он, держа перед собой огарок свечи, бродил все медленней, все тише, вернее, крался вдоль стен.
Единственный живой его спутник отправился в старый двор, называемый Луврским колодцем, разыскать на кухне челядь и добыть чего-нибудь на ужин. Время от времени он кричал снизу ободряющие слова: д’Арманьяк был встревожен состоянием духа своего господина и во что бы то ни стало хотел принести ему вина. Генрих в самом деле был близок к галлюцинациям. В большой галерее на него внезапно пахнуло ветром. В окнах, только что закрытых, между тусклых рам, ему привиделись очертания людей, он узнавал кавалеров и дам прежнего двора, они оттесняли друг друга, чтобы посмотреть на воронье. Стая ворон спустилась в Луврский колодец, приятный им запах приманил их, и, когда стемнело, они набросились на свою добычу.
Видение рассеялось, ибо д’Арманьяк крикнул снизу, что заметил в одном из дальних окон полоску света. Если и это ошибка, то он пошлет за вином кого-нибудь из караульных солдат, разве можно, чтобы господин его остался трезвым в такой вечер, как сегодня.
– Потерпите немножко, сир!
Нет, терпение было в настоящую минуту самой последней из добродетелей короля. Внезапно он встрепенулся: приближались крадущиеся шаги – почти неслышно, даже для его тонкого слуха; однако его предупредило какое-то чувство, то же чувство возврата к былому, которое показало ему кавалеров и дам прежнего двора. Но с духами надо обходиться, как с живыми. Кто признается им, что принимает их за нечто иное, тому они могут стать опасны. Он высоко поднял огарок и в решительной позе ждал, что будет.
Появилась согбенная фигура человека, которого легко можно было принять за нового маршала Бриссака; на протяжении шага Генрих заблуждался. Но именно этим шагом фигура вступила в полосу слабого света, и тут обнаружилось чуждое лицо, даже более, чем чуждое, – совсем потустороннее. Глаза потухшие, черты стертые. Под белыми волосами какое-то расплывчатое белесое пятно, нельзя дотронуться до него рукой, не то все исчезнет. А это было бы обидно.
– Меня зовут Оливье, – сказал призрачный голос.
Генрих заметил, что видение еще более сгорбилось и что оно явно испытывает страх. Но страх – последнее из чувств, которое когда-либо проявляли духи. Перед чем еще, в самом деле, им дрожать? А видение, назвавшееся Оливье, дрожало.
– Убирайся прочь, – крикнул Генрих, не столько рассердившись, сколько желая испытать видение. И оно ответило:
– Не могу. Я прикован к этому дворцу.
– Очень жаль, – сказал Генрих по-прежнему резко, хотя и порядком удивившись, какие силы могли приковать кого бы то ни было к опустошенному Лувру. – Давно ты здесь?
– С незапамятных времен, – раздался ответный вздох. – Сперва краткие годы радости, а затем бесконечные – возмездия.
– Выражайся яснее, – потребовал Генрих, ему стало жутко. – Если ты явился с какой-нибудь вестью, я хочу понять, о чем идет речь.
Тут призрак, именуемый Оливье, упал на колени – правда, очень осторожно и бесшумно; однако в движении явно не было ничего призрачного; просто жалкий человек опустился телесной своей оболочкой еще на одну ступень самоуничижения и к тому же заскулил.
– Сир, – сказал он. – Пощадите мои преклонные лета. Какая вам корысть вешать меня. Мебель все равно не вернется. Я и так уже давно расплачиваюсь за то, что был бесчестным управителем вашего Лувра.
Генрих понял, и этого было достаточно, чтобы он успокоился.
– Ты опустошил весь дворец, – подтвердил он. – Отлично. Ты крал, ты сплавлял все на сторону; это для меня вполне очевидно. Не мешает еще узнать, как это происходило, а главное, как можно было, чтобы дворцом королей Франции управлял такой паяц.
– Да я и сам теперь не понимаю, – ответило с пола жалкое отребье. – Однако, когда я получил эту должность, все дружно одобряли назначение такого почтенного человека, который всегда толково управлял собственным имуществом. Никто не сомневался, что он убережет от убытков и французскую корону. Я сам мог присягнуть в этом. Сир! Я отнюдь не был паяцем, но, к сожалению, на себе испытал, как становятся им.
– Как же?
– Причин много.
– Должно быть, три.
– В самом деле, три. Сир! Откуда вы знаете?
Он прервал себя, чтобы заскулить еще жалобнее. Затем умоляюще протянул руки, ладонями кверху.
– Я не могу дольше держаться на колене одной ноги и на кончике пальцев другой, это неестественное положение для тела, я же вдобавок истощен голодом. Страх веревки долгие годы приковывал меня к этому заброшенному дворцу и его глубочайшим подземельям. По большей части я не решаюсь зажигать огонь, чтобы не видно было света, и за пищей крадусь по ночам. – И тут же изобразил, как он крадется: на четвереньках вид у него был совсем собачий. С этой самой последней ступени унижения он произнес: – А когда я явился сюда много лет назад, я выступал прямо и внушительно впереди целого полка слуг, и несметные богатства были доверены мне. Этот вот промежуток занимал стол чистого золота на лапах с рубиновыми когтями. Ковры на этом вот простенке изображали вытканную пятью тысячами жемчужин свадьбу Самсона и Далилы, а также деяния Гелиогабала[47]47.
Гелиогабал – римский император с 218 по 222 г. Отличался жестокостью, развратностью и самовозвеличением.
[Закрыть]. – И былой повелитель замка с необычайным проворством обежал на четвереньках указанные места; видно было, что он давно отвык передвигаться иначе.
– Довольно! – приказал Генрих. – Встань! – Старый плут потряс длинной, как у пуделя, гривой, но все же поднялся, правда, пошатываясь. – Старый плут, – сказал Генрих с ноткой ободрения в голосе, – поведай мне твои тайны!
Он надеялся, что сумасшедший запрятал остатки пропавших сокровищ в чуланы и в труднодоступные тайники Лувра; Генрих припомнил, что ему самому поневоле пришлось обнаружить здесь много убежищ в ту пору, когда дело шло для него о жизни и смерти. Однако сумасшедший совершенно неожиданно завел речь о другом.
– Сир! Я повстречал вас в темноте, после того как улизнул от вашего дворянина, который заметил мою свечу. Наверно, вы в темноте увидели старых знакомых. Прежний двор воротился. Воздух наполнился благоуханиями дам и кавалеров, к ним примешались ароматы кухни. Большие факелы озарили красным светом ослепительную роскошь зал и покоев.
– До этого дело не дошло, – пробормотал Генрих, пораженный и, к досаде своей, снова охваченный трепетом.
– У меня доходило и до этого, – сказал старый плут и даже попробовал рассмеяться. – Я всегда и неизменно ощущал на себе бдительный взгляд невидимых существ, а порой они даже становились видимы. Мне приходилось расплачиваться за то, что я был человек гуманистически образованный, сведущий в истории. Мне бы следовало тогда еще удалиться и отказаться от должности управителя. А что я сделал вместо этого? Устраивал празднества, пышно пировал с другими богачами такого же толка, терпел всяких блюдолизов, лишь бы они достаточно правдоподобно изображали прежний двор. Особенно много было к моим услугам прекрасных и дорогостоящих дам – жемчужин, а не дам, они-то и поглотили в конце концов мое состояние.
– Это легко было бы предугадать, старый плут, – вставил Генрих.
– Но если бы я хоть на одну ночь остался во дворце без людей, – прошептал сумасшедший, – невидимые существа, которые были повсюду и время от времени показывали свой лик, непременно свернули бы мне шею.
– Итак, тебе было невыносимо пребывание здесь, – заметил Генрих. – А второе?
– Второй причиной был дух времени. Весь Париж впал в распутство, вследствие тяжких заблуждений, меж тем как ваше величество разыгрывали победителя в ваших прославленных сражениях, а когда вам приходила охота, осаждали город и морили нас голодом. Кто не мог швырять деньгами, проливал кровь. Не стану говорить, что это случалось и здесь, во время бесконечных оргий.
– Довольно, – снова приказал Генрих. – Продолжай! Мало-помалу у тебя явилась необходимость очистить помещение.
Жалкая фигура пригнулась так низко, что белые космы закрыли все лицо.
– Между тем я при всем высокомерии был полон отчаяния. Сир! Поверьте просвещенному гуманисту, что отчаяние делает высокомерным, а высокомерие граничит с отчаянием. Я хотел дойти до конца начатого, в этом и было мое искушение, я по сию пору горжусь им, ибо оно достойно завершило жизнь человека, в прошлом большого и могущественного, который исчерпал все утехи и дочиста опустошил дворец французских королей.
Генрих сделал вывод.
– Во-первых, тебе было не место здесь; во-вторых, ты творил все гнусности, какие только были в ходу в твое гнусное время, вплоть до людоедства. И наконец, ты в своей дерзости дошел до любопытства к смерти. Ты не замедлишь встретиться с ней.
Но тут раздался голос живого человека, господина д’Арманьяка. Он говорил снаружи, взобравшись до половины к одному из окон так, что мог только заглядывать внутрь, – надо же было ему узнать, с кем его господин беседует в темноте. Прилепленный к голому полу, последний огарок свечи чуть мерцал. Д’Арманьяку многое удалось услышать.
– Сир! – сказал он, – выкиньте паяца мне в окно, чтобы я воздал ему по заслугам.
Видение, назвавшееся сперва Оливье, теперь казалось отрешенным от всего земного, кроме своих сугубо личных дел. Оно пропустило мимо ушей и слова короля, и возглас его дворянина.
– Сейчас я пробегусь по-собачьи, – прошелестело оно, в самом деле опустилось на четвереньки и весьма ловко обежало комнату. Затем видение выпрямилось, насколько это было для него возможно, и с твердостью почти человеческой произнесло: – Песье обличье – это вечное возмездие, а когда-то были краткие годы радостной жизни. В промежутке не угодно ли полюбоваться на кутилу и петуха в курятнике: он перед вами. Когда я вывез и обратил в деньги благородные сокровища королей, ох, как быстро мои драгоценные дамы отобрали их у меня, как они гордились благородным происхождением моего богатства и как любили меня за то, от души любили.
– Все? – спросил Генрих с брезгливым участием.
– Все. А число их было внушительное, двузначное, и вторая цифра вчетверо больше первой.
И тут впервые бледное, расплывчатое лицо сделало попытку прищуриться, а из-под прищуренных век блеснула слабая искра; то же самое заметил Генрих у своего последнего убийцы. Впрочем, число его не удивило, оно было равно тому числу любовниц, какое приписывалось ему самому. Именно оно, а никакое другое, должно было прозвучать из уст сумасшедшего; нет, он не настолько сумасшедший, чтобы упустить возможность вовлечь короля в свои делишки и тем самым напоследок облагородить и оправдать их.
– Двадцать восемь, – шепнул пес и петух, лжевельможа, вампир, бесчестный кастелян и призрачный паяц.
Тут Генрих без всяких церемоний схватил его за шиворот и выбросил в окно. Господин д’Арманьяк подхватил комочек на лету и тотчас понес его к месту назначения. Одинокие шаги удалились.
Последняя свеча догорела, растаяла, погасла; но королю, сегодня захватившему власть, еще больше недоставало сейчас стула, которого здесь не нашлось. День был тяжкий, и тяжелее всех показался Генриху этот последний час. Встреча с Оливье доконала его; она была самой смутной, но она же была и самой осмысленной. Пусть в ней не хватало здравого смысла, это не мешало ей быть оскорбительной, а еще оскорбительнее то, что сумасшедший именует себя гуманистом; и недаром он вовлекает короля в свои запутанные дела: «В конце концов одна женщина стоит мне больше, чем все приписываемые мне двадцать восемь любовниц. У меня всего три рубахи. Свою столицу я на десять лет освободил от податей и поборов, из-за чего мне только труднее будет скупить остальные части моего королевства. Я должен способствовать расцвету ремесел, вместо войны, которая до сих пор была главным промыслом. Я все еще не вижу, откуда у каждого моего подданного, хоть время от времени, возьмется курица в горшке».
Он подошел к окну, в которое наконец-то из разорвавшихся облаков проник лунный свет. «Работы столько, – так думал он, – что одному человеку ее не одолеть. Я знаю второго, кто будет работать со мной, и больше никого. Это королевство нуждается во всем сразу, а ко дню моей смерти оно должно быть первым королевством Запада. Держитесь стойко, король Генрих и верный его слуга Рони, пока вы живы. Что будет после меня? Я женат и не имею наследника. Бесценная моя повелительница, подари мне сына, чтобы я владел моим королевством».
– Я никогда не буду владеть им без тебя и твоего лона. – Последние слова он произнес уже не про себя, он обратился с ними ввысь, к луне. Они прозвучали так же интимно, каков был и свет луны.
И с этой минуты король, сегодня захвативший власть, направил свои мысли к светилу, где, как ему вообразилось сейчас, обитала прелестная Габриель. Ведь он сам поселил ее в изящном и скромном дворце поблизости отсюда; и кроткое светило кажется таким же близким. «Гирлянды восковых свечей горят в этот час в ваших покоях, мадам. Я стою, вслушиваюсь и вдыхаю ваш отблеск, маркиза».
В тот миг, когда он зашел в своих мечтаниях далеко, явился его первый камердинер и поставил все на место сообщениями более житейского свойства. Прежде всего, ему удалось отыскать для короля спальню, куда он и повел его. Генрих миновал множество лестниц и галерей, не обращая внимания на окружающее. Его не интересовало также, что еще успел предпринять д’Арманьяк. Тот начал сам, снимая башмаки со своего господина:
– Так называемый Оливье закован в цепи и заточен в темницу.
– Он уже давно был заточен здесь, в Лувре, – зевнув, заметил Генрих. Д’Арманьяк перебил его не без строгости:
– Верховного судью вашего парламента подняли с постели, и он поспешил явиться, чтобы допросить его. Обвиняемый сознался во всех своих преступлениях, они составят перечень, для которого потребуется несколько писцов. На рассвете его будут судить.
– Какая спешка! Где его повесят? А что ты делаешь с моими башмаками, почему ты столько времени теребишь их?
– На Луврском мосту будет он висеть, чтобы Париж видел воочию, как карает король. Сир! Башмаки мне придется разрезать на вас. Их не стащишь. Они собрали липкую грязь со всего города и присосались к вашим ногам.
– Сильнее всего дождь лил, когда уходили испанцы. Оставь на мне башмаки, чтобы я во сне вспоминал испанцев. Смертного приговора Оливье я не подпишу.
– Сир! Вы не будете любимы в народе, если пес, петух или паяц, распродавший вашу мебель, не будет висеть на Луврском мосту.
Д’Арманьяк незаметно взрезал заскорузлую кожу башмаков и, сняв их, согрел ноги короля в своих руках. При этом он поднял к нему лицо, и Генрих заметил, что д’Арманьяк уже не тот, каким был двадцать лет назад. Тот бы не сказал: «Сир! Вы не будете любимы в народе». Даже ни на миг не обеспокоился бы по этому поводу – во-первых, потому, что не допускал даже такой мысли, а главное, потому, что не в обычае отважного бойца тех времен было предаваться размышлениям. Он, не мешкая, являлся на выручку всякий раз, когда господин его попадал в опасные положения, даже самого герцога Гиза, признанного любимца народа, д’Арманьяк без промаха разрубил бы пополам, как он после своего успешного вмешательства заявил в кичливой речи; герцог задним числом побледнел, услышав это.
– Старый друг, – озабоченно сказал Генрих. – Что сталось с тобой?
На лице дворянина была написана кротость, доходящая до робости.
– Раньше ты бы не ставил любовь моего народа ко мне в зависимость от виселицы. – Арманьяк стареет, – решил государь. Однако вслух этого не сказал. – Должно быть, самоуверенность убывает с годами, – заключил он.
– Вы узнаете эту спальню? – неожиданно спросил д’Арманьяк. Генрих удивленно оглянулся. Комната средних размеров, убогая дощатая постель с соломенным тюфяком; только странно, что вверху под полуразрушенным потолком висят остатки балдахина. В течение десятилетий держались они над тем местом, где некогда молодой король Наваррский со своей женой покоился на брачном ложе, а его сорок дворян разместились вокруг; слишком рано поднялся он с этого ложа. Была еще ночь, которой суждено было стать ночью убийств до самого белого дня.
– Зачем я здесь? – спросил король, который сегодня захватил в свои руки власть. – Я не хочу задумываться над этим. Вешайте вора на мосту, чтобы моя столица узнала: привидения изгнаны отсюда. Я не желаю больше встречаться с ними. Я буду жить в Лувре, как в новом дворце, ни слова о старом, ни единого воспоминания. И народ у меня новый, который хранит молчание о былом так же, как я сам, – нерушимое молчание. Я буду трудиться заодно с моим народом. Привидение висит, и кончено. Мой народ будет любить меня за то, что я тружусь вместе с ним.
Два труженика
Странная чета посетила в это утро мастерскую дубильщика Жерома, расположенную под сводом ворот, между улицей и двором, в очень людном месте. Тот, что пониже, был король, а повыше ростом – его верный слуга, по имени Рони. Об этом, немедленно по их появлении, узнали все. Солдаты очистили середину улицы с криками:
– Дорогу королю!
Потеха началась, когда король спросил старика ремесленника:
– Скажи, хозяин, нужен тебе подмастерье? – Дубильщик от смущения сказал «да», и король, не долго думая, скинул кафтан, засучил до плеч рукава рубашки и бойко принялся за работу, стараясь во всем подражать мастеру. При этом ежеминутно делал промахи, а главное, упускал куски кожи, которые уплывали в сток, шедший через двор к вырытой там яме. Раньше, чем дубильщик заметил беду, в яму успело попасть несколько кусков кожи. Сначала он задумался, следует ли ему отнестись к этому обстоятельству с покорностью, принимая во внимание особу короля, или по-хозяйски. И решился действовать, как подобает хозяину, а не подданному, то есть без обиняков требовать возмещения убытков.
У входа толпились зрители; расчетливый хозяин надеялся выудить у короля по меньшей мере столько золотых, сколько кож уплыло в яму. Однако убедился, что тут есть человек, который перещеголяет его в денежных расчетах: дворянин и приближенный короля. Господин де Рони упорно торговался, пока не дошел примерно до настоящей стоимости товара. Удивленный дубильщик почесывал затылок, а зрители смеялись над ним. Король, все время молча работавший, жестом водворил тишину и, пока мыл руки и одевался, обратился к присутствующим:
– Добрые люди, я только что попробовал свои силы в новом ремесле и должен сознаться: ничего хорошего из моей работы не вышло, всякое начало трудно; впрочем, у меня вам и не следовало учиться, как правильно обрабатывать кожи. Я просто хотел наглядно показать, почему наша отечественная кожа, некогда столь высоко ценимая в Европе, теперь не находит сбыта. Причина в том, что после бесконечной междоусобной войны с неизбежной неурядицей и безработицей развелось немало таких негодных подмастерьев, как, например, я. Мой хозяин Жером больше и не держит их, с ними у него кожи только бы уплывали. Правда, хозяин?
– Золотые ваши слова, сир! – сказал дубильщик, решив, что пора переходить на почтительный тон. – И откуда такой высокой особе знать про наши дела?
Генрих был осведомлен о них через своего слугу, который все узнавал Бог весть каким путем. У солдата Рони были необыкновенные способности к хозяйственным делам, и король решил, что пора начать извлекать из них пользу, отсюда и посещения людных улиц этой странной четой. Король незаметно подмигнул своему слуге; затем снова обратился к народу.
– Дети! – заговорил он. – Дети, помните о славе наших ремесел. Хотите прятать в чулок звонкую монету, а?
Они ответили «да», пока еще нерешительно. Король продолжал спрашивать:
– Вы ведь не прочь сытно поесть, дети? Чтобы по воскресеньям была курица в горшке, а?
Тут они громогласно выразили свое одобрение. Две женщины пожелали королю здравствовать.
– А я желаю, чтобы народ мой всегда был сыт, – ответил он. – Есть у вас сыновья? – спросил он женщин. – Каких лет? Что они делают?
Он узнал, что юноши ничего не делают, ибо ремесла находятся в упадке.
– Все оттого, что ваши сыновья ничему не учатся. Где они? Подать их сюда! – приказал король, а так как мальчуганы, естественно, были в толпе зевак – где же им еще быть, ведь с улицей, на которой родился, расстаться нелегко, – король немедленно передал их мастеру. И каждого погладил по голове. Только от этого, ни от чего другого, обе матери заплакали. Другие женщины вторили им, и картина получилась бы очень назидательная и поучительная, если бы Рони и дубильщик не стали снова ожесточенно торговаться из-за платы за учение. Наконец приближенный короля широким жестом вручил мастеру деньги, при этом у него на пальцах сверкнули драгоценные каменья. Напоследок король наказал мастеру давать юношам вдоволь белого хлеба и вина; если же они окажутся совершенно неспособными к работе, то половина платы за учение останется мастеру; остальную сумму он должен принести в Лувр.
Расчетливость короля больше расположила к нему людей, чем его щедрость. А потому они расступились перед ним и очистили середину улицы без вмешательства солдат. Но случилось так, что как раз в эту минуту, словно по расписанию, на улице появились носилки; на раскрашенном лакированном балдахине колыхались перья, перед домом дубильщика носилки остановились.
– Это улица Де-ла-Ферронри? – спросила сидевшая в них дама одного из носильщиков. Но тут к носилкам уже подоспел господин де Рони, он настойчиво зашептал:
– Мадам, ради Бога, замолчите. Вас привела сюда чистая случайность, мы ведь так сговорились.
– Простите. Какая я стала беспамятная. Я позабыла свою роль, – сказала Габриель, вид у нее правда был болезненный и усталый. Господин де Рони предпочел за нее произнести следующую фразу, чтобы она не сбилась опять.
– Как странно, что мы встретились в таком большом городе! Можно подумать, будто здесь только одна улица.
Это была реплика для Генриха, который не замедлил ее подхватить. В это время колокола на соседней церкви прозвонили обеденный час.
– Мадам, – заговорил король, держа шляпу в руке, – я как раз торопился домой, чтобы сесть за стол в один час со всеми порядочными людьми. – Народу явно понравилось, что его обычаи так строго соблюдаются. Когда слуги уже поднимали носилки, Габриель поспешила вставить еще одно замечание: она вообще все время нарушала заранее предусмотренный порядок.
– Сир! Какая странная вывеска на доме, из которого вы только что вышли.
Генрих оглянулся. На стене было изображено сердце, увенчанное короной и пронзенное стрелой.
Генриху становится страшно, он сам не знает, почему холодный ужас сжимает ему сердце. Увенчано и пронзено. Обратившись к Габриели, он говорит:
– Мадам! Есть сердце, которое по вашей милости испытывает ту же участь: увенчано и пронзено.
Он сказал это тихо, для нее одной. Взял кончики ее пальцев, которые она ему протянула, и так сопровождал сидящую в носилках даму сквозь одобрительно перешептывающуюся толпу. Рони следовал за ними, лицо его не выражало ничего, кроме гордого достоинства. А за личиной мелькала мысль: «Галиматья». Только это ей и нужно. Впрочем, его личное мнение о прелестной д’Эстре и без того было раз навсегда составлено и гласило: она глупа. Однако с недостатком ума, равно как и с другими ее опасными качествами, он склонен был мириться и пока что ладить с ней. Деятелям молодого государства необходимо держаться друг друга, ибо в новую власть начинают верить только после того, как она в сознании людей примет определенные формы.
Так двигались они: носилки, король, его верный слуга – двигались под охраной немногочисленной стражи по кишащему людьми Парижу, который еще так недавно не пропустил бы их безнаказанно. Рони из улицы в улицу тщательно отмечал все, что говорилось. Генрих делал вид, будто ничего не слышит и занят всецело своей дамой. Однако не упускал ничего. Кто-то громко спросил в толпе: что это за красотка? На что невежа солдат ответил, оттесняя любопытного с дороги:
– Это королевская шлюха. – Солдат вовсе не думал выразить презрение, он просто употребил то слово, к которому привык. Однако он был из личной охраны короля, кругом засмеялись, и, прежде чем смех стал пагубным, Генрих сам присоединился к нему. Таким образом смех остался безобидным.
Он хотел, чтобы и все протекало безобидно. Переход от недавнего беззакония к господству права должен совершиться незаметно, словно ничего не случилось. Зато сам он глубоко проникся сознанием, что это решающие дни как для него, так и для королевства; и чему дашь теперь волю, того никогда больше не вернешь. По имени он был королем уже пятый год. «Откуда у меня взялось столько терпения?» – подумал он про себя. Постоянная тревога терзала его, ему казалось, что он нужен одновременно повсюду и каждая минута может быть решающей… Он это тщательно скрывал и от уличной толпы, и от своего подневольного двора, и от своего тайного совета. Был прост, кроток и благодушен и именно потому вскоре слег в жестокой лихорадке, той самой, которой всегда расплачивался за тяжкие труды и коренные перемены в жизни. Пока что болезнь исподтишка завладевала им и по нему ничего не было заметно. Разве что среди множества людей, у которых он был на глазах, нашелся бы особенно тонкий наблюдатель. Тому, по крайней мере впоследствии, кое-что стало бы ясно. Когда его величество в урочный час слег в лихорадке и тихо что-то бормотал нараспев в подушку, – только его сестра и первый камердинер слышали, что это были гугенотские псалмы; тут-то и можно было сказать: «Ага, вот оно что! Теперь понятны очень многие странности».
Подобного рода заключения были чужды его привычному спутнику Рони; приближающейся лихорадки он, разумеется, не замечал. Экономика вкупе с баллистикой поглощали его, – не считая забот о собственном преуспеянии. Губернатор города Манта – это все, чего ему до сих пор удалось добиться. Его милостивый, но осторожный государь не спешил вводить протестанта в финансовую коллегию, члены которой, все сплошь католики, восприняли бы такое назначение как настоящий переворот. И не столько из соображений религии, сколько из страха за свои чрезмерные доходы. Расхищение государственной казны до сих пор почиталось вполне естественным и дозволенным для целой армии финансовых чиновников, вплоть до самой ее верхушки. Но вот какое-то чутье подсказало им, что захват власти королем Генрихом ставит не только под сомнение, но и под угрозу их привычки.
Король пробовал предостерегать их, сначала, правда, в виде шутки, в тех случаях, когда старался показать свою доступность, а случаи такие бывали постоянно. Он все еще продолжал водить знакомство с простым людом, сам разъезжал повсюду, когда того требовали дела, и играл с горожанами в мяч, а выигранные деньги прятал в шляпу.
– Эти денежки я придержу, – заявлял он, – их у меня никто не стянет, они ведь не пройдут через руки моих финансовых чиновников. – Его слова немедленно доходили до ушей этих последних, тем не менее они не особенно боялись короля, который в веселую минуту может сказать лишнее, они чуяли, что опасность надвигается с другой стороны.