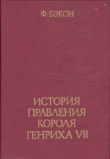Текст книги "Зрелые годы короля Генриха IV"
Автор книги: Генрих Манн
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Слуга короля
Вслед за этим он, не медля и не простившись, покинул город; у Арманьяка всегда были наготове дорожные мешки и оседланы лошади. Генрих решил несколько отдалиться от семьи д’Эстре, воевать и скакать по стране не обремененным излишними тяготами. Однако от тоски по Габриели и оттого, что ему приходилось стыдиться ее, он в траншеях у Руана подвергал свою жизнь опасности. Королева Англии сурово осуждала его за это, о чем он узнал из писем своего посла Морнея. Многие дворяне-католики предупреждали его, что не могут выжидать, пока он решится принять другую веру. Майенн назначил им последний срок перейти, пока не поздно, на сторону большинства. Времени до созыва Генеральных штатов у них осталось в обрез. А между тем твердо решено, что избран будет король-католик. Среди всех тревог Генрих однажды видит, как по улице Дьеппа, мерно покачиваясь, двигаются носилки. Он тотчас понимает, кто скрыт в них, сердце его начинает бурно колотиться, но это уже не радость и не бурное желание, как тогда, в Долине Иосафата, когда носилки появились в первый раз. Многое изменилось с тех пор.
Он пошел к себе в дом и ждал ее там. Габриель, одна, смиренно вошла в комнату.
– Сир! Вы оскорбляете меня, – сказала она без жалобы или упрека, во всей своей равнодушной красоте, и красота эта мучила его, как нечто утраченное. Его взор открывал черты, выходившие за пределы совершенства; а между тем оба они молчали из страха перед неизбежным разговором. Намек на двойной подбородок увидел Генрих. Ничтожная складка, уловимая лишь при определенном освещении, но прекрасная свыше всякой меры!
– Я готов принести вам извинения, мадам, – услышал он свои слова, такие официальные, какие говорят чужому человеку. Однако она не изменила тону сдержанной интимности.
– Как могли вы поступить так несправедливо, – сказала она, качая головой. – Вы должны были защитить моего отца и меня от жителей Нуайона, которые отказывают нам в уважении.
– Его нельзя и требовать от них, – ответил он резко, но при этом жестом указал ей кресло. Она села, после чего еще строже поглядела на него.
– Вы сами виноваты во всем. Почему вы немедленно не покарали наглецов, которые оклеветали перед вами господина д’Эстре?
– Потому что они были правы… Покупки торчали у моего губернатора из каждой прорехи платья. Мне казалось, будто меня самого поймали с поличным.
– Какое ребячество! Это его маленькая, безобидная слабость, за последнее время она, пожалуй, возросла немного. Мы к этому привыкли; по забывчивости я не успела предупредить вас. Моей тетушке де Сурди часто приходилось ездить к торговцам и разъяснять недоразумение. Впрочем, обычно дело идет о дешевых безделках.
– Кольцо не безделка, – заявил он и в растерянности поглядел на ее изумительную руку, как она покоилась на локотнике и как блестел на ней камень. То самое кольцо, она его носит! – Удивляюсь, – произнес он, хотя в голосе его звучало скорее восхищение. – Однако, мадам, объясните мне, что делает мой губернатор с детскими игрушками?
Она посмотрела на него, и взгляд ее преобразился. Прежде холодный и ясный от гнева за нанесенные оскорбления, он теперь затуманился нежностью. О! Это была не насильственная нежность!
– Габриель! – воскликнул вполголоса Генрих; уже поднятые, руки его снова опустились. – Зачем нужны игрушки? – прошептал он.
– Они приготовлены для ребенка, которого я жду, – сказала она, опустила голову и робко протянула к нему руки. Покорно и в сознании своих прав ожидала она поцелуев и благодарности.
При следующем их свидании она потребовала большего: король должен назначить господина д’Эстре начальником артиллерии. Он обязан дать удовлетворение ее отцу, на этом она настаивала. Почему именно такое удовлетворение? Она не объясняла. Генрих попытался обратить все в шутку.
– Что понимает господин д’Эстре в применении пороха? Не он ведь взорвал серую башню.
Ее взорвал барон Рони, когда король осаждал город Дре. Рони, искусный математик, владел также секретом подкопов и взрывчатых снарядов. «Подкоп господина де Рони» – во время осады Дре это было ходячим выражением, насмешкой над кропотливыми трудами честолюбивого педанта, длившимися шесть дней и шесть ночей, пока толстые стены серой башни не были начинены порохом, – целых четыреста фунтов пошло на них. Весь кочевой двор вместе с дамами собрался на этот взрыв и изощрялся в остротах, когда сперва только повалил дым и послышался глухой треск, а затем семь с половиной минут – ровно ничего. Казалось, ученый вояка наказан за самонадеянность, однако башня вдруг треснула сверху донизу, раздался небывалый взрыв, и она рухнула. Никто этого не ожидал, даже и осажденные. Они стояли на башне, и множество их погибло. Немногие спасшиеся получили от короля по экю. Рони, который имел все права стать губернатором, снова был оттеснен, прежде всего потому, что принадлежал к «той религии». Его соперник, толстый плут д’О, мог вдобавок обещать королю ту долю из общественных средств, которую не прикарманит он сам. Ну, как же ему было не стать губернатором?
Но должность начальника артиллерии, по крайней мере, оставалась еще свободной, и Генрих твердо решил отдать ее за заслуги своему Рони. Он хотел преподнести отважному рыцарю эту награду, когда тот вернется из города и крепости Руана, куда услал его король с поручением сторговаться, за какую цену сдадут город.
– Прекрасная любовь! – говорил Генрих Габриели д’Эстре. – Возлюбленная моя повелительница! – умолял он. – Не просите меня об этом. Выберите для господина д’Эстре все, что вам заблагорассудится, только не управление артиллерией.
– Как могу я послушаться вас, – отвечала она. – На меня и на моего отца весь двор будет смотреть пренебрежительно, если вы не дадите нам этого удовлетворения.
Быть может, упрямство ее объяснялось беременностью. На время Генрих отделался неопределенным обещанием и, не мешкая, послал в Руан настойчивое письмо своему Рони, чтобы тот поторопился сторговаться насчет сдачи города. Пусть не скупится, ворота во что бы то ни стало должны раскрыться перед его господином. Габриель, пожалуй, забыла бы про управление артиллерией, если бы ей предстояло вместе со своим венценосным любовником совершить торжественный въезд через триумфальную арку в столицу нормандского герцогства.
Но пока что письмо короля оказалось очень кстати его послу. Без этого письма король мог легко потерять свой город Руан, а его посол Рони – даже жизнь.
С господином де Вийяром, который начальствовал в Руане от имени Майенна и Лиги, Рони добросовестно спорил о цене уже целых два дня, возражал против всех условий губернатора и доказывал, что королевская казна не может их выдержать. А в это самое время уполномоченные Лиги и короля Испанского предлагали тому же самому Вийяру несчетные груды золота, и притом на любых условиях. По рассудительности посол короля был сродни этой северной стране, и в голове у него никак не укладывалось, что нужно тратить деньги, когда лучше взорвать башни и разнести город из орудий. С другой стороны, Рони, впоследствии герцог Сюлли, крайне заботился о своем достоинстве и впадал из-за него даже в чванство. В этом отношении он мог быть доволен, ибо господин де Вийяр устроил его в лучшей гостинице, приставил к нему для услуг своих людей, послал ему своего первого секретаря и пригласил его в дом своей любовницы. В этом смысле все было благополучно. Однако губернатор, человек прямолинейный, не замедлил выставить все требования, какие только мог придумать, и они, естественно, возрастали по мере того, как противная сторона сулила ему все большие груды золота. В конце концов получился целый реестр: должности и звания, крепости, аббатства, миллион двести тысяч на уплату его долгов, кроме того, ежегодная рента, а затем снова следовали аббатства. Запомнить это было уже невозможно, господин де Вийяр с присущей ему аккуратностью записал все и прочел вслух.
Рони ответа сразу не дал, думая про себя: «Грабитель этакий! Вот откуда ваше гостеприимство и прием у вашей любовницы. Стоит мне вычеркнуть что-нибудь из вашего списка, и вы продадитесь Испании. Впрочем, вы были бы правы, если бы не наши пушки. Я вам покажу, как закладывают порох в башни. А кончится тем, что вас повесят».
Придав своим голубым глазам и гладкому лицу не больше выражения, чем требовалось, Рони выступил с встречными разумными предложениями; однако губернатор прервал его, он забыл еще одно требование. Не меньше чем на шесть миль вокруг Руана должно быть воспрещено протестантское богослужение, – объявил он еретику и послу короля-еретика. Вследствие этого разговор принял неприятный оборот и в тот день уже не мог ни к чему привести. Правда, был заключен предварительный договор, но только потому, что Рони уж очень любил документы и подписи; без документа, даже самого малозначащего, он не кончал ни одного совещания. Через гонца он уведомил короля о бессовестных условиях губернатора. В ожидании ответа господин де Вийяр вбил себе в голову, что Рони, ничего даже не подозревавший, замыслил убить его. Это было чистое недоразумение; какой-то проходимец вознамерился похитить губернатора, чтобы потом стребовать выкуп. Словом, когда они встретились вновь, у губернатора глаза на лоб лезли и в мыслях были только виселица и веревка. О том же в прошлый раз подумывал Рони, но не обнаруживал своих помыслов так открыто. Теперь его здравый ум подсказал ему, что, только разыграв безумие, он спасет положение и оградит себя от самого худшего. И он немедленно разъярился пуще губернатора и даже назвал его бесчестным изменником; Вийяр до того опешил, что потерял дар речи.
– Я… я изменник? От гнева вы не помните себя, сударь.
– Вы сами в пылу безрассудного гнева толкуете о каком-то убийстве, о котором я понятия не имею; а кроме того, собираетесь нарушить слово, ведь у меня есть предварительный договор!
Эти внушительные слова отчасти привели в чувство господина де Вийяра, так что при появлении своей любовницы он сказал:
– Не кричите, мадам, я тоже больше уже не кричу.
Однако его успокоения, которое скорее можно было назвать оторопью, хватило бы ненадолго. Невиновность господина де Рони настойчиво нуждалась в существенном подтверждении, иначе дело могло обернуться плохо. Как раз в эту минуту один из слуг Рони принес ему письмо короля. Это был ответ на бессовестные требования руанского губернатора. Правда, главным поводом для этого письма послужили требования мадам де Лианкур, иначе оно, пожалуй, не пришло бы так кстати. Впрочем, остается невыясненным, не было ли оно получено Рони еще раньше, в гостинице. Настолько силен был эффект от вручения его здесь, в напряженнейшую минуту, что по зрелом размышлении никто не поверил в случайность. Возлюбленная губернатора не замедлила усомниться.
Но как бы то ни было, король принял все условия, исключая запрет богослужения, о котором он не упоминал ни слова, почему и господин де Вийяр обошел этот пункт: место генерал-адмирала он все равно получит. Он немедленно принес извинения послу, признав, что несправедливо считал его своим убийцей. К счастью, как раз был пойман сообщник настоящего убийцы. Губернатор приказал привести его, собственноручно надел ему веревку на шею, и губернаторские слуги повесили злодея из окна на глазах обоих господ. Затем оставалось лишь отпраздновать счастливое окончание дела.
– Лиге конец! – с прямотой старого солдата выкрикнул Вийяр из того окна, к которому уже ранее все взгляды привлек висельник. Губернатор приказал: – Кричите все: да здравствует король!
Народ послушался, и клики его докатились вплоть до гавани, где корабли дали залп из пушек. С крепостных валов раздавались салюты, радостно звонили все без изъятия церковные колокола. Благодарственное молебствие в соборе Богоматери, с королевским послом Рони в первом ряду; прием именитых горожан, принесших ему в дар великолепный столовый сервиз из позолоченного серебра; после этого Рони покинул город Руан.
Когда во время сражения при Иври он, весь в ранах, лежал под грушевым деревом, он и там оказался победителем и даже захватил богатых пленников, ибо этого человека возлюбило счастье. На сей раз он своим усердием – счастье послужило здесь только подмогой – добыл королю один из лучших городов. Хороший слуга короля поистине заслужил свою награду. Меж тем он возвращается, ему навстречу раскрываются объятия, он произносит красивую речь: столовый прибор из позолоченного серебра должен принадлежать королю; его слуга взял себе за правило ни от кого не принимать подарков. После чего король оставляет ему прибор и прибавляет еще три тысячи золотых экю. Пока все идет прекрасно. Однако, когда Рони просит о месте начальника артиллерии, король обнимает его еще раз и назначает губернатором города Манта. Рони вне себя. Он дерзко бросает королю упрек в неблагодарности. По старой привычке шутить над серьезными вещами – Рони она всегда была чужда – король отвечает:
– Моя неблагодарность – это уже старо. Попросите лучше, чтобы вам рассказали последние придворные новости.
Очень скоро Рони узнал все. Он заперся на час у себя в комнате, затем отправился к мадам де Лианкур. Она тотчас поняла, что он пришел по поводу места начальника артиллерии, хотя по нему ничего не было заметно: держал он себя с обычным достоинством. Одежда его была усыпана драгоценными каменьями.
– Мадам, я просил о чести присутствовать при вашем утреннем туалете. Король пользуется моими услугами, возможно, я могу понадобиться и вам.
Габриель ответила необдуманно:
– Благодарю. Когда король в походе, я посылаю ему письма через господина де Варенна[33]33.
Де Варенн Гийом Фуке, маркиз де ла Варенн (1560—1616), – французский дипломат. Начав свою карьеру в качестве повара, поставщика любовниц Генриху IV и исполнителя его интимных поручений, стал маркизом, канцлером и генеральным контролером почт. Покровительствовал иезуитам.
[Закрыть].
Тот был раньше поваром, а теперь разносил любовные письма. Рони побледнел; краски на его лице, напоминающем свежий плод, не сошли совсем, только потускнели. Габриель все же заметила это, но упустила возможность тут же извиниться, и, сколько ни пыталась впоследствии, ей это так и не удалось. Будь при ней ее тетка де Сурди, она подала бы ей нужный совет, и Габриель, возможно, не приобрела бы на всю жизнь такого врага. А вместо этого, заметив свою ошибку, бедняжка заупрямилась, поглядела на господина де Рони так высокомерно, что камеристка перестала расчесывать ей волосы, и наступило длительное молчание.
Наконец господин де Рони преклонил колено и надел даме туфельку, которую она в раздражении сбросила с ноги. Габриель нетерпеливо смотрела на него и думала, что и это не поможет ему стать начальником артиллерии, им будет господин д’Эстре. Обиженный и виду не подал, он сказал комплимент по поводу ее маленькой ножки и откланялся. Едва он удалился, как испуг пронизал Габриель до самого сердца: она его не поздравила, о доблестном приобретении города Руана даже не вспомнила. Он, конечно, пошел прямо к королю.
– Беги, верни его! – приказала она камеристке. Но тщетно. Рони не пришел. Он задавал себе вопрос, почему эта красивая женщина до глубины души ненавистна ему. Главной причины – их взаимного сходства – он покамест не постиг. Оба блондины, с севера, у обоих светлые краски, холодная рассудительность. Голый расчет связывает их с королем, человеком смеха и слез; но медленно в обоих созревает нечто, выходящее за пределы их природы – чувство, внушить которое может им только этот человек с юга. Скоро каждый из них потребует большего: не только милостей короля, но и доверия возлюбленного. Оба ревнивцы, оба любят одного, хотят вредить друг другу – и так до самого конца.
Король отправился в Сен-Дени, где вскоре ему предстояло отречься от своей веры. Об этом он до сих пор не знал ничего определенного и в сердце своем еще колебался, хотя столько уже было предпосылок к этому событию, что оно могло бы произойти как бы само собой. Между тем он совещался с лицами духовного звания, прислушивался к голосам представителей Генеральных штатов там, в Париже, почти равнодушно ожидал перемен, которые могли бы остановить его, сам медлил, надеясь договориться со своим Богом. Полный тревожных предчувствий, он больше чем когда-либо нуждался в близости своей прекрасной возлюбленной. Он оставил ее сейчас в другом городе, потому что у него не было еще того опыта, который он вскоре приобрел; но уже и тут стало ясно, что разлучаться им нельзя. Король не знал никого, кто бы бережнее его благородного Рони доставил к нему любимую. Никакие разочарования не могут поколебать преданность хорошего слуги. Невозможно ему не любить Габриель, раз он видит свое благополучие в Генрихе. Так полагал Генрих.
Рони немедленно приступил к сборам. К чему задумываться, для кого он старается, кто средоточие заботливых приготовлений? Пускай для недруга, все равно нужно обеспечить спокойное путешествие по стране и торжественное прибытие. Впереди, верхом, он сам со своей свитой, затем, на расстоянии ста шагов, – два мула, запряженных в носилки, на которых покоится возлюбленная короля. Снова промежуток. Затем повозка для прислуги, запряженная четверкой лошадей. Далеко позади, в хвосте поезда – двенадцать мулов с поклажей. Все торжественно и чинно, на всем печать той же разумной аккуратности, что и на прочих начинаниях барона. Ничего бы не потребовалось изменить, если бы вместо Габриели д’Эстре средоточием шествия была сама царица Семирамида. К сожалению, не все люди так преданы делу и обладают таким чувством ответственности, как Рони. На самом крутом спуске кучер запряженной четверней повозки соскочил с козел, не подумав хотя бы здесь обуздать свою естественную потребность. Какой-то задорный мул, несмотря на тяжелый груз, галопом настиг лошадей, тащивших повозку, и, позвякивая колокольчиками, показал, как громко умеет он реветь – ничуть не хуже, чем осел Силена[34]34.
Силен – в древнегреческой мифологии воспитатель бога Диониса. Изображался веселым, подвыпившим старцем, едущим верхом на осле.
[Закрыть] в Бафосской долине. От этого четверка коней рванулась вперед; тяжелая колымага, казалось, того и гляди, повалит легкие носилки, разобьет их вдребезги и пустит под гору, а с ними вместе и самое большое сокровище королевства.
– Держите! Держите! – кричали все, но никто не шевелился, слуги оцепенели от ужаса. Между тем дышло сломалось, повозка остановилась, а лошади одни помчались дальше и где-то впереди были задержаны людьми господина де Рони.
Дама была на волосок от гибели, и потому рыцарь стремглав бросился к ней. Страх сковал ему язык, он только жестами без слов выражал свою преданность да издавал хриплые возгласы радости. Дама раскраснелась от гнева. До сих пор ее всегда видели лишь в мерцании лилий, значительно преобладавших над розами. Рыцарь наблюдал происходящее с тайным удовольствием, он вспомнил других любовниц короля, которых тот покинул, потому что не терпел их свойства краснеть пятнами. Такой юной особе до этого было далеко, по меньшей мере лет двадцать; нужды нет. У Рони зародилась надежда, и он собрался попросту продолжать путь. Госпожа д’Эстре полагала иначе; на ком-нибудь ей нужно сорвать гнев, и если сам Рони для этого не годится, то пусть он хоть собственноручно высечет кучера за несвоевременное отправление естественной нужды. И доблестный слуга короля послушался, а немного позднее доставил королю прелестную путешественницу всецело в мерцании лилий.
– Во время происшествия все позеленели от ужаса, – пояснил он нетерпеливому любовнику. – Только у мадам де Лианкур краски стали еще прекрасней, чем всегда. Сир! Жаль, что вас при этом не было!
Несчастная Эстер
Любящая чета открыто поселилась вместе в старом аббатстве, о чем проповедник Буше, надрывая глотку, кричал по всему Парижу. Однако успех его был невелик. Слушатели уже не сбегались толпами, не устраивали давки, падучая случалась реже: прежде всего вследствие провала Генеральных штатов. Люди убедились наконец, что различные претенденты на французский престол не имеют твердой почвы под ногами, а у ворот столицы ждет настоящий король, которому стоит только отречься от прежней веры, чтобы немедленно вступить в город. Он доказал свою силу хотя бы тем, что не делал больше попыток ворваться с боем. Ворота были открыты, крестьяне ввозили припасы, парижане отваживались выходить из города. Они были сыты, что бодрило их, возвращало им давно утраченную любознательность; кто с урчанием в животе слушает поклепы неизменного Буше, тот в конце концов забывает, что следует самому посмотреть и поразмыслить.
Целыми толпами тянулись парижане в Сен-Дени, но только в одиночку доходили до старого аббатства; иногда на это отваживались по двое, рассчитывая защитить друг друга. Ведь здесь явно имеешь дело с антихристом, тому порукой многое, иначе разве мог бы отлученный от церкви еретик так долго держаться против всей Лиги, против испанских полчищ, против золота короля Филиппа и папского проклятия. Два горожанина прокрались сегодня в монастырский сад, отыскали укромное место и решили выжидать, запасшись провизией. А вот и само чудовище, тут как тут, точно дьявол, когда его вызывают заклинанием, только что вокруг него нет серного облака. Он даже без охраны и не вооружен; одет совсем не по-королевски. Вот мы уже и открыты, хотя за кустарником он видеть нас не мог. Конечно, что-то с ним нечисто.
– Сир! У нас нет дурных намерений.
– У меня тоже.
– Клянемся, никогда мы не верили, что вы антихрист.
– Да я и не считал вас такими дураками. Теперь пришло для нас время познакомиться поближе. Нам всем троим придется еще долго жить вместе.
По его знаку они покинули свое убежище, и не успел он оглянуться, как они уже стояли пред ним на коленях. Он добродушно посмеялся над их смущением, потом сразу перешел на серьезный тон и спросил о недавно пережитых ими тяжелых временах; они упомянули о муке, которую действительно добывали на кладбищах, чему теперь сами уже верили с трудом; тут король закрыл глаза и побледнел.
Об этой встрече они рассказали потом великому множеству любопытных, которые меньше интересовались его словами, нежели его наружностью и обхождением. Хотели знать, добрый он или злой.
– Он печальный, – заявил один из тех, что близко заглянул ему в лицо. Другой возразил:
– Откуда ты это знаешь? Он все время шутил. Хотя… Впрочем… – Здесь тот, что считал его шутником, запнулся.
– Хотя… Впрочем! – с сомнением сказал и тот, которому он показался грустным.
– Он большой человек. – В этом оба были согласны. – Он высокого роста, приветливый и такой простой, что страшно становится и даже…
– Хочется руку ему подать, – торопливо закончил второй. Первый смущенно молчал. Он чуть не выдал, что они валялись в ногах у короля.
В том же монастырском саду король принял явившегося к нему пастора Ла Фэя, который вел за руку женщину под покрывалом.
– Мы вошли незаметно, – были первые слова старика.
Генрих ничего не мог понять, он переводил взгляд с пастора на женщину, однако покрывало на ней было плотное.
– Незаметно и неожиданно, – второпях произнес он; он спешил к Габриели.
– Сир! Возлюбленный сын, – сказал старик. – Господь не забывает ничего, и, когда мы меньше всего ждем этого, он напоминает нам о наших деяниях. Кто их совершил, не смеет от них отрекаться.
Тут Генрих понял. Он, должно быть, знал эту женщину, Бог весть где и в какие времена. Напрасно он искал какого-нибудь знака на ее обнаженной руке. Никакого кольца, пальцы разбухшие и израненные работой. Он перебирал в памяти имена, боялся, что за ним подсматривают, и с трудом удерживался, чтобы не оглянуться на окна дома.
– Она нашей веры, – сказал Ла Фэй и сдернул с нее покрывало. Вот кто это – Эстер из Ла-Рошели. Генрих любил ее так же, как двадцать других, и, может быть, больше, чем десятерых из них, теперь об этом судить трудно. Он спешил к Габриели.
– Мадам де Буаламбер, если не ошибаюсь. Но, мадам, время выбрано неудачно, я занят. – Он думает: «Габриели об этом донесут непременно!»
Пастор Ла Фэй, старик с развевающимися седыми волосами, очень твердо:
– Вглядитесь лучше, сир! От своей совести люди нашей веры не бегут.
– Кто говорит о бегстве. – Генрих принимает гневный вид, но постепенно на самом деле распаляется гневом. – Я вовсе не бегу, я занят, и я не потерплю принуждения. Даже и от вас, господин пастор.
– Сир! Вглядитесь получше, – повторил пастор.
И тут у Генриха словно крылья опустились, ничто уж не воодушевляло его, ни желание, ни гнев. Перед ним, теперь действительно без покровов, была состарившаяся, больная и жалкая женщина, – а когда-то из-за нее он пережил экстаз пола и подъем сил. Он никогда не достиг бы столь многого, не достиг бы ворот своей столицы, если бы все они не вызывали в нем экстаза и подъема. «Эстер! Вот что сталось с ней! Ла-Рошель, твердыня у моря, крепкий оплот гугенотов, отсюда мы, борцы за веру, не раз устремлялись в бой. К чему сверкать на меня глазами, пастор, мы единодушны. Минута выбрана удачно».
– Мадам, чего вы желаете? – спросил Генрих.
Он думает: «Гугенотка Эстер удачно выбрала минуту, чтобы предстать несчастной передо мной. Я собираюсь отречься от веры, и за это счастлив с Иезавелью, которая обращает царя Ахава к богу Ваалу. Однако ее в конце концов сожрут собаки. О, как скоро красоту постигает возмездие, она тускнеет от нашей неблагодарности: у Эстер из Ла-Рошели от горя и нужды потускнело лицо!»
Но тут он все-таки убежал бы, если бы она не заговорила. Ее хриплый, тихий голос произнес:
– Сир! Ваш ребенок умер. С тех пор ваша казна мне больше ничего не платит. Я отвергнута своими, я одинока и бедствую. Смилуйтесь надо мной!
Она попыталась преклонить колено, но от слабости едва не упала. Не Генрих, а старик Ла Фэй поддержал ее. Его взгляд строго сверкал, и Генрих ответил ему скорбным взглядом. Вскоре он ушел, но перед уходом кивнул пастору, в виде обещания, что все будет сделано. Он думал об этом, пока шел по коридорам аббатства, постепенно замедляя шаги. «Что я сделал, что я могу еще спасти? Это самый непростительный пример моего бессердечия. Проливаю мимолетные слезы и уже спешу к следующей. Такая обо мне слава, она известна всем, а я последний замечаю, каков я на самом деле».
Ему вдруг стала ясна его роковая роль. Он плодил жертвы. По всем правилам и по искреннему своему убеждению он должен был бы поступать иначе, ибо из личного опыта хорошо знал тяготы жизни и неизменно нуждался в душевной твердости, как проходя школу несчастья, так и на пути к трону. Но наше доблестное поведение всегда требует, чтобы мы кого-то приносили в жертву. Генрих еще раз вспомнил об Эстер, потому что ему неоткуда было взять пенсию, которую он хотел ей назначить; ему пришлось бы урезать на эту сумму Габриель, свою дорогую повелительницу. Это он считал невозможным и боялся этого, ибо она, конечно, ничего бы не уступила. Ему стоило только вызвать в памяти картину, как ее прекрасная рука покоилась на локотнике кресла, а на пальце блестел камень, тот самый камень, что был украден господином д’Эстре.
Погруженный в заботы, он необычайно тихо вошел в ее покои. Из прихожей он заглянул в отворенную дверь; красавица сидела у туалетного стола. Она писала. «Но любимая женщина не должна писать никому, кроме меня. Всякое другое письмо неизбежно внушает подозрения». Генрих приближался совсем беззвучно, теперь уже вовсе не по причине задумчивости. Наконец он заглянул писавшей через плечо, она его не замечала, хотя все их движения отражались на светлой глади круглого зеркальца. Генрих прочел: «Мадам, вы несчастны».
Он испугался, сразу понял, о чем тут речь, и все же с мучительным трепетом следил за пером, которое громко скрипело, иначе, пожалуй, слышно было бы его дыхание. Его дыхание туманило зеркало. Перо крупно выводило: «Мадам, такова наша участь, когда мы верим красивым словам. Нам следует остерегаться, иначе нас ждет заслуженная гибель. Мне вас не жаль, потому что ваше поведение унизительно, а сцена в саду бесчестит мой пол. Я согласна дать вам денег, чтобы вы исчезли. Отец вашего умершего ребенка легко может об этом позабыть». Она писала дальше, но Генриху уже не хотелось читать. Зеркало было затуманено его дыханием, и лица его она там не увидела, когда внезапно подняла взгляд. Он, пятясь, удалился прочь, в полной уверенности, что она знала о его присутствии и писала больше для него, чем для той, другой.
Он не появлялся несколько дней и даже обдумывал разрыв с возлюбленной. Она была жестока и непримирима. Посредством письма она дала ему понять, что никогда не простит, если он окажет помощь той женщине. Он и не решился на это. Дела в разных городах способствовали тому, что он забыл о капризах своей повелительницы. Он позабыл о ее капризах, но не о ней, а из-за большой тоски по Габриели у него не осталось времени подумать о той несчастной. На третий день он узнал, что его возлюбленная принимала у себя герцога де Бельгарда.
У него начался жар, совсем как приступ лихорадки, которая в течение всей его юности приключалась с ним и валила его с ног после особенно тяжелых испытаний – бессилие волевой натуры, перед которой открылась бездна. Отсюда и жар. Сорокалетний человек не пугается его. Глубокую трещину в своей воле к жизни он закрывает собственной рукой; это возможно в таком уравновешенном возрасте. На коня, застичь изменников! Он опередил своих спутников и вторил ветру стонами горести и мести. Действовать! Не валяться в постели и не предаваться отчаянию, нет, это недопустимо, надо спешить, чтобы покарать обоих. Он мчался в полном мраке по лесу, пока его конь не упал и сам он не очутился на сухих листьях.
– Господин де Прален[35]35.
Де Прален – Шарль де Шуазель, маркиз де Прален (1563—1626), – французский военный, отличился в битвах в царствование Генриха III и Генриха IV. С 1619 г. маршал Франции, под конец жизни губернатор Сентонжа.
[Закрыть]! – крикнул он, когда подоспели дворяне.
В подставленное ухо шептал он приказы, никогда в жизни он не думал, что способен приказать нечто подобное. Бельгард должен умереть.
– Вы должны исполнить мою волю, вы отвечаете мне собственной головой.
Прален недолюбливал обер-шталмейстера, в поединке он убил бы его: но королю он не верил. Этот король не из тех, что поощряют убийц, он никогда не осуждал на смерть своих личных врагов и не начнет с Блеклого Листа. Прален отвечал рассудительно:
– Сир, подождем до рассвета.
Король вспылил:
– Вы думаете, я не в своем уме. Я хочу того, что вам приказываю. И не только Бельгарда. Не его одного должны вы убить, если застанете их вместе.
– Я в темноте плохо слышу, – сказал господин де Прален. – Сир, вы повсюду прославлены своей добротой, вы монарх новой человечности и тех сомнений, которые философы считают плодотворными.
– Неужели так было? – спросил Генрих сурово, – Ничего не помню. Оба должны умереть – женщина даже скорее, она первая. – Он резко выкрикнул: – Я не могу это видеть, – и заслонил глаза рукой от встававших перед ним картин.
Свидетель мрачного часа поспешил отойти как можно дальше, чтобы не присутствовать при этом. Наконец король снова вскочил в седло. Когда они прибыли в Сен-Дени, занималось утро. Генрих мчится вверх по лестнице, требует, чтобы его впустили, принужден ждать у двери и сквозь плотно закрытую дверь, словно воочию, видит переполох преждевременного пробуждения. Его терзает страх; тем, что находятся в комнате, не может быть страшнее, чем ему. Наконец замок щелкает, его возлюбленная повелительница стоит перед ним – вновь обретенная, он вдруг понимает, что считал ее утраченной. Кровь приливает у него к сердцу, потому что она возвращена ему. Она одета как в дорогу, хотя едва светает, совершенно одетая женщина стоит против окна, которое задребезжало, когда его распахнули. Слышен был прыжок в сад.