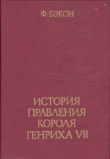Текст книги "Зрелые годы короля Генриха IV"
Автор книги: Генрих Манн
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Слияние
Этот благословенный Богом день, двадцать пятое июля 1593 года, мог быть только лучезарным и жарким. Парижский народ знал обо всем заранее, он нарядился в лучшие одежды, какие уцелели от бедственных времен. Люди держали под мышкой охапки цветов, а руки их были заняты корзинами, полными снеди. Весь этот воскресный день предстоит провести в Сен-Дени, потому что король отрекается и переходит в новую веру, что представляет собой достопримечательную, но весьма длительную церемонию; ради нее придется, пожалуй, пожертвовать семейным обедом. Не беда, – уж очень это редкостное зрелище. Кстати, потом можно будет удобно расположиться на лугах: корзины надо поставить наземь заранее, красть никто не станет, слишком мы все довольны.
Цветами же будет усыпана улица вдоль всего пути короля. Он, говорят, одет во все белое, так гласила молва, опередившая его. Его белые шелковые туфли окрасятся соком роз. Женщины твердо верят, что он прекрасный принц, и хотят, чтобы их стараниями ноги его ступали по розовым лепесткам; поэтому они так толкаются и теснятся посреди дороги, а некоторые даже падают. Стражникам это причиняет больше досады, чем им самим. Те сперва предостерегают, их никто не слышит в гуле церковных колоколов и в пылу воодушевления, предвосхищающего само событие. Затем солдаты пускают в ход всю свою отнюдь не злую, а добрую волю, и таким образом отряду удается занять обе стороны улицы. Хорошо, что вовремя, ибо тут как раз появляется шествие.
Что замечает король, когда идет по узкому проходу между сгрудившимися толпами? Он видит, что из окон вывешены пестрые ткани, он видит, что земля усыпана цветами и дети все еще продолжают бросать розы через головы солдат. На всех до единого белая перевязь, отличие приверженцев короля, у всех счастливые лица – иные благочестиво задумчивы, другие водят языком по губам от сильного нетерпения, но большинство кричит: «Да здравствует король!» Гулкие голоса колоколов поглощают эти клики; они кажутся жалкими и ничтожными ввиду грандиозности события, да если вглядеться поближе, разве и на лицах не видны остатки страха? Король думает: «Пять лет страха, нужды и дурных страстей осталось у них позади. Если бы я не сделал больше ничего, только дал им этот праздник, и того было бы почти достаточно. Но нужно сделать больше, все мало для чаяний такого множества людей». В эти минуты ему захотелось склонить голову под гнетом непреодолимого бессилья, – разве можно сделать всех людей счастливыми или хотя бы накормить их досыта? Но он должен был держать голову высоко, чтобы они воочию узрели славу и мощь, его и свою.
Народ видит его, окруженного принцами и вельможами, высшими государственными чинами, дворянами и законоведами; последние очень многочисленны. Из его семьи идут с ним немногие, однако граф де Суассон как раз успел прибыть. Впереди и позади телохранители и швейцарцы с барабанами, в которые они не бьют. Двенадцать труб, поднятых к губам, безмолвствуют из-за звона колоколов и чтобы не нарушать святости происходящего. Это чувствует народ, он вполне проникает в существо вещей – и когда участвует в зверствах и заражается всеобщим дурманом, и когда созерцает величие и добро. Он, конечно, любуется роскошной одеждой своего короля, его строгим лицом и солдатской выправкой. Однако высоко поднятые дуги бровей выражают скорбь, глаза слишком широко раскрыты; ему всего сорок пять лет или немногим больше, а такой седой человек! Бог весть сколько раскаяния, сколько собственных горестей готовы пробудиться в душах этих многолетних врагов короля – пожалуй, несколько поздно надумали они прославлять его и теперь стоят тут покорной толпой. Правда, при всеобщих криках «ура» некоторые голоса непроизвольно замирали. Некоторые колени пытались преклониться – но это не удавалось по причине большой давки.
Какая-то кумушка, видимо опытная и бывалая, сказала внятно, так что услыхали и окружающие, и проходивший мимо король:
– Он красивый мужчина. У него нос больше, чем у других королей.
В ответ на это раздался безудержный смех. Король охотно бы задержался; его нахмуренный лоб чуть разгладился. Еще раз у него был соблазн остановиться, когда несколько зрителей в потертых кожаных колетах молча и пристально поглядели на него – нет, вернее не на него, а на шляпу; ее украшал белый аметист. «В последний раз я был в ней при Иври. Эти старики, пожалуй, из более давних времен, они видели ее уже при Кутра». Он искал их взгляда, и они встретились глазами, он шел, повернув к ним голову, пока другие не заслонили их.
У паперти собора не успел Генрих подняться на первую ступень, как ему стало дурно. Странное чувство, – он на миг теряет почву под ногами; хотя камни мостовой никуда не делись, ему приходится нащупывать их, присутствие толпы тоже перестало ощущаться, лица и голоса куда-то уплывают. Это случилось на протяжении одного шага; затем все прошло, и, пока Генрих всходил на паперть, у него оставалось лишь мимолетное воспоминание: прищурившийся великан. С мыслью о великане, который щурится, скрывая блеск глаз, покинул он нижнюю ступеньку, а дальше душой и телом отдался своей задаче.
Он вступил в собор через главный портал. Пройдя пять или шесть шагов, он очутился перед архиепископом Буржским, сидевшим на возвышении в обтянутом белым узорчатым атласом кресле; вокруг него прелаты. Архиепископ спросил, кто он, и его величество ответил:
– Я король.
Упомянутый монсеньер Буржский, у которого сейчас отнюдь не было свиного рыла, наоборот, каждый взгляд его выражал достоинство, каждое слово из его уст выражало духовную мощь – итак, монсеньер начал снова:
– Чего вы желаете?
– Я желаю, – сказал его величество, – быть принятым в лоно римской католической апостольской церкви.
– Желаете ли вы этого искренне? – сказал монсеньер Буржский. На что его величество дал ответ:
– Да, я хочу и желаю этого. – И, преклонив колени на подушку, которую ему подсунул кардинал дю Перрон[40]40.
Дю Перрон Жак-Дави (1556—1618) – кардинал и выдающийся оратор. При Генрихе III был чтецом и составителем торжественных речей.
[Закрыть], король прочитал символ веры – не позабыл также отречься от всякой ереси и поклялся истребить еретиков.
Все это было выслушано, кроме того, король вручил архиепископу, который сидя протянул руку, им самим написанное исповедание новой его веры. Только тогда архиепископ приподнялся со своего места. На краткий миг, пока он вставал, могло показаться, будто он колеблется и не знает, что ему делать дальше. Виной тому был напряженный взгляд его величества, широко открытые глаза, те же, которые при Иври сковали и задержали отряд неприятельских копейщиков, пока не подоспела помощь. Здесь, наоборот, никто не ожидает «его» людей, скорее он сам «наш». При этой мысли архиепископ встал окончательно. Не снимая с головы митры, он поднес королю святую воду, дал поцеловать крест, отпустил ему грехи и благословил его.
И монсеньер Буржский и Генрих точно знали дальнейший ход церемонии, однако им стоило большого труда пройти через церковь к клиросу: народ заполнил весь собор, взобрался под самые своды, и не было ни одного отверстия в цветных оконницах, в которое не лезли бы люди. На клиросе Генрих должен был просто повторить свои клятвы; на сей раз он позволил себе проявить некоторую долю нетерпения и значительную небрежность. Затем он проследовал за главный алтарь, где под звуки «Те Deum»[*]* * *
Тебя, Бога [хвалим]. Начало католической молитвы.
[Закрыть] Генриху надлежало исповедаться, таков был распорядок. А на самом деле архиепископ Буржский громко засопел, Генрих закрыл глаза, и сказано было немного. «Моя возлюбленная повелительница, – думал Генрих. – Я лишь мельком видел ее. Знает ли она, что я заметил ее за пилястром! Прекраснее, чем девы рая, обольстительна, как ночь, ах, хорошо, если бы уже была ночь!» Этого он желал еще и потому, что на пути сквозь толпу услышал от одного из своих роковое слово. Если так говорят свои, что же думает монсеньер Буржский? Ведь говоривший был служитель юстиции и вместе со всеми прочими следовал за своим государем в торжественном шествии к собору. «Теперь, когда я уже совершил смертельный прыжок, он шепчет зловещие пророчества. Сосед не расслышал его из-за гула толпы. Только мой чуткий слух уловил то слово: предсказание страшное и грозное».
После этого он прослушал мессу; архиепископ Буржский служил ее, и для короля была сооружена молельня – сплошь красный бархат и золотые лилии, а вверху балдахин из золотой парчи. Король принял святое причастие. Теперь возникла трудная задача – наладить шествие, чтобы в прежнем порядке вернуться в аббатство, где ждал обед. Лица из свиты короля один за другим были оттеснены, прошло немало времени, пока им удалось выбраться из сутолоки. И тогда еще Генрих не обнаружил среди дворян своего Шико, так называемого шута; именно его он любил держать при себе, потому что Шико считался счастливчиком. Эй, что там происходит? Под коническим сводом крики, спор, кто скорей слезет с огромного дракона: он выступает вверху над пилястром, и человеческий клубок обвивает его руками и ногами. Кто-то срывается и летит по воздуху. Эй, Шико!
Он летит, падает, сбивает с ног людей, но вдруг оказывается верхом на спине рослого парня, упавшего на четвереньки. Дергает его, как будто с перепугу, за льняные волосы, пока изрытое оспой лицо не поворачивается кверху – и Генрих узнает его, о, эти прищуренные глаза он видел недавно. Парень весь содрогается от бешенства и, как ни странно, от боли тоже, хотя Шико по-прежнему только дергает его за волосы. Такой силач и не делает никакого усилия, чтобы встать вместе со своим наездником. Перестает даже ползти, ему, очевидно, больно, только нельзя разобрать отчего. Но, выходя из портала, Генрих все еще слышал вой парня. Он многое понимал, а сам шел во главе торжественного шествия, сквозь напирающие толпы людей, – солдаты больше их не сдерживали. Барабанщики и трубачи уже не обращали внимания на звон колоколов, они гремели что было силы.
На углу какой-то кривой улички произошла задержка. Сотни людей, проталкиваясь локтями, стремились добраться до короля и поближе заглянуть ему в лицо; но кому же это выпало на долю? Какой-то древней старухе, ее никто не отталкивал, и она очутилась впереди всех, перед королем Генрихом, и сама не знала, как это случилось. Когда он взял ее за обе руки, она поцеловала его увядшими губами, которые для такого случая ожили напоследок. После чего король сказал девяностолетней старухе:
– Дочь моя, – Он сказал: – Дочь моя, это был славный поцелуй, я не забуду его. – Он собрал в букет цветы, которыми его забрасывали, перевязал лентой, – ему подали ее, – и весь красивый пестрый сноп сунул за корсаж прабабки, так что народ прямо обмер, а потом пришел в неистовство от умиления.
Некоторое время Генрих поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, дабы все видели его и поверили в его добрую волю. Случайно он заглянул в кривую уличку и, правда, не подал вида, но оказался единственным свидетелем того, как Шико уводил дюжего парня. Шут скрутил ему руки за спиной, и парень, хоть и был втрое сильнее, однако же не сопротивлялся; он шел, хромая и согнув мощную спину. Шико, длинный и сухощавый, возвышался над ним своими угловатыми плечами. Шляпу он потерял, его смешной хохолок торчал над голым черепом, и так как он не спускал глаз со своего пленника, его крючковатый нос, узкие скулы и задорно загнутая бородка выделялись особенно четко. Там, где кривая уличка делала поворот, горбатый домишко протягивал кованый крюк с сухим венком, явный признак трактира; наверно, там пусто в эту пору, ибо весь народ и приезжие шествуют за королем по единственно желанному пути к обеду. «Пускай Шико со своим великаном войдут туда и в пустой зале обсудят дело. Каково оно, легко себе представить».
Генриху хотелось есть, как и всем его подданным, ведь радость от прекрасного праздника слияния с королем удвоила их голод, и его тоже, не говоря о том, что ему стало легче дышать после того, как он заглянул в кривую уличку. В трапезной старого аббатства он сразу же воскликнул:
– Входите все!
Часовые у дверей тотчас отвели алебарды, и зала мигом наполнилась народом, как раньше церковь. Стол с яствами был бы неминуемо опрокинут. Но, к счастью, настроение было праздничное, ибо народ, только что завоевавший своего короля, старается, чтобы все шло по-хорошему. Лучше оттоптать друг другу ноги, чем сбросить на пол хоть одно блюдо. С другой стороны, господа из свиты короля были весьма любезны – и не потому, что он приказал им; какому-то простолюдину они уступили место за столом и беседовали с ним.
Многие стремились только увидеть короля, потому что он был необыкновенный король и сильно занимал их своей персоной, пока они его еще не видели. И вот он сидит один на возвышении. Его аппетит не оставляет желать лучшего, это заметно всякому. И нам он тоже дает полакомиться; прошли те времена, когда мы из-за него питались мукой с кладбищ. По нем не видно, чтобы он хотел довести нас до этого. Так рассуждали наиболее вдумчивые. Он совсем не таков, каким изображали его с парижских кафедр, он не апокалипсический зверь[41]41.
Апокалиптический зверь – фантастическое чудовище, описанное в Апокалипсисе.
[Закрыть], даже не обыкновенный волк. Я мирный гражданин, невзирая на развращенные времена, я в глубине души был всегда лишь мирным гражданином и могу засвидетельствовать для будущих поколений, что он похож на нас с тобой. Теперь я больше не буду прятаться у него в саду за кустами, чтобы застичь его врасплох, не буду выстаивать на коленях в грязи, пока в глазах не начнет рябить и потом сам не знаешь: высок ли он или мал ростом, грустен или весел. Теперь я разглядываю его без стеснения. Вот все уже направляются на луга обедать, в зале становится просторней, я мог бы сказать ему: желаю вам здравствовать, сир! Но на это я не решусь. Может быть, из-за его богатой одежды? Из-за седой бороды и поднятых бровей? Нет, причина в том, что он впустил к себе всех, не исключая больных и нищих. Я бы не отважился на это у себя в доме. Что же он за человек?
После такого заключения гражданин этот не выбежал, а выскользнул потихоньку вслед за остальными на луга. Обед длился долго. Когда Генрих поднимал свой бокал на уровень глаз, прежде чем поднести к губам, все приветствовали его, поворачивались к нему лицом, так же и парламентарий, которого Генрих запомнил и хотел увидеть. Это был законовед в его духе, из тех, у кого веки морщинистые, но глаза горят. У этого были впалые виски и белая копна волос, почтенная борода закрывала иронический склад губ: судья еще недавно голодал, но с иронией. Он томился в тюрьме, вполне обоснованно порицая людские поступки, которые были противны природе и не подтверждались исконным человеческим правом, ибо только власть и слабость обусловливали эти поступки, а проистекали они из злобы. Свою несчастливую долю он сравнивал с долей детей, которых истязают, и они остаются калеками, а общество еще не понимает, что это его собственные поврежденные члены, настолько далеко до сих пор общество от права.
Генрих любил этого человека, иначе его пойманное на лету слово не оказало бы никакого действия, многое приходится ведь слышать, особенно настороженными ушами. Там, в соборе, сейчас же после отречения, Генрих прошел мимо него. Старик шептал на ухо соседу, который в шуме не разобрал страшного, грозного слова, только Генрих уловил его. Теперь он опустил бокал, кивнул, и законовед приблизился к королю:
– Друг и товарищ, – обратился к нему Генрих. – Когда вы лежали на сырой соломе, а если бы дело короля не взяло верх, то могли бы и висеть из окна, сознайтесь, друг и товарищ, что сердце ваше билось тогда очень сильно. Вы уже не были скептиком, каким вам хотелось быть, в пылу негодования вы бы охотно четвертовали, обезглавили и сожгли на костре своих врагов, при условии, что вы сами в ту же минуту стали бы господином положения и враги ваши были бы выданы вам.
– Сир! Ваша правда. Не стану отрицать, что в тюрьме я всегда, за исключением немногих светлых минут, питал именно, такие намерения. Между тем, когда я вышел из тюрьмы, мой пыл угас, и мне уже не хотелось никого убивать.
Наклонясь к нему ближе, Генрих спросил:
– Ну, а если бы вы оказались настолько господином положения, что в вашей власти было бы не только убивать, а наоборот: вы могли бы добиться слияния с теми, кто считался вашими врагами, и для этого нужно лишь переменить веру?..
– Сир! Я пошел бы на это, как и вы.
Тут Генрих побледнел и произнес:
– Теперь только я понимаю, как жестоко и ужасно то, что вы сказали под сводом, у пилястра, какому-то человеку в зеленом плаще.
– Сир! И без зеленого плаща я помню сказанное мною слово. Дай Бог, чтобы оно оказалось неправдой. Я сожалею, что вы услышали его.
– Верно ли то, что вы сказали? Тогда все ваше право ни к чему. Какие же вы судьи, если, по-вашему, человек должен быть наказан за то, что не хочет действовать преступно, а стремится к слиянию со своими врагами?
– Кто говорит о наказании? – ответил тот чересчур громко, несмотря на шум за столом. – Речь идет о кощунственном злодействе, которого я опасался.
– И для которого я будто бы готов, – заключил Генрих.
Законовед должен был понять, что разговор окончен. Он обернулся с умоляющим жестом, ему не хотелось уходить, не повторив своей просьбы о прощении. Он облек ее в слова гуманиста Монтеня:
– Человек добрых нравов может иметь ложные взгляды. Истина же порой исходит из уст злодея, который сам в нее не верит.
Генрих поглядел ему вслед. «Конечно, все это у нас от нашего друга Монтеня. Вот она, та мудрость, которую болезненный, но стойкий дворянин, мой старый знакомый, черпает из нас всех и возвращает нам совершенной. Тем страшнее слово, которое я уловил в толпе, тем страшнее и грознее».
Тут же, естественно, он подумал о своем шуте. Что происходит в это время с Шико и его дикарем? Надо бы узнать, кто из них кого одолел. Генрих решил было послать солдат к горбатому трактиру на кривой уличке. Он оставил эту мысль по разным причинам, гордость была не последней из них. Так или иначе обнаружилось бы, что он испугался. Неожиданно он поднялся с места, а то его гости пировали бы еще очень долго.
Обратно в церковь, ибо в виде духовного десерта полагалось насладиться проповедью монсеньера Буржского, и непосредственно после того, как прозвучало заключительное «аминь», началась вечерняя служба. Его величество усердно слушал все. Потом вскочил на коня, правда, лишь затем, чтобы принести благодарственную молитву в другой отдаленной церкви. Когда он вернулся в Сен-Дени, была уже ночь, горели праздничные огни; люди, которые опорожнили сегодня корзины с провизией и чашу восторгов, теперь танцевали вокруг огромных факелов, те, что порезвее, на одной ноге, но если оглядеться трезвым взглядом, сразу видно, что радость их уже лишена оснований. Рано утром они приветствовали своего короля, потому что он ради них пошел по тернистому пути и в стремлении залечить нанесенные раны слился с ними в одной вере.
Теперь, вечером, они встретили его еще шумнее, он не усмотрел в этом никакого смысла, вообще усталость от прошедшего дня была больше и глубже, чем если бы он с утра до ночи дрался в бою. Придерживая коня, он думал: «А что произошло тем временем в трактире? Об этом они понятия не имеют. Танцуют вокруг огня. Даже праздничные огни причиняют ожоги, кричи погромче, когда другой дурак толкает тебя в огонь. Что, если бы я поскакал теперь к трактиру? Наверно, нашел бы его пустым, и там, должно быть, все кончено, как этот день, а я смертельно устал».
В старом аббатстве свет был потушен, кто бы стал его ждать? Никак не его возлюбленная повелительница, хотя она, наверное, лежала и прислушивалась. Однако она не звала его и не желала, чтобы он вошел к ней. Быть одному до рассвета, ни на что иное мы не способны, предчувствие подсказывает каждому из нас, каково сейчас другому, тягостно или покойно. Но ванну он пожелал принять немедленно, и его первый камердинер, господин д’Арманьяк, разослал всю челядь за водой. Беготня в темноте разбудила кое-кого, среди прочих – некоторых протестантов, и они поспешили сделать заключение. Он смывает с себя грех после того, как слушал столь пышную мессу!
Но это было не так.
История одного покушения
Шико, длинный, тощий и без шляпы, крепко держал скрученные за спиной руки парня, парень шел, прихрамывая и согнув могучую спину. Когда они таким образом пробирались по кривой уличке, совершенно пустынной, – даже из окон не выглядывало ни одного немощного старца, – кто же из них, собственно, кого вел? Казалось, что Шико поддерживал своего приятеля, чтобы тот не свалился от непонятной слабости – или же, вернее, одолев его, волок в тюрьму. Но дорогу знал лишь один из них; и при этом не шут короля, а парень. Ему, по-видимому, хорошо была знакома кривая уличка, тихо подвывая, он невзначай завернул за угол, у него на примете был трактир, меж тем как его спутник еще и понятия не имел, куда идет. Он пока не думал ни о чем, лишь бы выбраться из сутолоки и не нарушить торжественности королевского шествия. Там на шумных улицах все только и помышляли, как бы не пропустить традиционный обеденный час. А здесь даже не пахло жареным салом, густая тень с каждым шагом все больше отдавала плесенью. День был жаркий, но тенистая уличка не сулила прохлады: она только сильнее испаряла скопившиеся в ней пороки, из первого дома – грязную алчность, из следующего – убогое распутство, от последнего разило зловещей сыростью и нераскрытым преступлением.
Великан не мог идти дальше или притворялся, что не может. Во всяком случае, у него под ногами натекла лужа крови: Шико прекрасно знал, откуда и почему. Он все еще ждал, что пройдет патруль, тогда он передал бы солдатам неудачливого убийцу короля, ибо пленник его был не кем иным, как убийцей короля. Но патруль не встречался. Вместо этого великан стал оседать, выскользнул у него из рук и повалился на пузатую стену низенького домишка. Шико пришлось прислонить его к этой стене, иначе они оба свалились бы наземь. И на сей раз парень лежал бы сверху. Шико не мог даже окликнуть его по имени, имя на человеке не написано, видно было только, что он отставной солдат. Так называемый шут свистом позвал на помощь. Высунулась физиономия хозяина, более похожая на другую часть тела, при этом показался он так быстро, словно караулил за дверью.
– Вас двое? – необдуманно брякнул он. Эти слова заставили шута всерьез призадуматься тут же на ходу.
Прежде всего потребовалась помощь хозяина, чтобы втащить великана в комнату. Едва он очутился на скамье, как потерял сознание. Хозяин был приземист и толст, он только пыхтел от усилья; Шико, наоборот, заговорил немедленно.
– Да, нас двое, он сразу узнал во мне старого союзника по Лиге. Мы оба служили в пехоте герцога Майенна, которому, к сожалению, не удалось заполучить беарнца ни живым, ни мертвым. Ну вот, сегодня, после мессы, мы докончили дело.
– Если бы вы это сделали, вы оба стали бы невидимы, – сказал хозяин, оглянулся на лежащего без сознания великана, другим глазом покосился на Шико и остался не удовлетворен результатами. – Он ведь верил, все равно как в загробный мир, что стоит ему нанести удар, и он мигом станет невидим. А я вижу его, да и тебя тоже, и это мне вдвойне неприятно. Не понимаю, зачем вы заявились вдвоем. Почему он доверился тебе? Это на него не похоже. Я знаю Ла Барра.
– Я тоже, – уверил Шико глубоким, искренним голосом, каким обычно говорил людям глупости, в которых они лишь позднее распознавали истину. – Своего дружка Ла Барра я люблю больше, чем ты. Вот тебе доказательство: на нем мой кожаный колет еще из тех времен, когда я был такого же сложения, как он. Начав худеть по причине глистов, которые высасывают из меня все соки, я отдал старому приятелю Ла Барру свой колет; глисты я отдать не мог, несмотря на нашу закадычную дружбу.
Эти подробности поколебали недоверие хозяина и отчасти убедили его.
– Но почему вы не стали невидимы? – спросил он скорей с любопытством, чем с недоверием.
– Это оттого, – пояснил Шико, – что наш план удался только наполовину.
– Так король не убит? Слава господу Иисусу Христу, – вырвалось у коренастого толстяка, и он с облегчением плюхнулся на скамью.
– Это уж совсем некрасиво с твоей стороны, трус ты этакий! – свысока пожурил его Шико. – Сперва вместе затеять честное убийство, а после запереть дверь, занавесить окно, притаиться за ними и перебирать четки. – Четки лежали тут же на столе. – Чтобы дело не удалось и чтобы нас обоих схватили. А? За это ты молился?
Толстяк залепетал:
– Я молился частью за то, чтобы оно удалось, а частью за то, чтобы не удалось. Значит, удалось наполовину? И вас-то я вижу только наполовину, – причитал он. В самом деле, от страха жировые мешки, заменявшие на его мерзкой физиономии щеки, поползли ему на глаза и почти закрыли их.
– До сих пор мы еще наполовину здесь. – Шико оставался сдержан, однако в тоне его звучала угроза. – Если король умрет от тех самых ран, которые мы с Ла Барром нанесли ему, тогда мы исчезнем, и нас больше не увидит никто. Зато ты останешься и поплатишься за свои молитвы, которые навлекли на нас пагубу. Тебя схватят, будут допрашивать, посадят задницей на раскаленное железо, но по оплошности примут за нее твою рожу.
При этих словах хозяин упал ничком и взвыл. Лежавший без чувств великан очнулся от его воя и повернул голову. Шико, на беду, не заметил этого и продолжал описывать толстяку все, что происходит при четвертовании, как трещат суставы, потом разламываются и человек смотрит, как лошади растаскивают его собственные члены; а на пути уже караулят мохнатые чертенята, скачут и ловят куски свежего мяса, чтобы засолить его. Все это рассказывал Шико воющему хозяину, а великан между тем прислушивался, стараясь не шевельнуться.
Когда хозяин наконец умолк от избытка отчаяния, Шико серьезно спросил его: хочется ли ему спастись от петли? Это единственное, сказал хозяин, о чем он еще может молить Бога, больше он не возьмет на душу ни одного смертного греха, хотя, к его великому прискорбию, уже немало их лежит бременем на его душе. Кто ему дороже, спросил Шико, он сам или человек на скамье? Дело ясное, отвечал хозяин. Тогда лучше и желать нечего, заметил Шико, хотя они оба, конечно, не меньше их приятеля причастны к покушению на короля. Но на этот раз они могут спасти свою телесную оболочку за счет их доброго приятеля, Ла Барра, и его земного бытия, которому, впрочем, пора уже пресечься.
– Отправляйся, кум, приведи стражу, мы выдадим его и умоем руки.
Хозяин робко заявил, что при таком положении их, пожалуй, тоже заподозрят, вообще же он не страдает излишней щепетильностью, а Ла Барр в самом деле заслуживает веревки.
– Но, на беду, мы все заодно, одна компания и вместе покушались на короля. Нашим россказням не поверят, а заберут нас всех.
– Мои россказни, без сомнения, примут за правду, – заверил его Шико. – Я опишу судьям, как присутствовал в соборе при отречении короля от старой веры и вдруг заметил человека, которого раньше не видел никогда. Лицо у него было точь-в-точь такое, как полагается убийце короля, но этого мало, он тщательно оберегал от толчков свой правый бок, отсюда я заключил, что нож у него заткнут между рубахой и штанами. Пробравшись к нему поближе, я ясно увидел очертания ножа: нож был с локоть длиной, превосходно отточенный и обоюдоострый, почему при каждом прикосновении молодец кривил рожу. Я подумал: «Ты еще и не такую скорчишь», влез на пилястр и повис на каменном драконе, где копошилось уже множество людей. Мой приятель стоял невдалеке от меня, и когда король шел мимо, это было как раз на повороте, приятель сунул руку за пазуху, – тут я прыгнул к нему на шею. Он свалился, поднял крик, весь бок был у него порезан. Так я сохранил нашего короля, да хранит его господь. Так я обезоружил убийцу и привел его сюда, ибо не нашел нигде патруля. Ну, кум, поверят мне судьи?
– Своими россказнями ты кого хочешь проведешь, – подтвердил хозяин. Однако на повторное приглашение сбегать за солдатами он почесал в затылке и сказал, что ему это не по нутру. Он стоит за то, чтобы они сами уладили дело, без участия посторонних. – Поверь мне, будет лучше, если мы сами его убьем и засолим. Вон там в темном чулане стоит большущая бочка, где он как раз поместится, ведь из такого, как он, получится много солонины.
– Я с тобой не согласен, – возразил Шико деловым тоном. – Я предпочитаю четвертование. Это всеми принятое законное действие, меж тем как засол, насколько мне известно, порицается религией. – В силу привычки, он не удержался, чтобы и тут не сострить по поводу религии. – Такой выход мог бы принести больше вреда нам, чем нашему приятелю, который своей глупостью заслужил чего угодно, – кончил он.
Они подробно обсудили вопрос, правда, каждый остался при своем мнении; но, в отличие от шута, который неуклонно отстаивал закон, хозяину жалко было потерять такой запас солонины. Тем не менее ему осталось только вздохнуть и сдаться:
– Ты сильнее меня. И короля ты ранил, и врать ты тоже мастер. Жди меня, я пойду за солдатами.
Хозяин ушел, тогда лежавший без чувств повернул голову, запрокинул ее так, что льняные волосы свесились через край скамьи, и сбоку взглянул на Шико.
– Приятель, – слабым голосом произнес он.
– Я здесь, приятель, – отвечал Шико, хотя порядком испугался. Ла Барр сказал:
– Ты послал хозяина за солдатами, теперь помоги мне поскорее убраться отсюда. Ведь мы вместе ранили короля.
– Что? – воскликнул Шико, оцепенев от изумления. – Мы ранили короля? – Ла Барр в ответ:
– Я, верно, спал и видел сны. Будь добр, приятель, вытащи у меня нож. Я столько крови потерял, что даже не помню, как это мы ранили короля.
Однако память ему ничуть не изменила, наоборот, из его слов Шико понял, какой это коварный великан. Он ухитрился бы запутать в свои преступные дела даже королевского шута, будь у него малейшая надежда уйти от палача.
– Видно, следовало отдать тебя в засол, – прикрикнул на него Шико. Он шагал по комнате, а великан, скосив глаза, следил за каждым шагом шута. Тяжкое преступление всегда опасно для того, кто узнал о нем. Тут уж надо идти до конца, надо выложить все, чтобы стать добропорядочным и правдивым свидетелем, который под всеобщее одобрение доводит другого человека до колеса или виселицы. «Кем же считает меня мой король Генрих? – раздумывал Шико. – Своим верным шутом? Своим наемным убийцей? Вероятно, и то и другое, и по нынешним временам каждый может быть взят под подозрение. Мне нужно забежать вперед, учинить допрос убийце и самому разыграть роль судьи, чтобы не осудили меня».
Поняв и продумав все это, шут Шико освободил солдата Ла Барра от обоюдоострого ножа, которым тот собирался поразить короля Генриха. Вместо этого нож искромсал бок ему самому, а когда был удален, на пол вытекла сразу целая лужа крови. Великан, чувствительный от природы и не привыкший плавать в собственном соку, чуть было снова не потерял сознание. Шико не допустил этого. Он надавал ему пощечин, затем обвязал раны его же рубашкой, смочив ее в растворе уксуса, посадил его, дал ему вина, после чего решительно потребовал, чтобы Ла Барр рассказал свою историю.