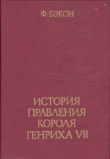Текст книги "Зрелые годы короля Генриха IV"
Автор книги: Генрих Манн
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Снова Агриппа
Столько всего сразу, что голову можно потерять. Генеральные штаты в Париже, недурная помесь – полоумное сектантство и вздорная наглость близящейся к полному упадку всемирной державы, которая до последней минуты стремится пожирать королевства. А разыгрывается весь этот фарс перед людом, которому куда лучше было бы, если бы настоящий его король раздал ему хлеб родной земли, вот ради чего стоило бы потрудиться! «Наше назначение в жизни по большей части игра». Так говорил ныне прославленный старый друг короля французского по имени Монтень; тот самый, кто говорил: что я знаю? Но незабываемы остались для короля его слова: «Сомнения мне чужды». Да, некоторые черты внешнего мира заставляют презреть колебания и убивают нашу доброту. Надо идти на них приступом и сокрушать их без пощады, что внешний мир склонен прощать, по крайней мере до поры до времени. Или лучше, во имя государственных соображений, совершить насилие над самим собой, изменить своей вере, отречься от нее? Бог весть, что будет потом. Но такова, как видно, его воля, выхода нет, нет уже и края у бездны, и не осталось разбега для великого смертельного прыжка.
А потому спеши! Как же поступил тут Генрих? Он призвал к себе своего д’Обинье, своего пастыря в латах, свою бесстрашную совесть, того, у кого всегда поднята голова, на устах псалмы и спокойная улыбка праведника. Низенький человечек Агриппа заметил:
– Я пользуюсь высоким благоволением и не знаю отдыха от дел. – Но за дерзкой миной скрывалось мучительное сознание, что нужен он в последний раз. В последний раз, Агриппа, твой король Наваррский призывает тебя. Потом он совершит смертельный прыжок на ту сторону, а по эту останутся все его старые друзья из времен битв, из времен бедности и истинной веры.
Агриппа воспользовался случаем поговорить с королем и напрямик высказал все сразу, начав, по привычке, с того, что у него нет денег. Кому не известно, что он не меньше шести раз спасал королю жизнь.
– Сир! Вашими финансами управляет темный проходимец, и как раз он, этот самый д’О, подстрекает вас перейти в католичество. Судите сами, к чему это поведет!
Агриппа думает: «Когда это свершится, ни единого слова не пожелает он выслушать от меня. Какое страшное расстояние между свершенным и несвершенным. Теперь он склоняет передо мной голову. Теперь он говорит».
Генрих:
– Totus mundus exercet histrionem.
Агриппа:
– Я вижу, папа приобретает дурного сына. А нас вы покинете и заслужите ненависть отважных людей, всецело преданных вам.
Генрих:
– Все зависит от рассудительности человека. Мой Рони советует мне решиться.
Агриппа:
– Недаром у него голубые глаза, как из фаянса, и щеки точно размалеванные. Ему не важно, что вы попадете в ад.
Генрих:
– А мой Морней! Морней, или добродетель. Мы немало спорили. Оба мы не признаем чистилища. На этом я стою крепко, и ни один поп не переубедит меня, будь покоен, но, принимая причастие, мы пьем истинную кровь Христову, это я всегда отстаивал.
Агриппа:
– Спорить хорошо и полезно для души, покуда она еще стремится постичь истину. Наш честный Морней верит в вас. Его вам легко обмануть, обещав ему созвать собор из богословов обоих исповеданий, дабы определить истинную веру. Но если истина не та, которая полезна, собор не имеет смысла.
Генрих:
– А я говорю, имеет смысл. Ибо многие пасторы согласились уже в том, что душу можно спасти, исповедуя как ту, так и другую религию.
Агриппа:
– Если плоть подобных пасторов немощна, то и духом они не сильны.
Генрих:
– Мне спасение души моей поистине дорого.
Агриппа:
– Государь, в это я верю. Теперь же я прошу и заклинаю вас, чтобы вы постигли настоящую цену каждого из ваших сподвижников. Не все мы холодны и архирассудительны, подобно Рони. Не все мы обладаем непорочностью вашего дипломата Морнея. Но один из лучших ваших воинов, Тюренн, задал вопрос, почему нельзя изменить вам: сами ведь вы подаете пример.
Вот уж снова король поник головой, замечает Агриппа.
Генрих:
– Измена. Пустой звук.
Он вспоминает разговор с сестрой. Самые близкие изменяют друг другу, слишком поздно сознают это и видят, что им, дабы не изменять, следовало не родиться вовсе. Тут он слышит имя пастора Дамура.
Агриппа:
– Габриель Дамур. Помните Арк? Когда, казалось, все для вас погибло, он запел псалом, и вы были спасены. При Иври он прочел молитву: вы победили. Настали времена, когда он громит вас с амвона. Прежде ядовитые гады шипели, но были бессильны против вас. В этом же суровом голосе – истина, но отступнику она все равно что яд. Община верующих отворачивается от него.
Действительно, пастор Дамур написал королю: «Лучше бы вам слушаться Габриеля Дамура, чем какой-то Габриели!»
Генрих:
– В чем моя главная вина?
Но на это Агриппа не отвечает – из целомудрия или оттого, что высокомерие его не простирается так далеко, чтобы произнести окончательный приговор. «Великая вавилонская блудница», – думает он, так и пастор Дамур говорил втихомолку, но не перед прихожанами, во избежание соблазна. «До чего доведет тебя эта д’Эстре, сир. Она обманывает тебя, о чем ты, во всяком случае, должен знать. А вдобавок еще ее отец ворует».
Агриппа:
– Душа моя скорбит смертельно. Хорошо было время гонений. Почетно было изгнание. Уединенная провинция на юге, до престола еще далеко, и когда у вас не было денег для игры в кольца, вы поручали мне сочинить благочестивое размышление, чтобы без больших издержек развлекать двор. А звездой над нашей хижиной была сестра ваша, принцесса.
Генрих:
– Я всегда подозревал тебя в пристрастии к ней.
Агриппа:
– Она перекладывала на музыку мои стихи, она пела их. Тщетным словам моим она давала звучание, скромные весенние цветы перевязывала золотом и шелком.
Генрих:
– Мой Агриппа! Мы любим ее.
Агриппа:
– И пусть голос отказывается мне повиноваться, все же признаюсь, я увидел ее вновь. Как ни тайно и быстро отослали вы принцессу в долгий обратный путь, я поджидал ее на краю леса.
Генрих:
– Не утаивай ничего, что она сказала?
Агриппа:
– Она сказала, что в Наваррском доме царит салический закон[29]29.
Салический закон – свод законов древнегерманского племени салических франков, согласно которым наследование земель и связанных с ними титулов происходило только по мужской линии.
[Закрыть], дающий наследнику по мужской линии все – только не твердость духа.
Сперва у короля опустились руки, так страшны были ему эти слова сестры. Но вслед за тем он судорожно сплел пальцы и прошептал:
– Моли Бога за меня!
Таинственный супруг
И Агриппа молился, и еще многие другие, каждый в своем сердце молились в это время за короля, ибо им на самом деле казалось, что он в опасности, особенно душа его, однако и тело тоже. Спасение пришло или по меньшей мере возможность спасения открылась королю. Господин д’Эстре выдал дочь замуж.
Ее последнее приключение в Кэвре с королем на кровати и с обер-шталмейстером под кроватью так или иначе дошло до его ушей, Бельгард не умел молчать. Кроме того, ревнивец отомстил за свое унижение, он влюбился в мадемуазель де Гиз[30]30.
Мадемуазель де Гиз – Луиза Гиз-Лотарингская (1577—1631), дочь Генриха Гиза. Вышла в 1605 г. замуж за принца де Конти.
[Закрыть] из рода лотарингцев; но род этот все еще стремится к престолу, герцог Майенн по-прежнему воюет с королем. А потому Блеклый Лист исчез с горизонта – его не видно было ни в траншеях под Руаном, ни во время частых поездок короля по стране для военных целей. Папаша д’Эстре воспользовался отсутствием обоих, чтобы выдать Габриель замуж за господина де Лианкура – человека невзрачной наружности, которого он сам подыскал. Ни умом, ни характером тот также не отличался, зато прижил четверых детей, и двое из них были живы. Это отец особенно ставил на вид Габриели: любовные связи ни к чему не приводят; а при таком супруге она может быть уверена, что станет матерью. Это была первейшая забота господина д’Эстре. Затем не худо, что избранник – тридцатишестилетний состоятельный вдовец, замок его расположен поблизости, происхождение вполне удовлетворительное.
Габриель, с тоской в сердце, оказала сперва надменное, но не слишком решительное сопротивление. Она чувствовала, что покинута своим прекрасным соблазнителем, не надеялась также и на помощь своего высокого повелителя, иначе она позвала бы его. Кроме того, она рада была позлить обоих – и высокого повелителя, и сердечного друга. Больше хлопот причинил господину д’Эстре его зять, который, будучи от природы робок, трепетал при мысли о том, чтобы оспаривать у короля столь недавнюю его победу. Независимо от этого, мадемуазель д’Эстре была для него слишком хороша. Он слишком сильно ее желал, что при его робости предвещало немало разочарований. Он знал себя, хотя, с другой стороны, именно скромное мнение о себе внушило ему теперь чувство духовного превосходства. Таков был по натуре господин де Лианкур, а посему, когда наступил торжественный день, он улегся в постель и притворился больным. Нуайонскому губернатору пришлось с солдатами везти своего зятя к венцу. При таких обстоятельствах всем было не по себе, кроме честного малого д’Эстре, который чувствовал себя на высоте положения, чего обычно с ним не бывало. Тетка, мадам де Сурди, казалось, могла бы считать, что на блестящей карьере их семьи поставлен крест; однако она не горевала – ей хорошо были известны превратности счастья.
Когда госпожа Сурди, спустя три дня после свадьбы, нарочно предприняла поездку из Шартра в замок Лианкур, что же она узнала? Вернее, она деликатно выспросила племянницу и сама же подсказала ответ. В конце концов трудно было установить, как все произошло; одно осталось бесспорным: господин и госпожа де Лианкур спали врозь. Едва услышав это, возмущенный отец молодой женщины поскакал галопом в замок Лианкур – увидел смущенные лица и не добился ни решительного «да», ни ясного «нет». Только в разговоре с глазу на глаз дочь призналась ему, что брак ее до сих пор по-настоящему не свершился и, насколько она успела узнать господина де Лианкура, надежд на свершение мало. Честный малый, побагровев от гнева до самой лысины, бросился к презревшему свои обязанности хозяину замка. Отец четверых детей – и осмеливается нанести такое оскорбление! Господин де Лианкур извинился, сославшись на удар копытом, недавно, на беду, нанесенный ему лошадью.
– В таком случае не женятся! – фыркнул честный малый.
– Я и не женился, вы меня женили! – тихо отвечал затравленный зять. Хотя он держался робко, но вместе с тем как будто витал в заоблачных сферах. Трудно было понять, с кем имеешь дело: с чудовищем притворства, со слабоумным или с призраком. Господин д’Эстре сразу пал духом и умчался прочь из этого замка.
Тотчас вслед за тем, получив соответствующие известия, в Нуайон прибыл король. Он одновременно услышал не только о неожиданной потере возлюбленной Габриели, но и об ужасной кончине ее матери. Иссуар – это город в самой глубине Оверни; мадам д’Эстре, раз навсегда забывшая долг, не могла расстаться с маркизом д’Алегром, она предпочла не присутствовать на свадьбе дочери. Лучше бы она поехала! Стареющая женщина хотела напоследок исчерпать всю любовь без остатка, однако и в денежных делах тоже была крайне требовательна к своему другу. Иссуарскому губернатору приходилось беспощадно выжимать соки из населения, чтобы удовлетворять прихоти своей возлюбленной. Оба стали до смерти ненавистны народу – и смертоубийство свершилось. Его учинили июньской ночью двенадцать человек, среди них двое мясников. Они опрокинули стражу, вломились в спальню и прикончили чету. Дворянин храбро защищался, тем не менее их обоих выбросили голыми из окна на съедение воронью.
Король сказал нуайонскому губернатору: иссуарский губернатор погиб ужасной смертью.
– Вместе со своей любовницей, – присовокупил господин д’Эстре, кивая головой с видом мудреца, чьи предсказания полностью оправдались.
Королю следовало бы тут почувствовать, как овевают его молитвы друзей: перед ним явно открывалась возможность спасения. Мать его возлюбленной первая пошла по этому роковому пути и дошла до конца. По человеческому разумению, удержать дочь от того же никак нельзя, однако король именно на это направил свои старания. Габриель находится теперь под защитой супруга, Генрих радовался только, что это не Блеклый Лист, с ним было бы больше хлопот. Не мешкая, посетил он прекрасную свою любовь и принялся заклинать ее чем угодно, чтобы она ушла отсюда и чтобы жила с ним, иначе ему невмоготу. Ей тоже, – созналась наконец Габриель, с рыданием прильнув к его груди; возможно, она плакала настоящими слезами, Генрих их не видел. Во всяком случае, имя господина де Лианкура вырвалось у нее со вздохом и вместе с ним еще одно слово, от которого у Генриха замерло сердце.
– Это правда? – спросил он.
Габриель утвердительно кивнула. Однако добавила со вздохом, что будет терпеть этого мужа, несмотря на его неспособность к супружеской жизни.
– Пример моей бедной матери – страшный урок для меня. Я боюсь господина де Лианкура, потому что не понимаю его. То, что он говорит, – нелепо, что делает – загадочно. Он запирается у себя в комнате. Я пыталась подсмотреть в замочную скважину, но он прикрыл ее.
– Мы это все разузнаем, – решил Генрих и в воинственном настроении направился к владельцу замка, но противника себе не встретил. Дверь была настежь, человек без определенной физиономии склонился перед королем, казалось, все житейское ему чуждо, кроме разве изящной одежды, затканной серебром, и ослепительных брыжей – панталоны, равно как и камзол, сидели безупречно, принимая во внимание его жалкий рост. Надо было ухватиться за что-нибудь осязаемое, и Генрих спросил щеголя о происхождении и стоимости надетых на него тканей. Не дослушав ответа, Генрих воскликнул:
– Это правда, что вы не мужчина?
– Я был им, – сказал господин де Лианкур с таким видом, словно весь он в прошлом. Еще он сказал строго официально, с расстановкой и поклонами: – Иногда я бываю мужчиной. Сир! Я сам решаю, когда мне быть им.
Возможно, это было чистое высокомерие. Либо под этим скрывалась преданность царственному любовнику своей супруги; трудно было понять сущность этого человека и добиться от него точного ответа. Генрих промолвил почти просительно:
– А удар копытом?
– Удар копытом имел место. Мнение докторов о нем и его последствиях допускает различные толкования. – От этого заявления король только рот раскрыл.
Ему стало как-то не по себе. Отсутствие определенной физиономии, непостижимая скромность и самоуверенность, как у лунатика или привидения. Это существо ни в чем не признается, ничего не желает; оно только показывается, только заявляет о своем существовании, да и то слабо. Генриху стало невтерпеж. Он ударил кулаком по столу и закричал:
– Правду!
Его гнев относился к обоим, к этому призраку и еще больше к Габриели, которая, вероятно, налгала ему и каждую ночь спала с мужем. Он крупными шагами пересек комнату, упал в кресло и прикусил себе палец.
– Жизнью вашей заклинаю! Правду!
– Сир! Ваш слуга ждет приказаний.
Тут ревнивец понял, что все будет так, как он пожелает. Ему следовало бы раньше додуматься до этого; мгновенно успокоившись, он приказал:
– Вы передаете мне мадам де Лианкур. За это вы назначаетесь камергером. Габриель получает от меня в качестве приданого Асси, – замок, леса, поля, луга.
– Я ничего не требую, – сказал супруг. – Я повинуюсь.
– Габриель продолжает носить ваше имя. Возможно, что в дальнейшем я ее сделаю герцогиней д’Асси. После ее смерти все наследуют ваши дочери. Сударь! – окликнул он, перебив сам себя, ибо казалось, будто тот уснул стоя. – За это вы подтвердите без возражений все, что нам угодно будет объявить, – продолжал предписывать король. – Иначе берегитесь: госпожа д’Эстре вышла за вас замуж только по принуждению, и своих супружеских обязанностей вы не выполняли, все равно, по причине ли удара копытом или тайной болезни. Понятно?
Можно было не сомневаться, что господин де Лианкур понял, несмотря на свое странное оцепенение. Оно возрастало, по мере того как на господина де Лианкура сыпались подарки, смертельные опасности и перемены судьбы. Генрих оставил его и захлопнул за собой дверь.
По уходе короля тот некоторое время стоял, устремив взгляд себе под ноги. Наконец он выпрямился, запер дверь, прикрыл замочную скважину, достал из ларя толстую книгу в кожаном переплете с родовым гербом Амерваль де Лианкуров и начал писать. Он запечатлел, подобно всем событиям своей жизни, и это последнее. С большой точностью описал он короля, его речи, душевные побуждения и ходьбу по комнате. Сознательно или нет, но образ и роль короля он изобразил так, что смело мог смотреть на него сверху вниз. Со своей прекрасной супругой он давно проделал то же самое. Но эту свою запись он заключил сообщением для потомства. Он начертал сверху крупными буквами: «Весьма важное истинное свидетельство Никола д’Амерваля, господина де Лианкура. Прочесть после его кончины и сохранить на вечные времена».
«Я, Никола д’Амерваль, владелец Лианкура и других поместий, в здравом уме, предвидя свою кончину, но не предвидя ее часа…» Он облек то, что задумал оставить потомкам, в торжественную форму завещания; далее он заявлял, что все с ним приключившееся – несправедливость, ложь и насилие. Он отрицает за собой неспособность или неискусность в плотском труде деторождения – тому свидетель Бог. Если же при бракоразводном процессе он покажет обратное, то сделает это только по причине послушания королю, а также из страха за свою жизнь.
Пастор Ла Фэй[31]31.
Ла Фэй Антуан де (род. в первой половине XVI в. – ум. в 1615 г.) – французский пастор, крупный теолог, соратник и друг Беза. Оставил после себя большое количество религиозных трактатов.
[Закрыть]
Габриель, не мешкая, явилась к Генриху. Он послал за ней дворян, которые привезли ее к его кочевому двору, и оба были очень счастливы. Женщина радовалась, что выбралась из своего жуткого замка, где за закрытыми дверями творятся подозрительные дела. Мужчину восхищало, что она его любит; и, конечно, по сравнению с покинутым супругом она любила его. Ее сверкающее, обольстительное тело, отдаваясь, продолжало быть спокойным, чего не замечал страстно жаждущий любовник. Разница была очевидна: прежде безрадостная покорность его желаниям, теперь столько терпения и ласки. Генрих думал, что достиг всего, а кто стоит на вершине, тот чувствует себя свободным. Кажется, что от него теперь зависит, остаться с любимой или нет. Конец так далек, что можно говорить о вечной любви, зная по неоднократному опыту, сколь это бывает длительно, вернее, сколь кратко.
По-настоящему Генрих не знал ничего. Эта совсем иная, и причинит ему больше хлопот, чем все остальные, вместе взятые. На протяжении тех лет, что ей еще суждено жить, мало осталось простора для него и для его чувств, а в завершение – ее смерть, самая значительная до его собственной смерти. Теперь она отдается ему ласково, и только, ибо она прямодушна и не хочет притворяться. Но то, чего она еще не чувствует, он постепенно завоюет: ее нежность, ее пыл, ее честолюбие, ее покорную верность. Он делает все больше открытий, трепетно вступает он на каждом этапе их близости в новый мир. И он готов стать новым королем и новым человеком всякий раз, как она, через него, становится другой. Готов самого себя отринуть и посрамить, лишь бы она любила его. Отречься от своей веры и получить королевство. Стать победителем, оплотом слабых, надеждой Европы – стать великим. Не довольно ли этого: все это предрешено и должно случиться, одно за другим. Но затем возлюбленная великого короля доведет до конца свою роль орудия судьбы: она умрет, и ему суждено будет стать мечтателем и провидцем. А в итоге современники не постесняются показать, сколь докучен стал им он сам и его дела. Они отвернутся от него, меж тем как он одиноко будет подниматься все выше и выше, пока не исчезнет. Ничего этого не знал Генрих, когда приглашал мадам де Лианкур к своему кочевому двору и был с ней очень счастлив.
Здесь она всем чрезвычайно нравилась и не нажила себе ни противников, ни противниц. Женщины видели и признавали, что она не обнаруживала ни малейшей нескромности как в речах, так и в манерах. Она выказывала много юного смирения перед каждой дамой более высокого рода или более зрелого возраста. Не интригами или распутством, а только милостью короля достигла она своего положения, а потому не подобало укорять ее этим. Мужчины при кочевом дворе были простые воины, суровый Крийон, храбрый Арамбюр, «Одноглазый» – такое прозвище дал ему его друг и государь.
– Завтра у нас бой, Одноглазый. Береги свой глаз, а не то совсем ослепнешь! – Пожилые гугеноты кочевой резиденции были глубоко нравственны и в этом несхожи с королем. Молодежь безоговорочно брала его себе за образец; но для обоих поколений протестантов, равно как и для преданных ему католиков, Генрих был великий человек, достойный только восхищения, и до конца его постичь можно, только любя его.
Почувствовав это, прекрасная д’Эстре всецело прониклась настроением, царившим вокруг короля. Здесь он явился перед ней личностью, далеко превосходящей любовника, с которым ей пришлось свыкнуться, и даже победитель Шартра, чей ореол льстил ей, отошел на второй план. Здесь все мужчины в любой миг отдали бы свою жизнь за его жизнь, а каждая женщина пожертвовала бы сыном. И как мужчины, так и женщины сочли бы себя при этом осчастливленными, ибо король олицетворял лучшее, что было у них, их собственное существо, но доведенное до совершенства, их веру, их будущность. Габриель, натура хладнокровная, скорей расчетливая, нежели распущенная, спокойно наблюдала, исподтишка потешалась – но при этом постигала, на чем ей строить свои надежды и как вести себя. Если сердце ее не было вполне растрогано, то взгляды ее переменились.
При дворе она была уравновешенней всех. Высокое ее положение сказывалось только лишь в полной невозмутимости, иные называли это холодностью. Ее почитатель, господин д’Арманьяк, первый камердинер короля, называл ее северным ангелом. Никто, за исключением Генриха, так не понимал ее очарования, как д’Арманьяк. Северный ангел, говорили и другие гасконцы, и взгляды нескрываемого обожания ловили ее взор, светлый и загадочный. Дворяне, тоже происходившие из северных провинций, употребляли это прозвище, в духе своего повелителя, с легкой насмешкой и с большим добродушием. Под конец даже упрямый Агриппа д’Обинье признал, что, невзирая на всю свою красоту, госпожа д’Эстре не расточает пагубных чар.
Будучи на виду у всех и не защищенная ничем, Габриель не сделала почти ни одного промаха, во всяком случае, не сделала самого главного. Все ждали, произнесет ли она имя Бельгарда. Как бы она ни поступила, – заговорила о нем или умолчала, все равно она повредила бы себе. Наконец она все-таки упомянула о своем бывшем любовнике, но никакого ущерба отнюдь себе не нанесла. Молодой Живри[32]32.
Живри Анн д’Англюр, барон де (1560—1594), – ревностный католик, но тем не менее сторонник Генриха IV в его борьбе с Лигой. В 90-х годах боролся против испанцев, был взят в плен герцогом Пармским.
[Закрыть], сверстник обер-шталмейстера и такой же видный, почтительно и галантно ухаживал за ней; вернее, он через нее ухаживал за королем.
– Господин де Живри, вы сказали слова, которых король вам никогда не забудет! – заявила мадам де Лианкур так, что многие слышали ее. – Слова, прогремевшие среди дворянства: «Сир! Вы король храбрецов, покидают вас одни трусы». Так сказали вы, и выразились весьма метко. Однако герцог де Бельгард не трус, королю недолго придется ждать его, он непременно вернется.
И это все. Никакого упоминания о мадемуазель де Гиз, чем было ясно дано понять, чтобы о любовных историях даже не заикались, ибо единственно важное – это верность королю. Ход был ловкий – его признали прямодушным и смелым. Скандал как будто предотвращен, а может быть, и нет? Многие сочли, что она зашла слишком далеко в своих притязаниях на полную безупречность, принимая во внимание истинное положение дел. На последнее неоднократно указывали пасторы королевской резиденции: оба, король и мадам де Лианкур, состоят в супружестве, отсюда двойное прелюбодеяние на соблазн миру и явное пренебрежение к религии. На сей раз пасторы возвысили голос и сказали «Иезавель», меж тем как прелаты молчали. «Иезавель» сказали пасторы, как будто жена еврейского царя Ахава, склонившая его к вере в своего бога Ваала, имела что-то общее с католичкой – подругой короля Французского. Правда, Иезавель подвергалась преследованиям пророка Ильи, пока ее не сожрали собаки, оставив лишь голову, ноги и кисти рук. Предсказания пророка оправдались. Пасторы же могли ошибаться, они показали себя жестокими и хотя бы потому неумными. Они запугали даму и пресекли ее благие намерения.
От священников своей церкви возлюбленная короля видела только ласковое поощрение; однако никаких определенных надежд на высокое супружество, до этого дело отнюдь не дошло. Даже развод госпожи д’Эстре с мужем далеко не был решен, не говоря уже о браке короля, на который, наверное, не захочет посягнуть ни один клерикальный дипломат, избегающий всяких осложнений. И о переходе короля в католическую веру, хотя все вело к этому, хотя его срок все приближался, прелаты не упоминали ни словом в разговорах с королевской любовницей. Это был урок для Габриели, и она поняла его. В часы их близости Генрих не слыхал от нее ни единого, даже шепотом произнесенного намека на перемену веры. Однако протестантских слуг своих она рассчитала – без шума, следуя совету тетки Сурди, которая по-прежнему была на страже.
Пастор Ла Фэй был старый кроткий человек, некогда державший Генриха на коленях. Он-то и решился поговорить с королем. Ему это пристало, потому что он не был ни благочестивым ханжой, ни тупым ревнителем нравственности. Он признавал, что душу можно спасти в обоих исповеданиях.
– Я скоро предстану перед Богом. Но будь я католиком и призови меня Господь наперекор моим упованиям во время мессы, а не во время проповеди, все же он из-за этого не отвратит от меня ока со своей лучезарной выси.
Пастор сидел, король шагал перед ним по комнате взад и вперед.
– Продолжайте, господин пастор! Вы не Габриель Дамур, у вас в руках нет огненного меча.
– Сир! Это поворот ко злу. Не вводите в соблазн своих единоверцев, не позволяйте силой вырвать себя из лона церкви!
– Если я последую вашему совету, – возразил Генрих, – вскоре не станет ни короля, ни королевства.
Пастор поднял руку, как бы отмахиваясь от чего-то.
– Мирские толки, – сказал он бесстрастным тоном, показывающим, что их надо отринуть и отмести. – Король чувствует, что ему грозит нож, если он останется при своей вере. Но стоит ему отречься от нее, как нам, гугенотам, придется опасаться и за свободу своего исповедания, и даже за свою жизнь.
– Заботьтесь сами о своей безопасности, – вырвалось у Генриха, но тут же, устыдившись, он заговорил с жаром: – Мое желание – мир для всех моих подданных, а для себя самого – покой душевный.
Пастор повторил:
– Покой душевный. – И продолжал медленно, проникновенно: – Это уже не мирские толки: так говорим мы. Сир! После перехода в другую веру вы уже не будете с чистым сердцем и просто, просто и бестрепетно стоять перед народом, который любил вас, а за то любил вас и Господь. Вы были милостивы, потому что были ни в чем не повинны, и радостны, пока ничему не изменяли. Тогда же… Сир! Тогда вы перестанете быть упованием.
Все равно, истинно или ложно было это слово – вероятно, и то и другое, – но сказано оно было со всей силой духовной ответственности, и король побледнел, услышав его. Старому охранителю его юности стало тягостно это зрелище, он шепнул торопливо:
– Но иначе вам нельзя.
Он хотел встать, дабы показать королю, что теперь устами его говорит уже не религия, а только смиренный человек. Король заставил его сесть; сам он крупными шагами ходил по комнате. «Дальше!» – потребовал он, вернее подумал, а не произнес вслух.
– Какие же новые пороки или добродетели появились у меня?
– Они все те же, – сказал Ла Фэй, – только с годами приобретают другой смысл.
Король:
– А разве нет у меня больше права быть счастливым?
Пастор, покачав головой:
– Вы почитаете себя счастливым. Но некогда Бог даровал вам беспорочное счастие. А теперь вам придется претерпеть немало зла и самому сотворить много еще более тяжкого зла ради вашей возлюбленной повелительницы.
– Моей возлюбленной повелительницы, – повторил Генрих, ибо так он называл ее на самом деле. – Что она может навлечь на меня?
– Сир! Взгляните прямо на все, чему суждено быть. Господь с тобой!
Что это означало? Королю надоели выпады и загадки старика; он покинул комнату и вышел на улицу своего города Нуайона; там плотной массой сгрудился народ. Только при появлении короля толпа раздалась и из своих недр выбросила не кого иного, как господина д’Эстре, губернатора города, который после возвышения дочери стал губернатором всей провинции. Он с трудом протиснулся вперед, за ним тянулось множество рук.
– Господин губернатор, кто осмелился тронуть вас? – строго спросил король, и, так как подоспела его стража, толпа стала разбегаться. На господине д’Эстре одежда была изорвана, из-под нее торчали странные предметы: детские шапочки, крохотные башмачки, жестяные часы, деревянная лошадка, покрытая лаком.
– Я купил ее, – сказал господин д’Эстре.
– Шапочки он у меня не покупал, – утверждала какая-то лавочница. Другой ремесленник вторил ей:
– А башмачков у меня он тоже не покупал.
Третий мирно, но не без насмешки, просил сделать одолжение и уплатить ему за игрушки. Король в тягостном ожидании смотрел на своего губернатора, который что-то невразумительно бормотал; но покрасневшая лысина выдавала его. Шляпа его валялась истоптанная на земле, хорошо одетый горожанин невзначай что-то вытащил оттуда – глядите, кольцо: не подделка, настоящий камень.
– Из шкатулки, которую господин д’Эстре просил меня показать, – пояснил купец.
– Вещи все налицо, – сказал король. – Я держал пари с господином губернатором, что ему не удастся приобрести их тайком. Я проиграл и плачу вам всем.
Сказав так, он крупными шагами пошел прочь.