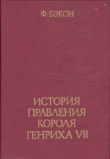Текст книги "Зрелые годы короля Генриха IV"
Автор книги: Генрих Манн
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Раздумье
Важные перемены в жизни такого человека, как Генрих, никогда не совершаются ни на основании долгих расчетов, ни как следствие мгновенного решения. Он вступает на определенный путь, бессознательно или уже зная, но еще отказываясь верить. Он идет как по наитию, временами провидит чудовищную необходимость, но она еще маячит вдалеке. Часть дороги пройдена, возврат был бы труден, цель сомнительна, трудно поверить в достижение, и вдруг оказываешься у цели, все было точно сон. Но Генрих ни на один миг не чувствовал себя во сне, он, привыкший всегда что-то делать! Удары и контрудары, упорное и действенное стремление к этому королевству, постоянная страсть к этой женщине, победы и поражения, где же тут грезить среди таких трудов? Битвы, осады и сделки, много завоеванных городов, столько же купленных, как, впрочем, и людей; вечная необходимость изворачиваться, хитрить, платить или принуждать. Когда его противник Майенн задумал соблазнить его католиков, он поспешил перехватить тех, что были на стороне Майенна, склонил их к совместным переговорам и вынудил у них признание в том, что единственный для них повод отвергнуть короля – его религия. В ответ на это он приказал объявить собранию, и притом через архиепископа, что в таком случае все улажено, он переменит веру.
Это он часто обещал, чему же удивляться, если многие не поверили ему. Однако в Париже не выбрали ни беднягу Суассона, который вряд ли серьезно на это рассчитывал, ни инфанту, ибо испанская партия посрамила себя жестокостью и бесстыдством. Парижане избрали законного короля, независимо от того, отречется ли он от ереси или нет. Правда, подразумевалось, что он отречется, и тем успокаивались сомнения. Если впоследствии и окажется, что он всех дурачил, вина не падет ни на кого, ни даже на самого Генриха. Наконец многие признавали, что у него есть своя совесть и право на эту совесть. Терпимость внедряется в людей, когда они слишком долго страдали от собственного упорства. Посвященные и хорошо осведомленные решительно не верили в его обращение.
– Ради одной лишь выгоды беарнец не переменит религии, – сказал кто-то из послов. И Генрих сам согласился с ним, но при этом уже явственно видел, что ему предстоит.
Епископы и прелаты, его окружавшие, наставляли его тогда в религии большинства, вернее, оспаривали его возражения или пасовали перед ним, ибо воинственный сын протестантки Жанны в богословии умел постоять за себя. Это было за три дня до события, которое он давно предвидел, и тем не менее он упорно отрицал чистилище, назвал его неудачной шуткой; неужели же господа прелаты принимают эту выдумку всерьез? Отослал их с заготовленной ими формулой отречения, и они ушли, чтобы приступить к нему опять с новой. Однако папский легат запретил им вообще подходить близко к еретику. Генрих, со своей стороны, заявил и велел занести в протокол: во всем, что он делает, он согласуется единственно со своей совестью, и если бы она не позволила, то и за четыре таких королевства, как его, он не отказался бы и не отрекся от религии, в которой был вскормлен. Когда он произнес эти слова и секретари-клирики их записали, наступила великая тишина.
Она возникла не в собрании, там и дальше что-то доказывалось, оспаривалось, дело шло своим чередом. Тишина легла на душу сына королевы Жанны. Никогда в жизни все вокруг так не смолкало для него и он не был настолько одинок. Впервые он заметил: «Я грежу. Я действовал для виду, моя воля и желание были лепетом со сна. Я не властен над тем, что со мной происходит. Тщетно ищу слова, которое могло бы отвратить наваждение. Я перенесен сюда во сне. От меня ускользает слово, иначе я знал бы многое. Иначе я знал бы, кто я».
В эту ночь Габриель плакала. Подле нее лежал Генрих, глядел на нее и ничего не видел. Сегодня впервые она воспользовалась ночной близостью, чтобы просить его отречься. Ни днем, ни под покровом спальни она никогда не докучала ему вопросами веры. Она поняла без долгих дум, что ее тело и его любовь не могли тут сыграть решающую роль, а если и могли, то молча, без слов, без слез. Последние давались ей особенно тяжело. Прелестная Габриель не была склонна к слезам. Просьбы не были ей свойственны, она благодарила неохотно и редко проявляла умиление. Между тем ее тетка де Сурди поспешила приехать, чтобы наставить и настроить ее соответственным образом. Король – ненадежный партнер, он спорит с прелатами, ссылается на свою совесть: к чему все это, когда шаг решен и даже, в сущности, уже сделан.
– Какой шаг? – отвечала Габриель тетке. – Он называет это прыжком, он писал мне: «В воскресенье я совершу смертельный прыжок».
Она произнесла это с едва заметной дрожью в голосе. Однако многоопытная Сурди смекнула, что в душу племянницы закрадывается чувство, в ущерб здравому смыслу. Поэтому она немедленно же отказалась от всяких маловажных соображений, вроде интересов религии, существования королевства или сомнительной пользы для души христианки от сожительства с еретиком. Оставив все это в стороне, она обратилась к серьезным доводам, она спросила:
– Неужели ты хочешь, чтобы твой отец был изгнан из Нуайона? Господин де Сурди – из Шартра? А господин де Шеверни вернул печать, и все из-за твоего упрямства? Король проиграет игру, ему останется только бежать, и нам вместе с ним, и виной тому будешь ты одна. Счастье, что я существую на свете. Как? Ты пожалеешь своего влюбленного рогоносца, ты откажешься сделать единственное, что нужно для того, чтобы он отрекся?
– А что нужно? – спросила, испугавшись, Габриель.
– Не подпускать его к себе. Тогда он поступит так, как должен поступить. И мне пришлось приехать сюда, чтобы преподать тебе такую мудрость!
– Я этому не верю, – сказала Габриель.
У тетки слова застряли в горле.
– Тебя точно подменили. – Для вида она осторожно приложила платок к своим подведенным глазам. – Если ты не хочешь подумать обо всех нас, о бедности и гонениях, которые так нам знакомы и теперь вновь грозят нам, мое дорогое дитя, если не о нас, подумай хоть о себе! Только переход его в истинную веру обеспечит твое будущее. Он расторгнет свой брак, он женится на тебе – возведет тебя на престол. Все это сейчас еще в твоей власти, и ты знаешь, какова на вид эта власть: в точности как ты сама, у нее твоя грудь, живот и задница. Упустишь ты это сегодня, в нынешнюю же ночь, завтра уж не догнать тебе счастья: его и след простынет. Тогда окажется, что ты принесла королю несчастье, что он несчастный король, а это хуже, чем если бы он вовсе не был королем. Ты жалеешь его из-за пустякового отречения, лучше убереги его от настоящей беды. Вы будете жить в несчастье; куда ты ни повернешься – всюду несчастье. А в несчастье, дорогое мое дитя, поверь мне, в несчастье нельзя удержать никого, а его особенно.
Тревога, которая охватила было Габриель, сразу же улеглась. Габриель лениво усмехнулась и отрицательно покачала головой. Она не сомневалась, что удержит его. Госпожа Сурди окончательно вышла из себя. Она топала ногами, металась по комнате и пронзительным голосом выкрикивала самые скверные ругательства.
– Слишком глупа для шлюхи! – были ее заключительные слова. – Вот от кого приходится зависеть! – При этом тетка подняла руку. Габриель перехватила руку, прежде чем та успела коснуться ее лица.
– Тетушка, – сказала Габриель удивительно хладнокровно, – то, что ты говорила вначале, произвело на меня впечатление. Поэтому я решила, что сегодня ночью буду плакать.
– Плакать. Хорошо, плачь. – Почтенная дама успокоилась. – И не подпустишь его к себе?
На это Габриель не ответила, а открыла дверь, чтобы вошли ее прислужницы.
Когда ночью она всхлипнула, закрывшись своими прекрасными руками, Генрих не спросил о причине; но что же обнаружила Габриель, несмотря на свою скорбную позу? Он не смотрел на нее и на ее притворное горе, а пристально вглядывался в резной потолок, где мерцал и колебался отсвет ночника. Габриель не понимала своего повелителя, но ей тяжело было исполнить обещание и уговаривать его. Зарыдав еще сильнее, она попросила, чтобы он, ради Бога, отрекся, он ведь обещал, и это единственный выход. Слышал ли он ее? На лице его было такое выражение, словно он вслушивается во что-то неведомое. Она внезапно перестала деланно рыдать, умолкла совсем, и тогда заговорило ее сердце. Его настоящий голос был тих и еле слышен.
– У нас будет сын.
Она позабыла, что в свое время испуганно взмахнула ресницами, словно была застигнута врасплох, когда он назвал ее матерью своего ребенка, и с тех пор он больше об этом не говорил. В это мгновение ночи она твердо верила, что отец действительно он, продолжала думать так и дальше и ни разу больше не усомнилась. Ибо в это мгновение она начала его любить из жалости и потому, что он был для нее непостижим. Он же чутко уловил нежный голос ее сердца, он приложил свою щеку к ее щеке, она обвила его шею рукой, и одна из ее слез – непритворная – упала ему в рот. Таково было в этот раз их слияние.
Она закрыла глаза, не противилась дреме, но все же чувствовала, что он лежит рядом, как и раньше, и хранит свою тайну. Она спросила уже в полусне:
– Мой милый повелитель, что вы видите там вверху?
Он пробормотал для самого себя, потому что ее дыхание стало уже совсем сонным:
– Не видеть, слышать хочу я и жду слова. Думать – не помогает, надо слушать, вслушаться. Когда во мне становится совсем тихо, вдруг начинает звучать скрипка, не знаю откуда. У нее глухой звук. Поистине подходящий аккомпанемент. Мне не хватает только самого слова. Я слишком ошеломлен.
Проснувшись, Габриель уже не увидела его: он опять был у прелатов, которые вводили его в свою веру, чтобы она стала для него окончательной. Отныне путь к выбору и сомнению для него отрезан. Потому-то они и продержали его сегодня, в субботу, в последний день, целых пять часов; он и сам не думал уходить, он даже боялся прекращения разговоров, которые в конце концов были только разговорами.
В другой комнате старой обители в Сен-Дени, где совершалось тягостное событие, сидели вместе возлюбленная короля и его сестра. Принцесса Екатерина явилась сюда, как и госпожа Сурди – и с теми же намерениями. Но одинаковые намерения у разных людей становятся разными. Ее милый брат должен отречься от своей религии, чтобы достигнуть славы. Она надеялась, что это ему простится, но вполне уверена в благополучном исходе не была; она не знала, считается ли у Бога королевство важнее души, и потому очень жалела своего милого брата; он глава нашего дома, который должен властвовать, а платить за это придется ему, – не попусти Господь, чтобы спасением души. «На худой конец, – думала Катрин, – я бы сама приняла другую веру, чтобы взойти на престол с моим бедным Суассоном. Тогда бы я лишилась вечного блаженства, зато уберегла бы милого брата. Теперь он будет великим королем, мой Суассон ничего бы не стоил, я знаю это лучше всех. Всерьез я никогда не хотела предать брата: скорей – его спасти».
На самом деле она не просто приехала, а, собственно, убежала, потому что вину за свою неудачу на выборах Суассон взваливал на нее. Он подозревал, что она действовала против него в пользу Генриха, а потому прощание их было крайне холодно, одна из обычных размолвок – до нового возврата. Слишком много накопилось у обоих других обид, чтобы жертвовать еще и своими личными отношениями. Они, как и раньше, сойдутся снова, но пока что Екатерина не могла избавиться от тревоги. Она сидела у возлюбленной брата, полная беспокойства как за него, так и за себя. Габриель испытывала почти то же; и не будь больше ничего, достаточно было предчувствия, которое без слов передавалось от одной к другой, чтобы связать их между собою. Но этому способствовало еще многое, и самое главное – Екатерина знала, что ожидается ребенок.
Если женщины и говорили друг с другом, то шепотом, а больше молчали, что отвечало важности минуты и суровому духу обители.
– Они уже четыре часа мучают его. А он подписал? – спросила сестра.
– На завтра все готово. Мне он не говорит ни да, ни нет. Он глядит куда-то вверх, будто затаился в себе, – отвечала возлюбленная. После долгого молчания она заговорила еще тише:
– Я так хотела бы, чтобы это миновало его. Именно теперь… – Последнее было сказано почти беззвучно. – Когда я жду… Когда он ждет сына от меня.
Сестра поняла по одному дыханию возлюбленной или угадала значение слов по легкому прикосновению ее руки к животу. Она обняла Габриель, она прошептала ей на ухо:
– Мы одна семья. Я вместе с тобой жду твоего ребенка.
Этим было сказано то, что таилось в мыслях у Габриели с тех пор, как к ней вошла сестра ее возлюбленного повелителя. Принята. Более не чужая. Чуждыми показались ей теперь расчеты тетки Сурди. Если ей суждено стать королевой, настоящей королевой, то это произойдет естественно, благодаря ее чреву, и еще потому, что сестра короля, бережно проведя по нему ладонью, стала отныне ее собственной сестрой.
Екатерина медленно вернулась на свое место. На этом прекрасном лице, отмечала она, видны усталость и страдания, но они не бесплодны. «Мое лицо увядает бесцельно и никогда больше не расцветет, даже в другом маленьком личике, ибо у меня ребенка не будет. Ну как же мне не позавидовать? Мой легкомысленный брат на сей раз постоянен и верен, тут ничего не поделаешь. Отлично, моя милая! Но ты думаешь стать королевой? Королевой тебе не бывать, вот увидишь, я его знаю. Он обнадеживает тебя до поры, до времени».
Между тем глаза принцессы блуждали по комнате; комната обставлена скудно. Единственная ценность: образ Божьей Матери, украшенный множеством самоцветных камней. Когда Екатерина собралась спросить, откуда он, Габриель покраснела и отвернулась; Екатерина не спросила. «Отлично, моя милая, тебе делали богатые подарки, чтобы и ты его мучила – слезами, что ли? Душераздирающими рыданиями по ночам в часы любви».
Едва подумав это, Екатерина закрыла глаза рукой и сказала:
– Простите меня. Вашей вины нет в том, что он намерен сделать. В этом повинны обстоятельства и люди. Из первых нет ни одного, которое его бы не вынуждало, из вторых ни одного, кто бы ему не изменял. И я тоже в свое время, и я тоже.
Она в первый раз повысила голос, потому что заговорила ее совесть. «Мой бедный брат!» Здесь дверь открылась – но не резким толчком, как обычно, когда входил ее брат. Тем не менее это был он.
Когда он поднял взгляд – входя, он смотрел себе под ноги – и увидел их обеих, самых любимых на свете, он сразу сделался говорливым и радостным. Он поцеловал их, сестру покружил, перед возлюбленной опустился на колени, погладил ее руку и засмеялся. Однако же они заметили, что ему не терпится уйти, да, в сущности, он и не был с ними. Он принялся передразнивать своих прелатов и епископов, их голоса и повадки. У Буржского свиное рыло, а за Бонского каждую минуту боишься, как бы у него не выросли крылья и он не вознесся на небеса. Женщины смотрели на него без улыбки. Вдруг он умолк, повернулся к окну, прислушался, постоял, выжидая, и вышел из комнаты.
– Он на себя не похож, – сказала Екатерина в сильнейшем испуге. А Габриель поникла головой от стыда, ведь печальным он стал с нею.
Генрих спустился в старый сад. Это был для него час отдыха. Он сравнил его с часами отдыха в Collegium Navarra, когда он маленьким школьником с двумя товарищами, которых уже нет в живых, играл в перерыве между занятиями. Внезапно он очутился на том месте, где перед ним явилась несчастная Эстер в сопровождении пастора Ла Фэя. Между той минутой и этой лежали невинность и вина, знание и неведение. Генрих остановился, уловив за кустами голоса: разговор шел вполголоса, как и все разговоры в этот тягостный и неспокойный день.
Один голос:
– Он уничтожит всех своих прежних друзей. Кто сказал «а», должен сказать «б».
Другой голос:
– Позднее – может быть. Если не позабудет до тех пор. Нам знакома его неблагодарность. Новым друзьям предстоит еще узнать его.
Третий.
– Слезлив, забывчив, легкомыслен, – но кто из нас его не любит?
Четвертый:
– Не того, каким он стал сейчас. А того, кто привел утлое судно к пристани.
Генрих хотел было показаться им, но первый начал снова:
– Надо о себе подумать. Будьте настороже!
– Напрасно, Тюренн, – сказал Генрих, выступая вперед. – Я ваш всецело и не собираюсь меняться. В этом вы убедитесь сами, когда придет время.
Он увидел среди них Агриппу д’Обинье, отвел его в сторону и сказал ему на ухо:
– Я гублю свою душу ради вас. – При этом широко раскрыл воспаленные веки, – нет, он не слезлив, не забывчив, не легкомыслен. Агриппа весь содрогнулся от жалости. «Как может кто-нибудь из нас не любить его?»
И, однако, Агриппа оказался единственным, чье сердце было ему предано; это обнаружилось теперь, хотя раньше, при более благоприятных обстоятельствах, запас дружбы равномерно распределялся вокруг него. Но теплота этого единственного человека все-таки задержала его подле утраченных товарищей, а затем он пошел бродить дальше, чтобы, по своей привычке, быть одному и вслушиваться. Очутившись по другую сторону кустарника, он обернулся к Филиппу Морнею, послу, который прибыл с важнейшими сообщениями, а король все не принимал его.
– Господин дю Плесси, вы вместе со мной привели утлое судно к пристани; имели ли вы возможность выбирать ее? Вот сейчас пришлось пристать к этой.
Он поспешно ушел в конец сада; здесь чирикали птицы, но, к сожалению, не они одни. Над невысокой оградой то показывались, то ныряли две головы, их обладатели поклонами и вытянутыми в трубочку губами старались убедить друг друга в самых нежных чувствах. Мадам де Сурди щебетала:
– Будьте нашим другом, господин де Рони. Ведь вы и так уже нам друг, ибо вы нуждаетесь в нас, как мы в вас.
– Так и ни на йоту иначе обстоит дело, глубокочтимая госпожа моя, – причем Рони нырнул, а госпожа Сурди вынырнула.
– Кто станет вспоминать об управлении артиллерией? – сказала она лукаво и убежденно. – Взамен одного улетевшего кулика вы подстрелите десять.
– Лишь бы вы не упорхнули, – подхватил барон и снова скрылся за оградой.
– Король разведется для того, чтобы жениться на мадам де Лианкур. Подарите его добрым советом, и сами будете щедро одарены. Плутишка, – захихикала дама и скрылась. Вместо нее вынырнул кавалер. Что бы он ни говорил, его гладкое лицо было неизменно исполнено достоинства.
– Я заранее составил с ним такой план, сударыня. Он и отрекается только для того, чтобы возвести на престол свою возлюбленную повелительницу. Как только дело будет слажено, все немедленно станут протестантами: король, королева и даже вы, сударыня.
Тут Сурди скрылась на продолжительное время, а когда выпрямилась, взгляд ее был суров. Она поняла, что над ней смеются.
– Вы об этом пожалеете, – прошипела она. Платье ее просвистело в воздухе, так круто она повернулась. Калитка захлопнулась. Рони с тем же невозмутимым лицом пошел по самой отдаленной аллее сада; на одной из скамеек сидел король. Он подождал, чтобы его умный и верный слуга подошел ближе, и шепотом задал ему вопрос:
– А каково ваше искреннее мнение теперь, в этот последний час?
– Сир, если бы католическая вера понималась и воспринималась в ее истинном смысле, она могла бы принести большую пользу.
– Это я давно от вас слышал! А нового ничего?
– Загробный мир. – Рони остановился. – За него я не ручаюсь. – Гладкое лицо обстоятельно приготовилось к смеху. Однако раньше, чем смех вырвался наружу, короля и след простыл. Но что показалось Рони непонятным: он пел. Под деревьями темнело, и, как дитя в темноте, он пел.
В трапезной старого аббатства между тем зажглись огни, свет лился из окон. Когда свет упал на короля, оборвалось не только его непонятное пение: вверху на антресолях прекратились степенные разговоры и законоведы, которых он созвал, отошли от открытых окон, чтобы встретить его.
Генрих быстро взбежал по ступенькам. Коридор перед освещенной дверью казался особенно темным. Генриха нельзя было видеть, пока он стоял там и оглядывал обширную залу; от такого малолюдного собрания она стала еще больше и пустыннее. «Эти все мои», – думал Генрих, да это было ясно и по виду судей и советников в поношенных одеждах, с глубокой синевой под глазами, горящими от лихорадки, лишений и не раз испытанной смертельной опасности. Служители юстиции, подобно многим до них и после них, они, несмотря ни на что, упорно сопротивлялись силе во имя права. Юстиция – это, конечно, не право. Обычно ее даже считают успешной мерой предосторожности против истинного права и его осуществления. «Среди них ни одного гугенота, – подумал Генрих, – и все же они боролись за королевство, как мои старики времен Кутра, Арка, Иври, и без их битв мои были бы тщетны. Они держали сторону угнетенных вместо того, чтобы держать сторону сильных, и стояли за бедняков против могущественных разбойников. Так это разумею и я, недаром я многим тысячам крестьян отвоевал их дворы, каждый поодиночке, что и составило мое королевство. Их королевство – право, и так они понимают отношение к людям».
Он вошел, не сняв шляпы; они тоже остались в своих истрепанных шляпах, он обратился к ним:
– Господа гуманисты. Мы скакали верхом и разили мечом, господа гуманисты. Но оттого, что мы были так воинственны, теперь мы находимся здесь, и ворота нашей столицы для нас открыты. Парижский парламент открыл мне их, потому что ужасная смерть вашего президента Бриссона была первым знамением и последним предостережением.
Король снял шляпу и склонил голову, то же самое сделали и его парламентарии. После того как в молчании была почтена память убитого, заговорил верховный судья Руана, Клод Грулар; хотя и католик, как все они, он решительно настаивал на том, что королю не следует отрекаться от своей веры, если это противоречит его совести. Генрих отвечал:
– Я всегда стремился единственно к спасению души и просил у Всевышнего Владыки помощи на этом пути. Через бесчеловечные ужасы, совершенные в Париже другими, но всей тяжестью ответственности лежавшие на мне, Всевышний Владыка открыл мне, что спасение моей души равнозначно утверждению права, ибо для меня право – самое совершенное проявление человечности.
Его слова были по душе законоведам, они громко возгласили:
– Да здравствует король!
Генрих хотел уничтожить расстояние между собой и ими, а потому подошел ближе и принялся по-дружески объяснять некоторым из них, как трудно ему было поладить с Всевышним Владыкой, чтобы Господь благословил его на переход в другую веру. Он не сказал – на смертельный прыжок, только подумал. Произошло это под стенами его столицы в то время, как там внутри царил ужас. Он тогда не на шутку поспорил с Богом. Ведь сказано: не убий, и этот закон так человечен, что поистине может быть только от Бога.
– Как и король, который дорожит людьми и их жизнью, – заключил вместо него кто-то другой. Сам он проявил скромность, уверяя, что для него очень плодотворны были беседы с прелатами и что милостью духа святого он начинает входить во вкус их поучений и доказательств. После чего он подвел своих парламентариев к накрытому столу и предложил им плоды не духовные, а иные: дыни и фиги в изобилии, а также мясо и вино. Им давно не доводилось есть такие лакомства, они утолили голод, а когда кто-то из них поднял голову, Генриха уже не было.
Он лег, не поужинав, и немедленно уснул. Когда он пробудился, было уже утро, и к его постели подошел пастор Ла Фэй. Генрих заставил его присесть, обвил рукой шею старика и снова спросил у него: правда ли, что свойства человека с течением времени приобретают другой смысл, как говорил ему Ла Фэй. Так оно и есть, отвечал пастор.
– И вера тоже? – спросил Генрих. – И она может стать ложной, хотя раньше была истинной?
– Сир! Вы будете прощены. Идите в собор с радостным сердцем, чтобы возрадовался наш Господь Бог.
Генрих сидел на постели, он оперся головой на грудь старца, который хотел его утешить. Прильнув к груди наставника юношеских лет, он заговорил:
– Чисто мирские причины заставляют меня отречься от своей веры и перейти в другую. Этих причин у меня три. Во-первых, я боюсь ножа. Во-вторых, я хочу жениться на моей возлюбленной повелительнице. В-третьих, я думаю о своей столице и о том, чтобы спокойно владеть ею. А теперь оправдывайте меня.
– Ваша мука была велика, а потому я оправдываю вас, – сказал пастор Ла Фэй и ушел.
Первый камердинер короля, господин д’Арманьяк, одел его во все белое – как причастника, подумал про себя Генрих. Как нового человека; трудно поверить, что это по счету пятый раз. Никакому богу это уже не может быть важно. Разве дьяволу, если он существует…
– Почему вы не захотели принять ванну до церемонии? – упрекнул его д’Арманьяк.
– После она мне будет нужнее, – отвечал Генрих. По его тону смышленый д’Арманьяк понял, что лучше удалиться.
Генрих остался один, он сам не знал, зачем ему это нужно. Почему нет здесь Габриели? По молчаливому соглашению она ночевала сегодня в одной комнате с Катрин. Все уже ушли, скоро поведут и его, с великой пышностью, при большом скоплении народа, чтобы все могли видеть, как он отречется. Не только отречется от того, чем он был, а примирится с большинством и станет ему подобным. «Что я такое? Вместилище праха, как и другие. Еще вчера я был своеволен и спорил из-за слов с прелатами. Бог этого не слушал, ему наскучили вопросы веры, его не трогает, какого люди придерживаются исповедания. Он зовет наше усердие ребяческим, нашу чистоту он отвергает, как гордыню. Мои протестанты его не знают, их он ни разу не повел по этому тернистому пути, а осмеливаются произносить слово „измена“, когда человек подчиняется жизни и слушается разума».
Однако он был занят не только размышлениями; на свою праздничную одежду из белого шелка, до самых пят густо затканную золотом, он набросил черный плащ, надел на голову черную шляпу и согнул черный плюмаж так, чтобы он развевался. Неожиданно он услышал звук скрипки, тот самый, который уже не раз долетал до него в эти тревожные дни, когда он прислушивался к чему-то, а искомое слово не являлось и ничего не было слышно, кроме отзвуков воображаемой музыки. Так как они сейчас нарастали, словно были уже не плодом воображения, а настоящей музыкой, Генрих понял, что привел в полный порядок как свои думы, так и белоснежно-золотой с черным наряд. Он исчерпал свое раздумье в страхе и сомнениях, протесте и примирении, как душа творит свой мир из расчета и мечты. «Ради вас я гублю свою душу! На это я сетовал, хотя вслед за тем стал хвастаться, что спасение моей души и восстановление права – одно и то же. Я пел в темноте, потому что кто-то напугал меня потусторонним миром. Знаю, однако, что мы рождены искать правду, а не обладать ею, ибо это дано только Владыке того мира. Мне же суждено властвовать в этом мире, и здесь мне страшнее всего нож. Неприятное признание, но я не постыдился его. Не знаю, что сильнее: любовь к Габриели? Или страх перед ножом? Но, кроме того, я вижу в бесчеловечности страшнейший из пороков, и ничего, даже женщину, не почитаю так, как разум».
Легко и согласно проносилось все это в его освобожденном мозгу, ибо он еще раньше все постиг и познал, – он уже сам не помнил, в какой муке и тоске. Ему казалось, что он чистым волшебством, подобным музыке, перенесен в сферу высшего счастья, весь в белом с золотом, милые мои; однако звуки скрипки становятся глубже и неяснее, хотя исполнение далеко не мастерское. Кто это может быть, как не Агриппа! Генрих выходит на балкон, за ближайшими кустами он различает руку, водящую смычком. Он смеется, кивает, и Агриппа показывается в своем обычном будничном колете, в церковь он не пойдет. Он не будет при том, как Генрих отречется от истинной веры; но он услаждает его вдохновенным звучанием инструмента, который зовется Viola d’amour.
Сначала у него чуть задрожал подбородок, потому что ведь известно: мы легкомысленны и слезливы. Однако он вовремя заметил, что его добрый Агриппа потешается над ним бесхитростно и любовно. Тогда и Генрих прищурил глаза, и так они попеременно забавляли друг друга, внизу старый друг, воздающий хвалу в насмешку и в утешение, здесь наверху – белый причастник, борода у него седая, а кожа обветренная. Наконец оба отбросили чинные манеры; Генрих стал изображать даму в пышном наряде, которую приветствуют серенадой, Агриппа же пиликал на скрипке и собрался вдобавок кукарекать, что было уже совсем неприлично. Зазвонили соборные колокола, сразу в полную мощь. Оба испугались, один исчез в кустах. Другой мигом очутился в комнате, оправил одежду, провел рукой по плюмажу, чтобы он развевался как следует, но тут дверь уже отворилась. За ним пришли.