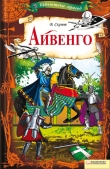Текст книги "Шотландские замки. От Эдинбурга до Инвернесса"
Автор книги: Генри Мортон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
Дарнли молча поцеловал дитя и удалился.
– Я надеюсь, – сказала Мария сэру Уильяму Стандену, – что когда-нибудь этот принц сумеет объединить оба королевства, Шотландию и Англию.
Мы знаем, что слова эти стали пророческими. Описанные события происходили в июне. А уже в октябре Мария отправилась в свою знаменитую поездку по Приграничью и в Эдинбург вернулась лишь 2 декабря. Почти два месяца ребенок находился на попечении графини Map – либо в родовом замке Стерлинг, либо в Аллоа-хаусе.
«Если ребенок королевы умер уже после ее отъезда, – рассуждает сэр Фрэнсис, – то графиня Map вполне могла бы тайно захоронить его в стенах Эдинбургского замка. Далее, если предположить, что примерно в это же время она сама произвела на свет мальчика, то ничто не мешало ей совершить подмену – принести к крестильной купели замка Стерлинг собственного сына и выдать его за королевского наследника. Ведь до семнадцатого декабря, то есть до церемонии крещения, никто, за исключением английского и французского послов, не видел младенца… Известно, что и впоследствии Джеймса часто видели в Аллоа, в доме Маров. Он еще долго оставался на попечении графа и графини Map, и многие историки отмечали любовь и заботу, с которой те относились к юному принцу.
Если принять данную любопытную версию за основу, то становится понятной глубокая привязанность, которую Джеймс на протяжении всей своей жизни питал ко второму графу Мару, своему старшему брату. И не этим ли объясняется та легкость, с которой король прощал Джону участие во всевозможных заговорах, включая громкий заговор Гаури?»
Эта теория имеет свои сильные и слабые стороны. В ее пользу, несомненно, говорят данные физиогномики. Мистер Фрэнсис приводит два портрета – короля Джеймса и графа Мара. Практически одинаковые лица! Сходство настолько бросается в глаза, что можно подумать, будто на обоих портретах изображен один и тот же человек. К недостаткам версии следует отнести недостоверность сведений о зловещей находке в стене Эдинбургского замка. Но и сторонники, и противники этой теории сходятся в одном: до конца своих дней Мария Стюарт считала Джеймса своим сыном. Она видела его только в детстве, но говорят, что мать и сын поддерживали связь и в дни ее печального заточения. По слухам, Мария как-то заявила: «Что же касается моего сына, то никто и никогда не сможет нас разлучить, ведь я давно уже живу не для себя. Все, что я делаю – исключительно ради него».
Те, кто поддерживает версию подмены, в доказательство ссылаются на очевидную холодность, которую девятнадцатилетний принц демонстрировал по отношению к плененной Марии Стюарт. Знал ли уже он тайну своего рождения, когда отсылал ей письмо, едва не разбившее материнское сердце? В этом послании он отказывался разделить с ней власть над Шотландией на том основании, что «ее содержат в заключении в столь отдаленном месте». Действительно ли Джеймс охладел к матери или же просто пошел на поводу у злых советчиков?
Полагаю, ключ к решению всех этих загадок скрыт где-то в стенах Эдинбургского замка. Где именно, никто не знает. Таинственный гробик был перепрятан по приказу полковника, на момент пожара командовавшего замковым гарнизоном. Остается надеяться, что рано или поздно останки будут обнаружены и подвергнуты посмертному изучению.
Тут же, на Замковой скале, стоит Национальный военный музей Шотландии – по моему твердому убеждению, величайший мемориал на всех Британских островах.
4
Я обнаружил, что мне не хватает слов, дабы описать Национальный военный музей Шотландии. Неудивительно, ведь это совершенно уникальный мемориал, ничего подобного я не видел нигде в мире. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в нем воплощена душа Шотландии.
Наверное, со времени последней войны прошло еще слишком мало времени, чтобы мы могли спокойно и беспристрастно говорить о ней. Война не успела еще превратиться в героический эпос, слишком сильны боль и горечь в сердцах людей. Чувства эти выкристаллизовались в ряд материальных памятников, ставших своеобразными якорями для нашей памяти. Я имею в виду знаменитый Кенотаф в Уайтхолле и могилы Неизвестного солдата в Вестминстере, Париже и Вашингтоне. Спору нет, достойные мемориалы, однако, боюсь, они важны лишь для нас, поколения военного времени. Навряд ли они отзовутся слезами искренней боли в сердцах наших потомков. Нет, конечно, молодежь будет относиться с надлежащим уважением к национальным святыням, но я не верю, что через тридцать лет кто-нибудь придет помолиться к Кенотафу.
Мне довелось присутствовать при строительстве грандиозного канадского мемориала на гряде Вими. Прекрасное сооружение – одновременно величественное и трогательное в своем смирении, но, опять же, сомневаюсь, чтобы оно вызвало должный отклик у грядущих поколений.
Шотландия единственная из всех стран – участниц войны сумела создать прочувствованный и эмоциональный памятник. Ей удалось в полной мере выразить свою скорбь – возложить эту горестную ношу к ногам Бога и при том не утратить чувства меры и национальной гордости.
Наверное, кому-то покажется странным, что именно соотечественникам Джона Нокса оказалось это под силу – постичь и триумфально воплотить в камне идею веры. Их подвиг по своему значению вполне сопоставим с бессмертными достижениями католического средневековья. В те далекие времена безвестные мастера трудились самозабвенно не ради личной славы, а исключительно во имя веры, жившей в их душах. Национальный военный музей Шотландии – это единственное жизнеспособное дитя, которое произвела в родовых муках минувшая война. Его отличает поистине космическая концепция и очень личное, человеческое исполнение. Я не знаю, как это получилось, но музей сочетает в себе холодное величие «Династий» [15]15
«Династии» – эпическая драма Т. Гарди, посвященная войне с Наполеоном; критики называли ее «европейской Илиадой». – Примеч. перев.
[Закрыть]Гарди и теплую атмосферу, присущую могиле Неизвестного солдата в нефе Вестминстерского аббатства.
Это единственный храм, который Шотландия построила со времен реформации. И если когда-нибудь в будущем сюда придет человек с философским складом ума, то война предстанет его глазам не как трагедия или героическая легенда, а как необыкновенное путешествие духа. Ежели наш гипотетический философ окажется англосаксом, то он наверняка подивится: как это удалось нашим современникам? Как люди – прошедшие через страшную войну, возможно, сами принимавшие в ней участие – смогли настолько возвыситься над трагедией смерти, чтоб вплотную приблизиться к идее великолепия жертвы. Полагаю, замысел Эдинбургского мавзолея родился где-нибудь среди величественных отрогов Грампианских гор.
Для англичанина выражение «славная смерть» всегда несет в себе оттенок горечи и слез. Мы подсознательно жалеем усопшего, думая: «Если б он не умер, ему сейчас было бы тридцать пять. Всего тридцать пять…» Мы вспоминаем дела, которые покойник планировал, но не успел совершить; соболезнуем его родным и близким. Мои соотечественники не верят в величие смерти, оно для них не более чем абстрактная идея.
Шотландцы чувствуют по-другому: здешний мемориал для них – не только реквием, но и хвалебный гимн. Это, однако, не мешает шотландским матерям приходить сюда, на Замковую скалу, чтобы побыть в обществе своего любимого мертвеца – одного-единственного из тех 100 тысяч шотландцев, которые сложили головы на войне.
Их жертва не была напрасной, они совершили подвиг во имя родной земли – ради того, чтобы Шотландия навечно оставалась Шотландией. Возможно, поэтому в Эдинбургском мемориале ощущается меньше сожаления и больше гордости, чем в любом другом памятнике мира.
Военный музей – самое высокое здание в городе. Он возведен на голой скале, возле самого обрыва. По форме он представляет собой обращенный на север храм с двумя трансептами – восточным и западным.
Миновав величественный вход, вы попадаете в сумрачное, окрашенное разноцветными потоками света помещение. Слева и справа располагаются трансепты, поделенные на небольшие отсеки. В каждом из них имеется окно с витражом, они-то и дают цветное освещение. Свет мягкий, неяркий, но его вполне достаточно, чтобы прочитать полковые хроники (каждому из полков отведен свой отсек) и списки погибших на страницах книг, лежащих на бронзовых пюпитрах. В этом здании поражает ощущение единой гармонии, царящей во всех уголках. Трудно поверить, что над его созданием трудились десятки, а может быть, и сотни человек. Храм кажется порождением единого гения, одинаково искусно работающего с камнем, бронзой, стеклом и красками. Я не помню, чтоб когда-либо на протяжении столетий был воссоздан такой исключительный художественный порядок, как в этом музее.
Хотя аркада, в которой представлены различные полки, разделена перегородками, она производит впечатление цельности. Рядом с каждой аркой вывешены разноцветные полковые знамена и вымпелы.
Витражи, посвященные сценам войны, представляют собой удивительное зрелище! Готические по стилю исполнения картины удивляют своим неожиданным содержанием. На них можно видеть людей и предметы, которые до того никогда не изображались на стекле. Вот перед нами Женское окно: на нем мы обнаруживаем дружинниц «Земледельческой армии», женщину-машиниста в мрачном цеху оружейного завода, медсестру в госпитале и труженицу Красного Креста, выносящую раненого с поля боя. На этих витражах не упущен ни один факт минувшей войны. Здесь изображены и зенитные установки, защищавшие город от немецких цепеллинов, и минные тральщики, и транспортные суда, и самолеты. Не забыта ни конница, ни пехота, ни артиллерия.
Что интересно, здесь начисто отсутствует оценочный подход. Художник не позволяет себе ни возмущения ужасами войны, ни восхищения ее героями. Его работы напоминают изображения святых на средневековых витражах – такие же холодные, беспристрастные и великолепные в своем совершенстве.
Не забыты и братья наши меньшие – ведь они тоже Божьи создания, которые внесли свою лепту в победу. Вот почтовые голуби, вот мышка – подруга работавших под землей минеров, и даже упрямому мулу – бичу всех артиллеристов – нашлось место на окнах музея.
Пройдя по Залу Славы, вы попадаете в место для молитвы. Это святая святых музея, недаром оно отделено от остального помещения бронзовыми воротцами. Здесь человек остается наедине со своими мыслями.
Под веерным сводом царит мягкий полумрак. С ребристого потолка, который наводит на мысли о торжественной музыке, спускается могучая фигура святого Михаила в полном военном облачении. Над его челом сияет крест, под ногами – поверженный злой дух. Вокруг святилища подлинное чудо в бронзе: кажется, в этой бесконечной процессии запечатлены все шотландцы, так или иначе принимавшие участие в войне. Скульптор далек от того, чтобы приукрашивать или, наоборот, принижать этих людей. Мы видим их такими, какими они были в жизни. Вот статуя хирурга – из-под рабочего халата торчат грубые солдатские башмаки; пехотинец тоже изображен в военном снаряжении; здесь же вы увидите летчика, кавалериста, пулеметчика, моряка, медсестру, военнослужащую из Женской вспомогательной службы.
Я перебирал в памяти все известные мне военные памятники и пришел к выводу, что ни один из них не может сравниться по своей правдивости и проникновенности с этим бронзовым парадом сынов и дочерей Шотландии.
Под окном, на котором изображен Дух Человеческий на кресте – с чистыми, не обезображенными гвоздями руками, – виднеется кусок обнаженной скальной породы. Кажется, будто он силой пробил себе дорогу сквозь гладкий гранит, которым облицовано святилище. Это сама эдинбургская скала – грубая, неровная… и прекрасная в своей непоколебимой мощи.
На скале располагается алтарь в окружении четырех коленопреклоненных ангелов, а на алтаре стоит стальной ларец, облицованный кедром. В этом ларце хранятся длинные списки – имена тысячи и тысячи шотландцев со всех уголков земли – тех, кто сложил голову на войне…
Здесь, в Национальном военном музее Шотландии, меня посетила неожиданная мысль. Не так давно мне довелось побывать в Ипре на открытии Менинских ворот. Погода, помнится, стояла чудесная. Со стороны бывших фронтовых окопов тянуло свежим ветерком. По окончании торжественной церемонии шотландские волынщики заиграли старинную элегию «Цветы леса».
Это был один из самых пронзительных моментов – у всех присутствовавших слезы навернулись на глаза, никто не смел оторвать взгляда от земли. Траурная песнь плыла вдоль дороги на Уг: она стелилась над землей, жалуясь, плача и рыдая. «Лесные цветы завяли, в холодной глине лежат…»
Звуки скорбной шотландской баллады пришли мне на память, пока я безмолвно стоял в святилище музея. И я подумал: возможно, они облетели всю землю, чтобы в конце концов вернуться на родину и воплотиться в каменном строении на вершине эдинбургской скалы. Воистину здешняя усыпальница – это похоронная песнь в камне, величайшая из всех шотландских элегий, в которой заключено все самое лучшее, что есть в стране: и сладость волынок, плачущих на холмах, и гордость Шотландии, и ее величие.
И еще мне подумалось, что эти два сооружения – лондонский Кенотаф и Национальный военный музей Шотландии замечательно демонстрируют различие между двумя нашими нациями. Мы саксы, а они кельты, и чувствуем мы по-разному. Известно, что горе замыкает сердца англичан и делает их молчаливыми. В то же время кельтская душа под действием скорби раскрывается и изливается в окружающий мир. Печаль вообще является главным лейтмотивом кельтской культуры. Все самые лучшие, самые сладостные песни кельтов печальны; их поэзия выросла из трагедии.
Именно по этой причине Шотландии принадлежит честь создания величайшего военного мемориала во всем мире.
«Цветы леса» обратились в камень…
5
Уверяю вас, что голос одного этого человека, Джона Нокса, способен в одночасье вдохнуть в нас больше жизни, нежели пять сотен труб, непрерывно звучащих в ушах.
Именно так выразился в 1561 году английский посланник в Шотландии Томас Рэндольф в письме к сэру Уильяму Сесилу (впоследствии лорду Беркли), премьер-министру при дворе королевы Елизаветы.
Поборник кальвинизма Джон Нокс и несчастная королева Мария Стюарт – вот два антипода и два самых знаменитых призрака Эдинбурга. Суровый, бесстрашный мастер Нокс, излагающий принципы шотландского протестантизма перед королевой-католичкой, – такая воображаемая картина надолго засядет в памяти любого гостя Эдинбурга, особенно если он нашел время для прогулки по Кэнонгейт. Эта улица вся пропитана воспоминаниями о Джоне Ноксе. Попробуйте ночью пройти мимо собора Святого Жиля, и перед вашим мысленным взором неминуемо встанет образ могущественного проповедника. Вы навсегда запомните это бледное лицо с резкими чертами, узкий лоб, длинный нос и полные губы; в черной бороде уже серебрится седина, а из-под черного берета смотрят пронзительные серо-голубые глаза. Хотя, возможно, вас больше привлечет другая сцена: Джон Нокс триумфально шествует по городу во главе огромной толпы. Сегодня его день: пятидесятипятилетний священник вторично женится – на семнадцатилетней Маргарет Стюарт (заметим, кстати, что брак этот, сколь бы сомнительно он ни выглядел, оказался вполне успешным). Итак, Джон Нокс едет на нарядном жеребце, и со стороны трудно предположить в нем лицо духовного звания. Скорее, он похож на мелкопоместного князька: «атласные ленты» на его шляпе унизаны золотыми кольцами и драгоценными каменьями.
В свое время этот человек являлся столпом религиозной жизни Эдинбурга. Тем более удивительно, что никто из горожан точно не знает, где похоронен Нокс. По дороге на Парламент-сквер можно увидеть скромную медную табличку с инициалами «Д. Н.» и датой «1572» – таким образом отмечено приблизительное место захоронения знаменитого проповедника. Мало кто обращает внимание на этот знак, гостей столицы больше привлекает большая конная статуя Карла II. Эдинбургские сорванцы (которые всегда крутятся возле денежных туристов) окрестили памятник «двуликим королем» – за особую пряжку на доспехах Карла, которая очертаниями смахивает на человеческое лицо.
Дабы искупить свое небрежение по отношению к могиле Нокса, эдинбуржцы окружили большим почетом некий старый дом на Кэнонгейт, к двери которого ведут истершиеся каменные ступеньки. Давняя традиция утверждает, что дом принадлежал Джону Ноксу. Однако современные исследователи установили, что это была съемная квартира, и наш герой провел здесь лишь последние два-три года своей жизни.
Как бы то ни было, дом производит сильное впечатление. Он представляет собой великолепный образец средневекового жилища: комнаты обшиты дубовыми панелями и буквально наводнены вещами, так или иначе связанными с именем Нокса. Будь моя воля, я бы поселился в этом доме, предпочтя его роскошному особняку Адамса на задворках Принсес-стрит.
Я обнаружил много любопытных экспонатов в доме-музее Джона Нокса. Однако наибольший интерес у меня вызвали предметы, не имеющие непосредственного отношения к знаменитому реформатору. Первая из диковинок носит название «тирлинговая булавка», и, думаю, немногие из современных англичан сумеют правильно объяснить назначение данного предмета. Наверное, самые любознательные из наших читателей не раз задумывались над тем, что за таинственный процесс обозначается этим словом. Все помнят строки из детского стишка «Крошка Вилли-Винки», который до сих пор читают английским детишкам на ночь:
Это же загадочное словечко встречается в редко исполняемой третьей строфе песни «Мой милый Чарли»:
Едва завидев свет в окне,
Поскребся в двери он;
Впустила милого дружка,
Забыв покой и сон.
Итак, мы видим, что Крошка-Вилли «тирлит» ногтем по оконному стеклу; Чарли вроде бы извлекает тот же звук при помощи булавки: вооружившись металлическим кольцом, он быстро водит им вверх-вниз по пресловутой «тирлинговой булавке». Спешу разъяснить, дорогой читатель: «тирлинговая булавка» – вовсе не булавка, а плоская железная пластина с зазубренным краем, наподобие тупой пилы. Если водить по ее зубцам твердым предметом, то получается звук, схожий с тем, какой извлекают мальчишки, на ходу проводя палкой по металлической ограде.
В наши дни это приспособление практически исчезло с дверей шотландских жилищ, но в былые времена его широко использовали вместо дверного звонка. Звук, который обеспечивал «тирлинг-пин», был куда деликатнее и музыкальнее, нежели громогласный звон викторианского колокольчика или малоприятный зуммер электрического звонка.
А вот еще одна идиома, значение которой для меня окончательно прояснилось в результате посещения дома Джона Нокса. Всем известно английское выражение «мертвый, как дверной гвоздь». Помнится, оно ввело в заблуждение Диккенса, который выстроил на сей счет целую теорию, увы, ошибочную. На первой же странице его «Рождественской песни» мы читаем:
Итак, старик Марли был мертв, как гвоздь в притолоке.
Учтите: я вовсе не утверждаю, будто на собственном опыте убедился, что гвоздь, вбитый в притолоку, как-то особенно мертв, более мертв, чем все остальные гвозди. Нет, я лично отдал бы предпочтение гвоздю, вбитому в крышку гроба, как наиболее мертвому предмету изо всех скобяных изделий. Но в этой поговорке сказалась мудрость наших предков, и если бы мой нечестивый язык посмел переиначить, вы были бы вправе сказать, что страна наша катится в пропасть. А посему да позволено мне будет повторить еще и еще раз: Марли был мертв, как гвоздь в притолоке [17]17
Перевод. Т. Озерской.
[Закрыть].
Диккенс никогда бы такого не написал, если б потрудился предварительно съездить в дом на Кэнонгейт и собственными глазами увидеть знаменитый шотландский «дверной гвоздь». Он представляет собой висящий на двери тяжелый, грубый кусок железа с головкой в виде маленького молоточка. Как раз на уровне молоточка к дубовой поверхности двери приделана небольшая металлическая шишечка. Если приподнять и снова уронить «дверной гвоздь», то его головка ударит по выступу, породив характерный звук – глухой скрежет от удара металла о металл. Могу засвидетельствовать, что звук этот действительно самый безжизненный из всех звуков в мертвой природе. И, наконец, последняя идиома, которую мне хотелось бы обсудить. Наверное, всем время от времени доводилось слышать, как о ком-то говорят: «Она безрассудно тратит силы». Или же: «Он вовсю прожигает жизнь». Так вот, в английском варианте фразы прожигают не жизнь, а свечу, причем с двух концов. Как такое возможно? Ответ я нашел на каминной доске в гостиной Нокса. В старину свечи делались в виде длинных гибких «змеек» и закреплялись на специальной металлической подставке. Такую свечу можно было изогнуть и подпалить с двух сторон. Понятно, что света она давала в два раза больше, но и сгорала вдвое быстрее. Подобная расточительность не могла не вызывать возмущение у бережливых шотландцев, что и отразилось в упомянутой идиоме.
Однако вернемся к Джону Ноксу. Мне припомнился продырявленный подсвечник, который я видел, кажется, в Пертском музее. Гид объяснил мне, что это – результат неудавшегося покушения на известного проповедника. Обстоятельства дела мне неизвестны (да и вряд ли когда-нибудь станут известны). Остается лишь гадать, где находился в тот момент Джон Нокс – стоял ли у выступающего окна дома, читая проповедь горожанам, или мирно сидел в своей гостиной, – когда выпущенная из мушкета пуля пролетела мимо и угодила в злополучный подсвечник.
Зато я точно знаю, что в этом доме состарившийся реформатор провел последние годы жизни. Джеймс Мелвилл вспоминал, что ему неоднократно доводилось наблюдать, как старый и больной Нокс выходил из дома. Он тяжело опирался на посох, который держал в правой руке; с другой стороны его поддерживал под локоть секретарь Ричард Бэннатайн. Медленно брели они в сторону церкви. Нокс был настолько слаб, что не мог самостоятельно взойти на кафедру. Да и потом, после того, как ему помогут, он долго еще стоял в изнеможении, ожидая, пока боевой дух проповедника не победит телесную немощь старика. Однако, по свидетельству все того же Мелвилла, «к концу проповеди Нокс настолько воодушевлялся, что, казалось, был готов раззвенетьсвою кафедру на кусочки…»
Интересно, много ли англичан возьмутся перевести это самое мелвилловское «раззвенеть»? Французский переводчик Мелвилла (у которого, очевидно, не оказалось под рукой помощника-шотландца) перевел фразу следующим образом: «он разломал свою кафедру и спрыгнул в толпу слушателей». А на самом деле эти слова означают, что у Нокса был такой лихой вид, словно он готов разнести свою кафедру на кусочки.
Проповедник скончался в том же доме на Кэнонгейт. По свидетельству Баллантайна, немощный Нокс лежал тихо и лишь время от времени просил, чтобы ему смочили губы разведенным элем. Затем он впал в забытье, ставшее преддверием печального конца. Последняя искра сознания мелькнула, когда у Нокса спросили, слышит ли он молитвы, которые читались вокруг. Он приоткрыл глаза и ответил с тяжелым вздохом: «Дай Бог, чтобы вы и все остальные люди слышали их так же хорошо, как я…»
После этого ему задали еще один вопрос: теперь, когда час, о котором он так часто молил Бога, приблизился, может ли Нокс подать условный знак? Увы, проповедник уже не мог говорить. Он лишь сделал невнятный жест рукой и испустил дух.
6
Каждый, кто собирается писать об Эдинбурге, вынужден рано или поздно коснуться литературной темы. Правила хорошего тона требуют засвидетельствовать свое почтение местным столпам литературы. Я же решил не утомлять читателей повторением хорошо известных имен. Прогуливаясь по городу, я обнаружил, что книги продаются чуть ли не в половине всех эдинбургских магазинов, и насколько я могу судить, торговля в них процветает. Похоже, что шотландская столица может претендовать на звание самого интеллектуального города в мире. Париж по сравнению с ней выглядит едва ли не безграмотным.
Итак, оставив в стороне прославленных литературных мэтров, хочу напомнить Эдинбургу об одном поэте, который каким-то непостижимым образом не сумел снискать признания у здешней публики. Имя этого человека сэр Топаз Макгонагалл.
Я не очень хорошо засыпаю по вечерам. Стоит мне только улечься в постель, как меня тут же обступают дневные заботы. Я вспоминаю о том, что не успел сделать или же сделал не лучшим образом. Сожаления, огорчения, опасения – вся эти малоприятные гости собираются вокруг моего ложа, рассаживаются на моей подушке, подобно предвестникам грядущих несчастий, и начисто отбивают у меня желание спать. Зная за собой эту прискорбную привычку, я повсюду вожу с собой успокаивающие средства – Теккерея, «Циркуляцию крови» Харви и несколько книжек из категории, которая, бог знает почему, именуется «легким чтением перед сном». Что касается последних, то я абсолютно уверен: их писали и составляли люди, не ведающие проблем со сном, специально для того, чтобы не дать заснуть другим. Ни одна из этих книг мне не помогла. Стоит углубиться в какую-нибудь антологию, как я отмечаю досадные упущения, начинаю злиться на составителей и прикидывать, как бы я сам все составил. С Теккереем и Харви еще хуже: очень скоро я обнаруживаю, что читаю этих авторов с неподдельным интересом. А часы тем временем тикают, время безжалостно утекает…
Большие надежды я возлагал на «Алису в стране чудес». Мне говорили, что это идеальное «чтение на ночь»: книга сначала начисто стирает из вашей памяти окружающий мир, а затем исторгает счастливую, полусонную улыбку. Что ж, могу засвидетельствовать: «Алиса» действительно разрушает реальный мир, но она заставляет смеяться! А смех в той же мере губителен для сна, в какой улыбка для него полезна. Я убедился на собственном опыте, что скорейший способ заснуть – это соскользнуть в бессознательную улыбку. И лучшей колыбельной для меня являются книги сэра Топаза Макгонагалла, поэта, родившегося в Данди, но творившего в Эдинбурге.
Те немногие, кто сегодня еще помнит этого автора, характеризуют его как самого худшего в мире поэта. Я с ними решительно не согласен. На мой взгляд, Макгонагалл просто опередил свое время. В его стихах обнаруживается то великолепное пренебрежение к литературным нормам, которое позже помогло не одному литератору нажить огромное состояние. Он весьма свободно обращается с английским языком – с той веселой, гусарской фамильярностью, которая в девятнадцатом веке дозволялась лишь признанным мастерам.
Расцвет творческих сил Макгонагалла пришелся на период южноафриканской войны. Он относился к тому племени чудаков, которых время от времени порождают большие города. Лондон диккенсовской эпохи изобиловал подобными людьми. Для Макгонагалла не было запретных тем, он писал обо всем и обо всех. Государственные события, природные явления, кораблекрушения, рождение и смерть королей – все это воспламеняло его музу. Любимым местом своего времяпровождения он избрал здание Эдинбургского парламента. Именно здесь, среди преуспевающих столичных законников, Макгонагалл нашел рынок сбыта своих произведений.
Он печатал их на больших листах, наверху красовался королевский герб, набранный жирным шрифтом! Как-то раз группа подгулявших студентов устроила в честь Макгонагалла шуточный прием, на котором наградила его экзотическим титулом. Прозвище настолько прилипло к поэту, что вскоре он и сам стал подписывать им свои стихи – «Сэр Топаз Макгонагалл, рыцарь ордена Белого Слона».
В архивах правительственного департамента я обнаружил журнал с бесценными выдержками из творчества этого автора. С любезного разрешения работников департамента я позаимствовал их и провел не одну бессонную ночь за чтением стихов Макгонагалла. Чего только стоит его гимн Глазго:
Чудесный город Глазго, своими машинами славный,
Которые рабочих твоих увечат исправно,
А также реки углубленьем, какое, уж так пришлось,
В немалую сумму нам обошлось.
Чудесный город Глазго, тебя средь всех городов
Я назову величайшим, и спорить с любым готов.
И милость твоя обтекает меня, как вода.
Тебе говорю я: «Процветай всегда»!
Стихотворение очень длинное, но я выбрал две самые удачные строфы.
А вот еще один маленький шедевр под названием «Дом Балдована», в нем встречаются такие строки:
Дом Балдован, который
Столь славен – вот он, гляди!
Владеет им Джон Огилви,
Парламента член от Данди.
Порой Макгонагаллом овладевало сердитое настроение, и тогда он сурово клеймил язвы общества:
Напиток дьявольский, проклятие проклятий,
Как людям вырваться из твоих объятий?
Что сделал ты с людьми, позволь спросить.
Всем мукам мука – горькую запить.
О детях мать с тобою забывает,
И на жену муж руку поднимает,
И кров родной разрушит топором,
Кому милее виски или ром.
Из Макгонагалла получился бы отличный репортер. Он внимательно следил за событиями общественной жизни, ничто не ускользало от его внимания. Когда в 1884 году умер герцог Олбани, поэт посвятил этому событию поэму в восемнадцать строф. Завершается стихотворение сценой похорон герцога, главное действующее лицо – предающаяся скорби королева:
Ее величество в страданье и печали пребывала.
Как гроб в могилу опустили, она все ж облегченье испытала.
Вот спет псалом, прощанье завершилось,
И королева торопливо удалилась.
А вот еще одно порождение беспокойной музы поэта – произведение под названием «Неудавшееся покушение на королеву Викторию». Начинается оно такими строками:
Храни королеву Господь,
И правь она вовек.
Маклин на нее покушался,
Лишь гнев на себя навлек.
С нами она да пребудет
Среди цветов и скал,
И счастливо дни проводит
В замке Балморал.
Некоторые раритетные образчики творчества Макгонагалла (полагаю, букинисты назвали бы их «макгонагаллианой») посвящены славным деяниям прошлого – битвам при Тель-эль-Кебире, Маджубе и прочим; а также национальным бедствиям, таким как смерть «китайца» Гордона. Стихи эти поражают воображение, но мне больше по душе произведения Макгонагалла, где он воспевает красоту родной земли, или же описывает примечательные события своего времени, например Тейбриджскую железнодорожную катастрофу, или кита, который выбросился на берег возле Данди.
Судя по всему, поэт нередко становился объектом довольно жестоких шуток. Но, с другой стороны, он и сам любил подшутить на своими «поклонниками» – теми, кто якобы восхищался его творчеством. А поскольку Макгонагалл обладал непомерным тщеславием, то вскоре стал записным шутом всего официального и академического Эдинбурга. Сколько шуток порождала его неуклюжая тощая фигура в нелепом костюме! Кто-то из современников Макгонагалла вспоминал, как они вскладчину снимали помещение и приглашали «великого поэта» почитать стихи. Он с готовностью приходил и декламировал свои ужасные вирши, в то время как все сидели с каменными лицами и в душе потешались над его «шедеврами».