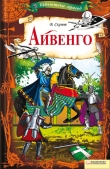Текст книги "Шотландские замки. От Эдинбурга до Инвернесса"
Автор книги: Генри Мортон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц)
Прежде Галашилс был мне известен как центр шерстяного производства, и я никак не ожидал, что в этом краю маленьких фабрик и водяных мельниц моим глазам предстанет зрелище, исключительное по своей красоте и силе воздействия. Уверен, лишь человек, искренне и глубоко одержимый историей шотландского Приграничья, мог создать подобное…
Представьте себе ночное небо, а на его фоне великолепную сторожевую башню из серого камня. Башня снабжена узкими окнами-бойницами и увенчана трехскатной крышей. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это – всего лишь современная реконструкция средневековой башни. Но реконструкция, выполненная настолько удачно, что казалось, будто одна из подлинных пограничных башен каким-то чудом воскресла из руин и переместилась сюда, на городскую площадь. На фасаде здания было вырезано некое подобие алтаря со скрытой подсветкой. Неяркого золотого света ламп как раз хватало на то, чтобы разглядеть медную табличку со списком имен галашильцев, погибших в последнюю войну. Перед алтарем застыла скульптурная фигура женщины с двумя лавровыми венками в руках. Причудливая игра света и теней превращала ее в ангела с призрачными крыльями за спиной.
Как ни хороша была башня и сколь эффектной ни казалась алтарная композиция, но все же больше всего запомнились мне не они. Подлинное потрясение я испытал при виде конного памятника, установленного на пьедестале перед башней – так, чтобы четко выделяться на фоне освещенной стены. Памятник изображал приграничного рыцаря-«разбойника», облаченного в боевой шлем и нагрудник. Наверное, неискушенный англичанин мог бы принять всадника за одного из «железнобоких» воинов Кромвеля, однако для шотландцев он однозначно символизирует древнего защитника Приграничья, одного из героев многочисленных преданий, вошедших в «Песни шотландской границы» Вальтера Скотта. На боку у него тяжелый меч, легкое копье вскинуто на правое плечо. Наверное, что-то встревожило рыцаря, так как он осадил коня, поставив чуть ли не на дыбы. Слегка пригнувшись, шотландец уверенно сидит в седле и зорко вглядывается вдаль – туда, где заметил опасность. Меня поразила естественность и правдоподобие позы: всадник выглядел, как живой. Да он и был живым! Так и казалось, что вот сейчас он сорвется с места и вихрем умчится за горизонт… Или же, круто развернувшись, скроется в зарослях вереска.
Этот великолепный памятник жители Галашилса посвятили всем «бравым парням», сложившим свои головы на полях сражений.
Если какие-то английские города планируют возвести у себя военные мемориалы, то я бы посоветовал им поучиться у Галашилса. Пусть члены распорядительного комитета приедут и посмотрят на здешний памятник – самый прекрасный и вдохновляющий из всех, что я когда-либо видел.
И хотя я еще плохо знаю Шотландию (мое знакомство с ней только началось), но почему-то мне кажется, что эта страна питает отвращение к второразрядным военным мемориалам – вроде железнодорожного обелиска сэра Эдвина Лютьенса в Норке или непонятного кенотафа в Манчестере. И, слава богу, пока мне не встречалось здесь памятников, которые с известной долей снисходительности можно описать как «девяносто девять процентов чувства, один процент мастерства».
Шотландцы обладают врожденным вкусом и чувством меры, так что даже самые скромные мемориалы становятся высокохудожественными произведениями. Если какая-нибудь деревня не может позволить себе грандиозный памятник, то она ограничится скромной мемориальной табличкой, но это будет заслуживающее внимание зрелище.
Если же говорить о Галашилсе, то здесь шотландцы превзошли сами себя. Если бы на Британских островах объявили конкурс на самый удачный военный мемориал, то я, не задумываясь, отдал бы пальму первенства Галашилсу. Его композиция – пограничная башня и памятник всаднику – просто великолепны! И мне видится несправедливым, что этот маленький городок отмечают лишь за его мельницы. Пора исправить досадное упущение и отвести Галашилсу достойное место на туристической карте страны – так, чтобы ни один автомобилист, пересекающий границу, не проехал мимо. И поверьте моему опыту, друзья, вы не пожалеете о потраченном времени, особенно, если будете осматривать памятник ночью, как это сделал я. Именно в такое время он выглядит наиболее эффектно!
Я все думаю, как хорошо, что местные мастера не пошли по легкому пути, проторенному традициями южноафриканских войн. Ведь легко могло случиться, что на пьедестале стояла бы фигура в железном шлеме и с винтовкой в руках. Но нет, они создали абсолютно свой памятник, достойный той призрачной вереницы шотландцев, которые встали на защиту родного дома и сгинули на широких просторах Приграничья.
За поздней трапезой я познакомился с интересным человеком. В прошлом этот немолодой эдинбуржец служил в армии, сейчас же подвизался в роли коммивояжера. Ему тоже довелось побывать в Галашилсе, и он восторженно отзывался о тамошнем мемориале. После этого разговор естественным образом перешел на воспоминания военных лет.
– Шотландцы очень держатся друг за друга, – заявил мой собеседник. – Такой уж мы народ, привыкли жить кланами… Задень одного шотландца и будешь иметь дело со всеми. Вот, помнится…
И он поведал мне одну из своих фронтовых историй. Его речь – простая и образная, местами грубая, пересыпанная армейским сленгом – оказалась прекрасным инструментом для воссоздания картины сражения на гряде Вими [10]10
Вими – горная гряда на северо-западе Франции, где в апреле 1917 г. канадский корпус за 6 часов кровопролитного боя одолел превосходящие силы германской армии. – Примеч. перев.
[Закрыть]сырой весной 1916 года. Будто воочию увидел я грязные окопы и заграждения из колючей проволоки; услышал разговоры саперов, ставивших мины перед вражескими укреплениями; почувствовал зловоние отбросов, которые немцы выбрасывали из своих окопов, норовя закинуть к канадцам.
– А я, понимаете ли, состоял в разведслужбе при канадцах, – рассказывал он. – Ну, типа бесплатного приложения, которое никому на фиг не нужно! Они, гады, даже на довольствие меня не поставили. Ох, и набедовался я тогда! Поверите ли: чтоб не сдохнуть с голоду, вынужден был воровать еду в окопах. Да уж, страшно вспомнить… Короче, три месяца я терпел, а потом плюнул на все и решил идти в Обиньи. У них там, понимаете ли, штаб-квартира располагалась… у канадцев этих. Ну а я-то был старый кавалерист и тертый калач. Знал: где склады, там всегда в интендантах шотландец ходит. Глядишь, и поможет земляку. Видок у меня был еще тот – на ногах резиновые сапоги, и оба левые. Я их увидел в грязи на бруствере, ну и прихватил, конечно. Один, помнится, еле-еле выдрал из глины… ну да ладно, не о том речь.
Идти я уже не мог – ноги стерты до мяса, да и отощал я вконец на такой кормежке. Приходилось ползком ползти. Ползу я, значит, а сам по сторонам поглядываю: как бы мне кавалерийскую часть не пропустить. Там, глядишь, по старой памяти перекусить дадут и попонку какую-нибудь завалящую… Я-то под дождем вымок – зуб на зуб не попадает. Одежда в грязи, так к телу и липнет. Да еще вши донимают, будь они неладны! Короче, выполз я к бивуаку. Вокруг ночь, а впереди палатка стоит освещенная. Я глянул внутрь, а там огромный такой детина-канадец варит себе на спиртовке какао. Мать моя женщина! Что за запах! Верите ли, приятель, мне этот запах до конца жизни сниться будет. Я уж настолько ослабел, что и на ногах не держался. Просовываю, значит, голову в палатку и начинаю канючить: не найдется ли одеяла какого старого или попонки там ненужной? А канадец этот здоровенный смотрит на меня так и спрашивает:
– Откуда будешь, парень?
– Из Эдинбурга! – говорю. – А ты-тосам откуда?
– А я из Галашилса, – отвечает. А затем протягивает мне свою банку с какао и говорит: – Давай, Джок [11]11
Джок – прозвище шотландцев, как Пэдди – прозвище ирландцев. – Примеч. ред.
[Закрыть], входи, попей горяченького.
Я ушам своим не поверил! Ввалился в палатку, отогрелся чуток, разговорились. Оказывается, в Галашилсе он не был с тех пор, как эмигрировал. Чуть не прослезился… и все повторял, что это совсем рядом с Эдинбургом. И что думаете? Этот парень мало того, что меня накормил, так еще и раздобыл для меня четыре попоны. Я потом все думал: интересно, а что бы он сделал, если б я сказал, что тоже из Галашилса? Небось, спер бы и лошадь, и орудийную повозку… Вот я и говорю: шотландец за шотландца завсегда постоит.
Я видел, что сидевший за соседним столиком мужчина прислушивался к нашей беседе, но до поры до времени старался не выказывать интерес. Однако здесь он не выдержал и подошел к нам.
– Вы, ребята, извините, что вмешиваюсь, – начал он с улыбкой, – но у меня тоже есть на этот счет хорошая история. Я однажды вляпался в переделку с австралийцами. Мы тогда служили во Франции и были вроде как на отдыхе. Ну, и вы сами знаете, как это бывает… Пили, не просыхая, во всяком случае трезвенниками нас никто не назвал бы. Ну вот, и как-то в одной забегаловке я повстречался с чертовой кучей этих придурков. Один из них прошелся по моему поводу: сказал что-то такое, чего ни один уважающий себя мужчина не потерпит. Я-то, конечно, сразу возбух – даром что боец из меня никакой, да и ростом, как видите, не вышел. В общем, я подскочил и врезал ему от души, чуть челюсть не своротил. А потом огляделся – батюшки-светы! Вокруг меня не меньше десятка проклятых осси, и все они поднимаются со своих мест и направляются в нашу сторону. Ну, все, подумал я, теперь мне крышка! И что вы думаете, пятеро из них обступают меня плотным кольцом и кричат: «Давай, Джок, не дрейфь! Мы тебя в обиду не дадим!» И ну махаться с остальными парнями! Да, доложу я вам… это была славная драка, другой такой и не припомню. Потом уж мне в голову пришло: я, должно быть, когда врезал тому придурку, крикнул что-то такое, что выдало мою национальность. И все австралийцы, которые из шотландцев, тут же пришли мне на помощь!
– Это к тому, насколько мы дружный народ! – завершил он свой рассказ. – Стоит только подать голос, и откуда ни возьмись появится наш брат-шотландец…
Позднее я не раз вспоминал памятник на галашилской площади. Отправляйтесь туда и посмотрите на него. Всадник стоит, как символ идеального стража и защитника всех приграничный жителей. Он воплощает в себе лучшие черты шотландского характера – беззаветную преданность родному дому, сумасшедшую гордость и отвагу – все то, что, покидая родину, многие сотни парней из Приграничья прихватили с собой и принесли в далекую Долину смерти.
Глава вторая
Эдинбург
Я исследую Эдинбург, узнаю кое-что новое о доме Джона Нокса, посещаю Холируд, размышляю над судьбой «поэта» и в безмолвном восхищении стою перед святилищем самого лучшего в мире Военного музея.
1
К вечеру поднялся сильный ветер, разыгралась настоящая буря. Укладываясь спать в номере эдинбургской гостиницы, я прислушивался к завыванию ветра в трубе – если мне где и приходилось слышать подобные звуки, то лишь на море во время шторма. Однако за ночь непогода улеглась, и когда я проснулся, стояло тихое осеннее утро.
Я вышел на Принсес-стрит и подумал, что недаром эта улица считается красивейшей в королевстве. У нее любопытная планировка: магазины расположены лишь с одной стороны улицы, а другая круто обрывается в глубокую ложбину, густо заросшую садами. Над их зелеными кронами возвышается Замковая скала с черепичными крышами Старого города. Этим утром ложбину заполнял плотный туман, своей серой непроницаемостью напоминавший тучи, которые порой нагоняет с Атлантики в районе мыса Лэндс-Энд. Туман курился на дне впадины, поднимался на Принсес-стрит и почти вплотную подступал к витринам магазинов. Выглядело это странно и тревожно. Несведущий человек вполне мог бы подумать, будто ночью случился страшный оползень и вся южная сторона улицы обрушилась в серую бездну.
Я постоянно бросал взгляды в ту сторону: туманная пелена не рассеивалась, стояла плотно и недвижимо. Но вскоре она чуть-чуть посветлела, в ней наметился, нет, не разрыв, а лишь намек на разрыв – как обещание того, что в назначенный час выглянет солнце и разгонит эту непроницаемую серость. И впрямь, прошло немного времени, и на моих глазах начало разворачиваться одно из самых удивительных атмосферных явлений, какое мне доводилось наблюдать на Британских островах. В плотном тумане начали прорисовываться – сначала смутно, а затем все явственнее – какие-то правильные формы. Казалось, будто в этом сумрачном скоплении теней притаился огромный фантастический зверь. Постепенно туман стал истончаться, и глаз начал различать в нем контуры призрачной армады, стоящей на якоре в сером облачном море.
Однако вскоре выяснилось, что зрение снова обмануло. То, что казалось очертаниями остроконечных мачт и такелажа, на поверку обернулось совершенно феерическим зрелищем. Вначале разум отказывался в него верить, принимая за причудливый мираж – из тех, что мнятся путешественникам в пустыне. Но мало-помалу на безнадежно-сером фоне все четче проступали очертания средневекового города. Он проявлялся постепенно, как изображение на негативе – башня за башней, шпиль за шпилем, бельведер за бельведером. И вот уже на краю обрыва вырос призрачный город – Камелот или Тинтагель? Он стоит, ощетинившись сторожевыми башнями, сердито щурясь узкими черными бойницами. Настоящий средневековый город! Откуда, из каких таинственных глубин он материализовался? Он похож на заколдованного рыцаря, который при звуках боевого рога пробудился от векового сна и восстал, сжимая меч в руке.
Именно таким предстал передо мной Старый Эдинбург ранним осенним утром. Древний город, который притаился на склоне холма и через серую пелену тумана свысока взирает на лежащий у его ног Новый Эдинбург.
Я разглядывал его со странным чувством нереальности происходящего. Отсюда, снизу Старый город казался призрачным фантомом. Меня окружал Новый Эдинбург – вполне современный город с регулярной планировкой, с улицами, пересекавшимися под прямыми углами. Местами он казался даже чересчур современным, мне больше нравились другие уголки Эдинбурга – солидные, неторопливые, напоминавшие пожилого джентльмена в старомодном парике и с тростью из черного дерева.
Вокруг царила обычная утренняя суматоха: с грохотом пробегали по рельсам трамваи; владельцы готовились к открытию магазинов – отпирали двери, выпускали на прогулку котов, вытряхивали коврики и подметали ступеньки; то там, то здесь раздавались резкие звуки автомобильных клаксонов. Город жил привычной жизнью, а где-то высоко на холме стоял другой Эдинбург – далекий и неосязаемый, он казался плоской картинкой, вырезанной из картона и пришпиленной к небу.
С этой точки зрения Эдинбург – совершенно уникальное место. Не знаю, существует ли где-нибудь в мире его аналог – город, который бы жил бок о бок со своим прошлым. Ведь современному Эдинбургу довольно только поднять глаза, чтобы воочию увидеть, каким он был столетия назад. Так и стоит на холме город-прошлое, город-воспоминание – не затронутый временем, неприступный и по-прежнему вооруженный до зубов! Возможно, вторым таким городом мог бы стать Солсбери, если б в свое время не было разрушено городище на холме Олд Сарум. Вот, пожалуй, и все. Другие примеры мне неизвестны.
Я с первого же взгляда влюбился в Старый Эдинбург. Меня очаровал этот древний скалистый призрак – умудренный жизнью и немного усталый; самоуверенный и одновременно простой и раскованный. Он погружен в воспоминания о важных событиях и настолько чужд всему мелкому и суетному, что когда его жителей охватила жажда наживы, Старый Эдинбург их отверг. Чтобы зарабатывать деньги, людям пришлось спуститься в долину и построить для себя новый город.
В то серое, туманное утро я долго любовался призрачным городом. Затем солнечные лучи набрали силу, разорвали облачную пелену, и все сразу же изменилось. Старый Эдинбург засиял на вершине холма – беспощадный в своем великолепии, как восседающий на троне король.
Я мог сколько угодно восхищаться Новым Эдинбургом, но сердце мое было навечно отдано Старому городу.
В некоторых городах от приводы заложено нечто королевское. Такими мне видятся Йорк и Винчестер. И хотя сегодня они утратили свой столичный статус, но в самой атмосфере этих городов сохраняется воспоминание о былом величии. Чувствуется, что некогда здесь обретался королевский двор и древние короли проезжали под этими воротами. Тут каждый камень является свидетелем исторических событий. В Дублине не ощущается подобной венценосности, зато захудалый и обнищавший Голуэй обладает ею в полной мере.
Если говорить об Эдинбурге, то это стопроцентная столица – надменная, обремененная комплексом собственного превосходства. Все провинции и во все времена на словах громко порицали такое самомнение, но втайне им восхищались. Эдинбургский снобизм сродни снобизму старой аристократки, которая многое перепробовала на своем веку и точно уяснила, что ей требуется, а что категорически не нужно. Так, местная знать (среди них действительно много снобов, но покажите мне город, где бы их не было!) кичится своей неподкупностью. В Эдинбурге – как ни в одном другом кельтском городе (может, за исключением Дублина) – трудно пробиться наверх благодаря деньгам.
Боюсь, я допустил непростительную ошибку, говоря об Эдинбурге в женском роде. Определенно по отношению к этому городу следует употреблять местоимение «он», а не «она». Эдинбург, как и Лондон, исключительно мужественный город. Мне известны три женоподобные столицы – Париж, Вена и Дублин. Если первые два города по-женски соблазнительны, то Дублин отличают чисто женский шарм и, увы, вздорность характера. Иное дело Эдинбург, Лондон, Берлин и Рим. При взгляде на эти города вспоминается стадо бычков-производителей; они – несомненно мужские города. Я слышал, что в Нью-Йорке много женственного, но подтвердить не могу – своими глазами не видел.
Попадая в Эдинбург, невольно начинаешь оглядываться в поисках трона. Так и кажется, будто в этом городе непременно наткнешься на наместника короля. Я невольно сравнивал Холируд с пустующим Букингемским дворцом – когда королевский штандарт спущен, а гвардейцы несут почетный караул перед Сент-Джеймским дворцом, – и должен сказать, что закрытые ставнями окна Холируда произвели на меня большее впечатление, нежели опущенные жалюзи Букингема. Совершенно не важно, сколько лет (или веков) здешнее здание не используется по назначению – оно все равно сохраняет свой потрясающе царственный вид. Достаточно заглянуть в Тронный зал Холируда, чтобы понять: здесь должен сидеть король Шотландии.
Полагаю, каждый гость Эдинбурга рано или поздно решает подняться на вершину Кресла Артура. Некоторые приходят сюда добровольно, других чуть ли не насильно притаскивают энтузиасты из числа местных жителей. И они абсолютно правы: есть особое наслаждение в том, чтобы, подобно Асмодею, взирать на город, раскинувшийся у твоих ног.
Я тоже не избежал сей участи: как-то на исходе дня вскарабкался на холм и подставил разгоряченное лицо свежему ветерку. Солнце уже начало клониться к закату. Справа от меня ослепительно сверкал Ферт-оф-Форт, за ним виднелось графство Файф; под ногами – под голубоватой шапкой дыма – распростерся Эдинбург. Отсюда, с высоты, я легко различал вдали Замковую скалу, с которой начинался Эдинбург. Думаю, не ошибусь, если скажу: эта скала сыграла для Эдинбурга ту же роль, что и Темза для Лондона.
– А почему город называют «Старым дымокуром»? [12]12
Это прозвище вошло в русский язык благодаря переводам романов В. Скотта. На самом деле точнее переводить его как «Старый вонючка»: столь неблагозвучным прозвищем город обязан болоту на месте нынешних садов Принсес-стрит – вплоть до начала XIX века туда стекали нечистоты с Замковой скалы. – Примеч. ред.
[Закрыть]– поинтересовался я у стоявшего неподалеку мужчины.
– На этот счет существует история, – охотно отозвался он. – Жил некогда на Файфе лэрд по имени Дарем Ларго, и имел он привычку выверять время вечерней молитвы по дыму над Эдинбургом. Город-то хорошо был виден от его крыльца, вот он и привык. Едва эдинбуржцы начинали готовить себе ужин, весь город заволакивало дымом. И лэрд кричал домочадцам: «Эй вы, бросайте все дела, возвращайтесь в дом! Пора читать молитву и отходить ко сну. Я вижу, что «Старый дымокур» напялил свой ночной колпак».
Я бросил взгляд на горизонт. Хотя время вечерней молитвы еще не наступило, но над крышами Эдинбурга курился легкий дымок. Облако сизого тумана потихоньку заволакивало город, и лишь Замковая скала гордо сверкала на солнце, как драгоценный камень. Приглядевшись, я различил Королевскую милю, спускавшуюся от замка к Холируду, а также разбегавшиеся во все стороны кривые улочки средневекового города. Чуть дальше на север зияла пустота – там проложили железнодорожные пути. А за ними начинался Новый Эдинбург, построенный по американскому образцу: геометрическая сетка прямых улиц, среди которых выделялась Принсес-стрит, проходившая по самому краю обрыва. Какое великолепное обрамление для города! К югу лежали холмы Пентленда и Морфута; на востоке раскинулся Ламмермур, за ним вздымались хребты Норт-Берик-Ло и Басс-Рока; на севере за голубым пятном Ферт-оф-Форта вырисовывалось графство Файф. По голубой глади залива скользили темные точки – это мелкие тихоходные пароходики отправились в свое ежедневное плавание к Лейту. Однако самое притягательное зрелище таилось на севере: голубые тени сгущались, приобретая тот особый розовато-лиловый цвет, который обычно имеет выращенный в теплице виноград. Там начинался Хайленд! Стоило мне произнести про себя это слово, как в голове словно что-то щелкнуло, и стрелка внутреннего компаса развернулась в сторону Бен-Ломонда – главного пика всего горного массива, короля-великана, который дремлет «над милыми, милыми берегами» [13]13
«Милые, милые берега Лох-Ломонда» – народная шотландская песня, послужила основой Э. Лэнгу для стихотворения «Милые берега Лох-Ломонда». – Примеч. перев.
[Закрыть]горного озера.
Когда ночная тьма опустится на город, отправьтесь на прогулку по узким улочкам Старого Эдинбурга. По древней Королевской миле спуститесь с Касл-Хилл на Лаунмаркет, пройдите мимо церкви Святого Жиля и далее по Кэнонгейт.
По дороге вам встретятся бледные тени – это бродят в ночи призраки Эдинбурга. Здесь, в старых мощеных двориках, в темных тупичках и переулках, под тусклыми лампами, освещающими каменные ступеньки, дремлет многовековая история средневекового города – седая, зловещая… Приглядевшись, вы увидите закутанные в плащи фигуры: незнакомцы молча стоят у входа в темное подозрительное здание. Благодаря горящему над дверью фонарю их силуэты четко вырисовываются на фоне стены. Скорее всего, это заговорщики, поджидающие своих сообщников… а может, и жертву, недаром же под плащами у них угадываются кинжалы в ножнах.
Если вы достаточно долго постоите на Кэнонгейт, перед вами прошествуют все главные персонажи драматической шотландской истории: вот злополучные принцы Стюарты с бледными лицами и грустными глазами; за ними следует прелестная, но несчастная королева, чья судьба до сих пор трогает сердца людей; а вот и Джон Нокс – как всегда, что-то доказывает, наставив на слушателей указующий перст. Этот характерный обличающий жест переняли у него многие поколения спорщиков-шотландцев – среди них и Босуэлл, и Дарнли, и многие другие, кто подвизался при том грубом дворе.
Королевская миля – целая миля исторических воспоминаний. Здесь до сих пор раздается в ночной тиши резкий, пронзительный звук волынок, сверкает сталь, в свете горящих факелов мечутся возбужденные толпы, и среди них – прекрасный молодой человек, приехавший сюда в поисках королевской короны…
Пройдитесь по узким переулкам, и где-нибудь вы обязательно встретите прихрамывающего мужчину с высоким чистым лбом. Вы, конечно же, узнали Вальтера Скотта! А если вам повезет, то вы увидите и Стивенсона в черном бархатном камзоле. На голове он тащит кресло и спешит в старую лечебницу, где лежит его друг Хенли.
По Старому Эдинбургу бродит множество призраков. Они роятся вокруг, теребят вашу память своими жадными, нетерпеливыми пальцами. Эти призраки обязательно попытаются затащить вас куда-нибудь в укромное местечко, соблазняя своими захватывающими историями, но вы не поддавайтесь. Пусть звук полночного колокола отрезвит вас. Попрощайтесь и уйдите от призрачной толпы. Все они – бледные рыцари и несчастная запутавшаяся королева, святые и грешники, труженики пера и кинжала – здесь у себя дома. Это их мир, и пусть они и дальше бродят в темноте по старым серым улочкам.
2
Перед главным входом в Холируд прохаживаются часовые в килтах и коротких белых гетрах. С какой целью они выставлены и что стерегут в этом старом дворце? Не иначе как призрак шотландской королевы. Ибо сегодня это, наверное, единственное достояние Холируда – если, конечно, не считать ценностью самую ужасную в мире картинную галерею.
Она по-своему уникальна: за всю свою жизнь я видел немного явлений столь откровенно дурных, как эта сомнительная коллекция из ста десяти портретов шотландских монархов. Предвосхищая мнение позднейших критиков, Вальтер Скотт заметил по ее поводу: «Если все эти люди когда-то и существовали, то жили еще до изобретения живописи маслом». Заглянув впервые в эту картинную галерею, я просто-напросто не поверил своим глазам. Второе посещение неизмеримо возвысило мое мнение о художественных наклонностях драгунов Хоули: эти молодчики, будучи обиженными за поражение, которое нанес им Красавец Принц Чарли при Фолкерке, решили отыграться на Холирудской галерее. И тут уж они не пожалели своих сабель… И вот сейчас, в свой третий визит, я, похоже, попал под странные, извращенные чары этой коллекции. Во всяком случае я обнаружил в себе куда большую терпимость и заинтересованность по отношению к этой необычной живописи. Наградой мне стала замечательная история, которую я услышал от служителя галереи.
Человек, накропавший (уж простите, но лучшего слова я не подберу) эти сто десять портретов, был голландцем, жившим в Эдинбурге и носившим имя Джеймс де Витт. То была эпоха правления Карла II, когда Холируд – раздавленный недавней трагедией и задвинутый Уайтхоллом на задний план – остро нуждался в модернизации.
Я до сих пор гадаю, как могло случиться, что ни Стивенсон, ни остальные эдинбургские писатели ни словом не обмолвились о создателе холирудской коллекции. Я бы порекомендовал современным исследователям все-таки изыскать время и поинтересоваться историей Джеймса де Витта. Ведь, полагаю, он стал единственным художником в мире, кому удалось заполучить такой феерический контракт, какой был подписан 26 февраля 1684 года между де Виттом и королевским казначеем Хью Уоллесом. Джеймсу де Витту назначался ежегодный оклад в 120 фунтов стерлингов (часть этих денег предназначалась на приобретение холстов и красок). Взамен художник обязался в течение двух лет с заключения контракта написать и доставить во дворец сто десять портретов всех королей – как реальных, так и мифических, – которые когда-либо правили в Шотландии. Именно так – от легендарного Фергуса I и до нынешнего короля Карла II! Их королевские величества надлежало изобразить «в величественных позах на крупномасштабных полотнах» и снабдить соответствующими подписями: «имена наиболее знаменитых монархов крупными буквами, остальных – буквами поменьше».
На мой взгляд, эта часть договора тянет на хорошую абердинскую шутку!
Так или иначе, контракт был подписан, и де Витт включился в сумасшедшую гонку. На протяжении двух лет он лихорадочно малевал шотландских королей – по одному портрету в неделю. По совокупной цене выходило чуть больше сорока шиллингов за одну королевскую голову. Мне удалось выяснить, что примерно в то же время некий де Витт расписал несколько каминов в Холирудском дворце и раскрасил под мрамор дымовую трубу. Подозреваю, это был наш многострадальный мастер – не так уж много де Виттов водилось в Холируде. Но когда он успевал этим заниматься? Очевидно, в свободное время.
Могу представить, какой перманентный аврал царил в его мастерской! Увы, история не сохранила никаких сведений о Джеймсе де Витте, а жаль. Так интересно узнать, что он был за человек? Имелись ли у него друзья и помощники? Кто вдохновлял и поддерживал его в этом подвижническом труде? Дни слагались в недели, недели в месяцы. Парадные залы Уайтхолла оглашались звуками волынок и виол, второй Карл из династии Стюартов радовался своему восстановлению на троне, рыжеволосая миледи Гвин прокладывала себе путь из Ковент-Гардена во дворец, а незаменимый Сэмюел Пипс вносил в дневник свои наблюдения. Но все это происходило где-то далеко, а Джеймс де Витт похоронил себя в студии на Кэнонгейт и все работал и работал… Нелегкая задача – изобразить сто десять королей «в величественных позах на крупномасштабных полотнах». Подозреваю, уже к середине своего титанического труда несчастный художник превратился в законченного большевика.
Но как бы то ни было, он создал уникальную коллекцию – я не видел нигде ничего подобного. И в связи с этим у меня возникает множество вопросов. Что вкладывал де Витт в свой труд? Не лукавил ли, когда штамповал одну за другой свои картины? Хочу напомнить, что в данном каталоге шотландских династий большая часть ранних портретов (равно как и начертанные на них имена) не несет в себе никакой историчности – все это чистейшей воды фикция. Возможно ли, чтобы художник-голландец иронизировал над иностранными монархами? Или же он трудился со всей серьезностью, как и полагается трудиться маленькому человеку над грандиозной задачей?
Или вот еще вопрос: была ли рядом с художником верная подруга жизни, которая бы поддерживала его в дневных трудах и дарила утешение по ночам?
Мне легко представить, как они беседуют поздним вечером.
– Джеймс, дорогой, тебе пора спать… А, кстати, кого это ты изобразил?
Де Витт и сам не помнит, он вынужден сверяться с длинным списком.
– Ага, вот оно! Это Фергус Третий… хотя нет, постой… скорее, Теб Первый.
– Ясно… ну, отправляйся в постель. Сегодня уже поздно, но завтра, боюсь, тебе придется переделать этот портрет. Своему Тебу ты нарисовал лицо точь-в-точь как у Евгения Седьмого…
– О черт! А я и не заметил… Ну ладно, завтра исправлю – сделаю его косоглазым, чтоб ни на кого не был похож. Как ты думаешь, дорогая, молочник согласится завтра мне позировать для портрета Корбреда Первого?
– Опять молочник? Но ты же уже писал с него Карактака!
И на протяжении целых двух лет Эдинбург еженедельно наслаждался одним и тем же зрелищем: по Кэнонгейт в направлении Холирудского дворца шагает человек в плаще и с бантом на груди. Под мышкой он несет очередной портрет. Бедняга де Витт! При мысли о нем у меня сердце кровью обливается. Так и вижу, как он сдает галерее свою халтуру.
– Вот, примите… Старина Корвалл Третий, будь он проклят!
– Отлично, парень! Бросай его в ту кучу. Это который по счету?
– Шестьдесят восьмой.
– Укладываешься в график?
– Даже опережаю на два корпуса – Уильяма Льва и Макбета…
– Ну, молодец! Тогда на следующей неделе сможешь, наверное, расписать камин… Так сказать, чтобы не терять форму.
Чутье подсказывает мне, что мы узнаем много интересного, если покопаемся в биографии бедного де Витта. Ведь в том далеком семнадцатом веке он был великим новатором – своеобразным Генри Фордом от живописи.