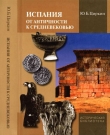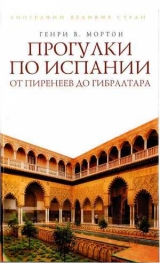
Текст книги "Прогулки по Испании: От Пиренеев до Гибралтара"
Автор книги: Генри Мортон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
Она была немкой, дочерью купца, и звали ее Барбара Бломберг. Карл V встретил ее, когда был в немецком Ратисбоне. Император не слишком гордился этой связью и забрал ребенка, отослал в Испанию, где мальчика тайно воспитывал его любимый камердинер Кихада. Юный Жером, как его тогда называли, воспитывался как деревенский паренек; он разорял птичьи гнезда и обворовывал сады с другими мальчишками, и никто, кроме Кихады, не знал о его происхождении до самой смерти императора. В пользу Филиппа II говорит тот факт, что, едва узнав о существовании кровного брата – между ними было восемнадцать лет разницы, – он тут же назначил встречу и с удовольствием увидел красивого паренька, белокурого, как и он сам, с прекрасным стройным телом, в противоположность его собственному невезучему наследнику дону Карлосу. Филипп рассказал мальчику, кто он такой, взял его ко двору и дал ему содержание, соответствующее рангу. Отныне Жером стал доном Хуаном Австрийским.
Дон Хуан вырос одним из красивейших мужчин Европы – и самым обожаемым; он был веселым и беспечным, большим дамским угодником и храбрым удачливым солдатом. Примесь простолюдинской крови пригасила габсбургскую меланхолию, которая тем не менее все же таилась под улыбкой. «Некоторые из его писем к единокровной сестре, Маргарите Пармской, касающиеся амуров, кажется, просят аккомпанемента: “La Donna е Mobile”», – замечает доктор Мараньон. Великий момент в жизни дона Хуана наступил, когда он в возрасте двадцати шести лет повел объединенный флот, собранный папой, Испанией и Венецией, против турок. Когда галеры проходили мимо причала в Мессине, каждый корабль благословлял папский нунций в полном облачении. Во флоте было двести военных галер и шесть венецианских галеасов, дредноутов того времени. Папа римский прислал кусочки Истинного Креста, и на каждом корабле была священная реликвия. Флагман дона Хуана «Реаль» нес голубое знамя Пресвятой Девы Гуадалупской, а штандарт Католической лиги, который благословил сам папа, готовился расправиться с началом сражения.
Неделями флот курсировал среди греческих островов, пока наконец в воскресенье 7 октября 1571 года на горизонте не показался турецкий флот – в заливе Патраикос близ Лепанто. Турки собрали огромные силы, и некоторые христианские командиры предпочли бы проявить осторожность, но не таков был дон Хуан. Он решил дать бой. Турок заметили перед полуднем, когда солнце светило им в глаза: их галеры медленно шли против легкого встречного ветра строем в форме огромного полумесяца или ятагана, тоненькие вымпелы трепетали, весла вздымались и опадали, солнце сверкало на меди и стали. Перейдя на легкую бригантину, дон Хуан прошел вдоль линий своего флота, чтобы подбодрить людей и поднять боевой дух. Предвосхищая другого моряка в отдаленном будущем (или Нельсон впоследствии вспомнил его слова?), он воскликнул: «Умрете ли вы или победите, исполняйте свой долг – и славное бессмертие вам гарантировано!»
Вернувшись на свой флагман в центре боевого порядка, растянувшегося на три мили – корабли стояли борт о борт, – дон Хуан наблюдал за приближением врага. Он выслал вперед большие галеасы, чтобы смять турецкий строй бортовым залпом, и их пушки ударили первыми. Когда турки подошли на расстояние окрика, с их кораблей прогремел леденящий кровь боевой клич, но христианский флот двигался в молчании, поскольку каждый офицер и матрос преклонил колена, когда знамя папы с изображением Распятия Христова взлетело на грот-мачте «Реаля». Монахи и члены орденов, шедшие на каждом корабле, отпустили грехи, и люди поднялись и стали ждать боя. Пока флоты сближались, некий солдат на генуэзской галере «Маркиза» вскочил с больничной койки и занял место на палубе. Его звали Мигель Сервантес, и хотя ему предстояло потерять левую руку еще до заката, правую он вынесет из сражения целой и невредимой – ею он потом напишет «Дон Кихота». Те, кто случайно взглянул на флагман, мерно двигавшийся вперед – папское знамя над ним развевалось на ветру, словно ему не терпелось встретиться с неверными, – видели, как на орудийной платформе дон Хуан Австрийский в костюме золотого шитья танцует гальярду с двумя офицерами под музыку волынок.
На следующие три часа дым укрыл море. Крестьяне в горах за Патраикосом прислушивались к грому орудий. Когда дым рассеялся, турецкий флот был разбит. Только сорок кораблей спаслось бегством: остальные горели, скрылись под волнами или беспомощно болтались на воде. Такой была битва при Лепанто, одна из самых убедительных морских побед в истории. Легенды гласят, что, когда шло сражение, папа Пий V прервал своего казначея, обсуждавшего с ним финансовые вопросы, и, открыв окно, посмотрел в изумлении на небо. Затем, повернувшись, с сияющим лицом сказал: «Сейчас не время для дел, но время возносить хвалы Иисусу Христу, ибо наш флот только что победил». И поспешил в свою личную часовню. Новости дошли до Рима двумя неделями позже.
Великолепному юному победителю битвы при Лепанто оставалось жить всего шесть лет. Казалось, весь мир лежит у его ног. Он был моложе, чем Александр Великий во время его азиатских завоеваний; и папа римский, безгранично восхищавшийся юным полководцем, хлопотал, чтобы помочь ему с королевством и женой. Но без согласия Филиппа не могло быть сделано ничего. Может быть, Филипп завидовал сводному брату – так или иначе, методично и неумолимо он разрушал одну мечту дона Хуана за другой из своего кабинета в Эскориале. Самым романтическим из этих мечтаний была высадка испанской армии в Англии из Нидерландов, спасение Марии, королевы Шотландской, из тюрьмы, марш на Лондон, где Елизавета будет свергнута с престола, – а потом свадьба дона Хуана и Марии Стюарт и их коронация как короля и королевы английских! Донкихотские мечты! План получил одобрение в Ватикане, но ни малейшего – в Эскориале.
Вместо этого «последний рыцарь» оказался на самой неблагодарной работе в испанских доминионах – он стал генерал-губернатором Нидерландов. Два года он изнывал в лагерях и залах совета, а его просьбы о деньгах и поддержке в Эскориале аккуратно откладывались в папочку. Как-то осенью он заболел лихорадкой. Помощники на плечах отнесли его на ближайшую ферму, в пустовавшую голубятню, которую спешно вычистили и завесили гобеленами, чтобы превратить в больничную палату. Дону Хуану становилось все хуже, и в бреду он воображал себя на квартердеке своего флагмана при Лепанто. В одно мгновение прояснения ума он заметил своему духовнику, что не владел в этом мире ничем, даже горстью земли, и спросил: «Разве это не потому, отец, что мне следует желать обширных полей небесных?» Он вряд ли находился в сознании, когда принимал последние обряды, и, как духовник писал Филиппу, «выскользнул из наших рук почти незаметно, как птица, растаявшая в небе».
Ветераны рыдали, когда тело, одетое в доспех, с короной на светлых волосах и орденом Золотого руна на груди, пронесли через полки, стоявшие вдоль дороги в милю длиной, к Намюрскому собору. Шептались, что дона Хуана отравили, и убийцей называли его брата, но история признала Филиппа невиновным в этом преступлении. Когда Филипп услышал о желании брата быть похороненным в Эскориале, он послал приказ, чтобы тело перевезли в Испанию. Это было сделано шокирующим способом: тело разрезали натрое, поместили в три кожаные седельные сумки и так провезли контрабандой через Францию с партией возвращающихся испанцев. Некоторые историки предполагали, что это было необходимо, чтобы избежать расходов и трудностей торжественного перевоза королевского тела через Европу; но уж точно можно было найти корабль, чтобы привезти домой победителя битвы при Лепанто.
Наша экскурсия по гробницам завершилась. Мы с удовольствием поспешили в первоклассный отель и заказали кто шерри, кто сухой мартини. Все стали неестественно веселы и жизнерадостны: мы походили на группу паломников, вышедших из темного страшного леса. Маленькие монахини вытянули из священника куда больше английского, чем тот знал, и теперь он сидел, игнорируя их, с заткнутой за воротник салфеткой, энергично поглощая entremeses [7]7
Закуски ( исп.).
[Закрыть]: барабульку, телятину, сыр и фрукты – с удовольствием человека, чье испытание наконец закончилось. К моему большому удивлению, мой нью-йоркский приятель получил огромное удовольствие от экскурсии и решил, что Эскориал был лучшим из всего увиденного им в Испании.
Потом мы пили кофе на террасе с видом на Эскориал и смотрели на серый, нерушимый дворец, что раскинулся внизу, вздымая к полуденному солнцу купол церкви и башни-перечницы.
§ 7
Испанцы отличаются чрезвычайной чистоплотностью и аккуратностью в отношении одежды, манер поведения и знаменитой испанской вежливости. Хотя не ожидаешь, что их аккуратность и чистоплотность могут распространяться на уличные рынки, но это так. В большинстве стран рынки – шумный и грязный кавардак, где еда, как попало наваленная на лотках, продается под аккомпанемент воплей и ругани. Но в боковых улочках Мадрида прячутся самые чинные, красивые и благоустроенные рынки в мире. Они в своем роде идеальны: такие можно увидеть разве что в балете или в музыкальной комедии.
Я частенько посещал ранним утром один такой рынок – он расположен между улицей Веласкеса и улицей Гойи, маленький, крытый, с запирающимися лотками по четырем сторонам и рядом прилавков по центру. Домоправительницы с корзинами, слуги со списками покупок или даже сама señoraпроходят, выбирая еду на день, вдоль прилавков, чьи владельцы словно соревнуются друг с другом, кто сотворит самый привлекательный натюрморт. Никогда и нигде я не видел рыбы, фруктов, овощей и мяса, выставленных с таким тонким ощущением прелести обычных вещей. Всякий раз, как я посещал это место, меня заново поражала красота картины, менявшей цвета в соответствии с гастрономическими сезонами года. Даже прилавки мясников, которые всегда и везде выглядят сильным аргументом в пользу вегетарианства, здесь не оскорбляли взор. Никакого запятнанного кровью мужика, приближающегося с ножом к подвешенной туше; почти веришь, что ягнячья ножка выросла на дереве.
Это рыночное искусство, должно быть, характерно только для Испании, поскольку я нигде больше не встречал такого, а я всегда заглядываю на рынки в незнакомых городах. Фрукты выглядели столь же аппетитными, как холодный буфет в ресторане. Черешня, чей сезон тогда выдался, была выставлена в глубоких плетеных корзинках: белая, красная – все по размеру, черенки удалены, а сами ягоды словно натерты до блеска. На лотках лежала дикая земляника из Аранхуэса, и здесь я впервые увидел и купил несколько тех восхитительных, хотя и странно выглядящих плоских маленьких персиков, называемых paraguayos [8]8
Парагвайские, парагвайцы ( исп.).
[Закрыть]которые выращивают близ Мадрида. Для меня было настоящим откровением увидеть, насколько красиво и интересно могут выглядеть овощи, разложенные с чувством формы и цвета. Ярко-зеленые перцы и более бледная спаржа с пурпурными стеблями, перчики-чили, красные, словно мундир гвардейца, и бронзовые, металлически поблескивающие баклажаны с помощью более простой капусты, лука-порея и листьев шпината складывались в композицию, роскошную, как цветочная клумба.
Рыбные прилавки были столь же красочно великолепны и столь же превосходно аранжированы, как и фруктовые; и в самом деле, плоды садов и моря состязались в разнообразии цветов. Рыба располагалась на ложе из виноградных листьев в плоских плетеных поддонах. Часто встречалась розовая окантовка или бордюр из креветок, за которым следовало серебряное кольцо сардин, переходящее в холм барабулек, хека и трески, увенчанный башней из лангустов. Впечатление от цвета и композиции такой картины напоминает те сложные кондитерские изделия, известные нашим предкам как «хрупкости», созданные для услады глаза, а не желудка, которые появлялись на столе в конце средневекового пира.
Испанцы, должно быть, одни из величайших во всем мире любителей моллюсков, и в этой стране наилучшим образом организована быстрая доставка рыбы с побережья во внутренние земли. Мадрид, столица, далекая от моря, снабжается свежей рыбой ежедневно, и ночная гонка грузовиков со льдом с побережья почти считается государственной службой – возможно, она куда более популярна. Даже в разгар лета в Мадриде едят моллюсков, выловленных всего за день до того в каком-нибудь прибрежном городке. Забавно видеть иностранца, аккуратно извлекающего и откладывающего венерку или мидию из своей paellaв полной уверенности, что небезопасно есть моллюсков так далеко от моря.
Бакалейные лавки в Испании частенько выглядят как средневековое хранилище пряностей, но в основном замечательны своим прелестным именем: ultramarinos. Какое слово! И насколько банально по сравнению с ним наше! Когда человек читает слово «ultramarinos» над маленькой лавкой, перед его взором словно возникают корабли, идущие к зеленым островам, где перец и гвоздику привозят в изумрудную бухту. Быть бакалейщиком и владеть магазинчиком под вывеской «Ultramarinos» в Мадригал-де-лас-Альтас-Торрес – «Мадригале Высоких Башен», городке близ Мадрида, – значит жить в самом сердце поэзии языка. (Всего лишь небольшое разочарование постигло меня, когда я узнал от профессора Тренда, что «madrigal» здесь означает не любовную песнь, а заросли кустарника и вереска!)
Разглядывая в изумлении витрину кондитерского магазина в Мадриде, вы можете задаться вопросом, многие ли из восточных сладостей, выставленных здесь, являются наследием арабской Испании. Существует византийский пояс кухни, в который, полагаю, следует включить и Испанию: он тянется от Стамбула на юг через Малую Азию, где сходит на нет в харчевнях Алеппо и Дамаска, и на запад – через Македонию, Грецию и Балканы. Медовые сласти, какими султан потчевал своих любимцев, отнюдь не турецкие и не арабские (эти народы не изобрели даже засахаренного миндаля) – но греческие либо византийские. Я видел витрины кондитерских в Мадриде, которые, я уверен, наверняка были копиями лавок сладостей Константинополя времен Палеологов.
Я предполагаю, что арабы принесли византийские деликатесы с собой, когда пришли в Испанию, и любовь к сластям с тех пор не угасает. Монастырь – прекрасное хранилище рецептов, и любопытно узнать, что некоторые особые виды нуги или марципана до сих пор делают и продают монахини. Но кто покупает ежедневные пополнения сладостей: медовые коврижки, засахаренные вишни, вареные в сиропе апельсины, сливы в сахаре, маленькие пирожные, истекающие кремом, нугу и марципан? На витринах Мадрида ежедневно появляется огромное количество всего – достаточно, чтобы раскормить сотню гаремов.
Я обнаружил, что приобретаю коварную испанскую привычку есть креветки по утрам. В деловой части Мадрида я нашел очаровательное кафе, где разноцветные зонтики выставлены в саду. Маленькие трамвайчики, бренча, катились мимо с одной стороны, а с другой высилось похожее на собор главное почтовое отделение Мадрида, иногда называемое Богоматерью коммуникаций. Мало существует занятий, более восхитительных, чем без каких-либо дел в незнакомом городе и с деньгами в кармане сидеть и наблюдать за людьми, размышлять о них, пока ваши туфли обретают блеск под руками юного Мурильо. Испанцы могут так сидеть часами, просто разговаривая, или – в одиночестве – ничего не делая, с выключенным мотором мозга, в приятной расслабленности. Эта неподвижность – чудесный дар, как способность собак и кошек засыпать в любое время.
Я осознал, насколько на самом деле мал Мадрид, когда начал снова и снова замечать одних и тех же людей. Сидя в этом кафе, я видел двух маленьких монахинь-болтушек, проходивших мимо, еще более оживленных и восторженных, чем при нашей первой встрече. В этот раз я с радостью отметил, что им дали в гиды красивого и любезного священника, который улыбался с высоты своего роста с выражением благодушной галантности.
§ 8
Я часто приходил в Прадо, чтобы посмотреть на королей и королев, о которых читал: Филипп II и его современники, написанные Тицианом и Коэльо; Филипп IV Веласкеса; Бурбоны кисти Гойи.
Я считаю портрет Карла V работы Тициана одной из величайших когда-либо написанных картин. Мы видим императора в доспехах, которые он носил в битве при Мюльберге. Художник не пытался скрыть исходящее от Карла ощущение тяжелой болезни. Император так страдал от приступа подагры в утро битвы, что враги назвали его Карлом Полумертвым; и все же этот инвалид нашел в себе достаточно сил, чтобы взять оружие и вести свои войска к победе и даже форсировать Эльбу. Тициану было семьдесят, когда он писал этот шедевр, и он все еще чувствовал себя молодым, а его натурщик в свои сорок семь был стар и изнурен. Какая картина! Всадник выезжает из темного леса под располосованным облаками угрожающим небом, сжимая копье. Его лицо под стальным шлемом старо и устало, и мы, знающие его историю, понимаем, что он жаждет удалиться от мира и примириться с Господом.
Следовало бы написать книгу о великих инвалидах, мужчинах и женщинах, чей дух побеждал тело, и такая книга не может считаться полной без императора Карла V. Говорят, что перед битвой этот храбрый воин ужасно дрожал, пока застегивали доспехи. Зритель смотрит в это лицо, прозревая в императоре теплую и человечную личность, от которой ничего не унаследовал Филипп, зато – непонятным и удивительным образом, как всегда случается – в полной мере приобрел дон Хуан Австрийский.
Филипп II в молодости – пожалуй, излишне заносчивый и самодовольный – все же обладал приятной внешностью, благородной фигурой и стройными ногами. Можно легко поверить в легенду, что Мария Тюдор влюбилась в его портрет, написанный Тицианом. Кроме того, в этом возрасте в Филиппе присутствовало нечто щегольское, какой-то блеск в глазах – несомненно, объясняющий колебания Марии относительно того, выходить ли ей замуж за человека столь опасных свойств, да еще и на одиннадцать лет младше. Бедной женщине пришлось пройти через тяжелейшие муки, прежде чем те разрешились странной и трогательной сценой, когда императорский посол, уверявший Марию снова и снова, что Филипп – хороший молодой человек и не станет обманывать ее с другими женщинами, был внезапно вызван ночью в апартаменты королевы. Там он обнаружил Марию с покрасневшими от слез глазами в обществе одной только старой няньки – и Святые дары, лежащие на алтаре. Королева сказала, что, испросив Божьей помощи, решила выйти замуж за Филиппа и теперь клянется перед святыней стать ему доброй и преданной женой. Затем она, посол и нянька преклонили колена и помолились, после чего посол поспешил отправить к Карлу V гонцов с новостями.
Чудесной компанией для тициановского портрета Филиппа II является известный портрет Марии авторства Моро. Симпатии зрителя сразу обращаются к ней. Она никогда не была хорошенькой, теперь ее молодость увяла, лицо застыло в маске чопорности и упрямства. Все годы пренебрежения и разочарований, когда они с матерью, Екатериной Арагонской, были оттеснены на задний план Анной Болейн, кажется, видны в этом лице. Внешне она королева в роскошной парче, но в сердце – запуганная, обиженная и озлобленная старая дева, чьи шансы на счастье всегда приносились в жертву политике. Испанцы, с давних времен восхищавшиеся белокожими женщинами, прославляли кожу Марии того молочного оттенка, который обычно сочетается с рыжими волосами и веснушками; но больше хвалить в ней было нечего. Почти отсутствующие брови напоминают о ее отце, Генрихе VIII, а рыжевато-каштановые волосы, разделенные посередине пробором, выглядят безжизненными. Королева смотрит на зрителя с бесстрашной прямотой близорукости: ее зрение было столь слабым, что ей приходилось держать книгу в нескольких дюймах от лица. И разве хоть одна женщина держала розу более неохотно: кончиками пальцев за стебель, словно цветок может укусить? (Может, это протестантская роза?) Зритель смотрит на Марию Тюдор с ощущением, что встречал ее прежде. Разве это не чопорная и несколько пугающая тетушка вашей юности, чья жизнь разбита неудачным романом или эгоистичной матерью, – такие дамы средних лет распространяют свой диктат на многочисленных крестников, кошек, собак, канареек и филантропические общества.
Возвратимся к портрету Филиппа. Теперь мы можем посочувствовать этому молодому мужчине двадцати семи лет, который ради долга и католической веры женился на малоприятной, почти сорокалетней женщине – к тому же она была ему троюродной сестрой. Ничто не делает Филиппу большей чести, чем обращение с Марией в период их короткого брака. Никогда, ни на один миг, ни словом, ни взглядом он не дал жене почувствовать, что брак был для него мучением. Она не подозревала о его словах, сказанных наедине другу: «Я должен испить эту чашу до дна». Наоборот, Филипп дал Марии, в первый и единственный раз за всю ее жизнь, иллюзию любви, теплоты и безопасности. Глядя на этого мрачного молодого человека, чье лицо отражает привычную меланхолию, забавно вспоминать, что отец и испанский посол убеждали его в необходимости внешней веселости и самоуверенности среди англичан, и он все время заставлял себя улыбаться, похлопывать людей по спинам, старался казаться славным парнем. Однажды он даже явился к своим удивленным грандам после ужина и попросил их присоединиться к нему за кружечкой пива.
Так мы проходим от одной картины к другой и смотрим, как лица Габсбургов становятся все бледнее и своеобразнее с каждым родственным браком, пока не оказываемся перед Филиппом VI и его унылым затравленным взглядом. Написанные Веласкесом изображения упадочного испанского двора столь же яркие и живые, как и словесные картины Уайтхолла и Карла II, созданные в то же самое время Ивлином и Пипсом. За все время карьеры придворного художника Веласкес написал не менее сорока портретов своего патрона, больше одного в год, а также портреты королев, принцев, принцесс, дворян и – самые, пожалуй, привлекательные – придворных карликов и шутов. Поразительное переживание: войти в маленькую комнату, в которой «Las Meninas» – «Менины» – выставлены в одиночестве. Вы видите зеркало, в котором отражается картина. Фигуры кажутся живыми. Вы ожидаете, что они вот-вот шевельнутся. У вас появляется ощущение, что вы подглядываете в мастерской художника в старом дворце в тот момент, когда он пишет короля и королеву. Чтобы развлечь их величества, пока они стоят неподвижно, сюда привели их маленькую дочь, инфанту Маргариту; она стоит, маленькая, в тугом белом атласном корсаже и юбке с фижмами, светлые волосы заколоты сбоку. Фрейлина опускается на колени, предлагая принцессе чашку на золотом подносе, а вторая фрейлина, с другой стороны от девочки, делает реверанс. Еще на картине присутствуют два довольно унылых карлика и мастиф, задремавший в тишине студии. Веласкес стоит перед одним из огромных холстов, голова слегка наклонена, кисть застыла в воздухе, мазок только что положен – художник словно изучает какую-то подробность внешности королевской четы. Подобную сцену, должно быть, сотни раз видели придворные сановники. Это мгновение, украденное у вечности.
Автопортрет Веласкеса на этой картине – одна из величайших картин Прадо. Мы видим человека глубоких чувств и сильного характера и можем легко вообразить, как слабый король любил общество своего придворного художника и почему сделал его кавалером ордена Святого Яго – неслыханный почет для простого живописца. Веласкес прожил одну из самых спокойных жизней в истории искусства. Он с радостью проводил дни в студии, экспериментируя со светом и объемом, – преданный жене, довольный оплатой и поглощенный работой. Немного смешно думать об этом великом человеке как о королевском квартирмейстере, в чьи обязанности входило надзирать за украшением дворца по торжественным случаям, но это была государственная должность определенного значения. Именно во время работы Веласкес подхватил лихорадку, оказавшуюся смертельной. Форд заметил, что «величайший художник Испании был принесен в жертву на алтаре драпировочного ремесла».
Мы переходим к очаровательной Изабелле де Бурбон, сестре Генриетты-Марии и первой жене Филиппа IV. Он преданно любил супругу, хотя ему никогда не удавалось хранить ей верность. Изабелла была матерью прелестного маленького мальчика – возможно, самого известного королевского отпрыска в живописи, дона Бальтазара Карлоса, который, наряженный маленьким генералом, с жезлом в ручке и пером на шляпе, гарцует на своем упитанном пони. Каким важным и торжественным он выглядит, восседая на этом «маленьком пони-дьяволе», подарке дяди, императора Фердинанда! Родители обожали своего юного принца, но, увы, ему не суждено было унаследовать корону Габсбургов: он умер в возрасте двадцати пяти лет – вероятно, от менингита.
Причиной всех своих жизненных испытаний Филипп IV считал собственные грехи. Именно бледное лицо Филиппа, обрамленное жидкими светлыми волосами, запоминает зритель: уже не гладкое – того юного благородного дона, который принимал принца Уэльского, в Мадриде, но разочарованное и слабовольное – лицо сластолюбивого, подавленного чувством вины мистика. Никогда не бывало более странной переписки между монархом и одним из его подданных, чем переписка Филиппа IV и Марии, монахини из Агреды, которой он исповедовался в своих ошибках и рассказывал обо всех искушениях. Эти совершенно неподобающие писания регулярно отправлялись в монастырь и вдохновляли ответные письма, в которых монахиня иногда корила короля за порочность и всегда старалась придать ему сил. Чрезвычайно удивительно представлять монарха, окруженного такой пышностью и церемониями, по торжественным случаям часами сидящего, как статуя, без тени улыбки или иного проявления человеческих чувств, но унижающегося перед этой скромной монахиней.
Затем мы переходим к странной Марианне Австрийской, второй жене Филиппа IV и к тому же его племяннице. В момент венчания ей было пятнадцать лет, а ему – сорок два. Веласкес так изобразил ее – в фантастическом парике с лентами цвета лососины и огромнейшей юбке с фижмами на обручах, – что в жестких маленьких глазках и плотно сжатых губах видна та сильная и опытная женщина, какой Марианна станет позднее. Монахиня писала Филиппу к свадьбе, умоляя «направить все внимание и добрую волю на королеву, не обращая взора к другим предметам, странным и любопытным». И Филипп ненадолго подчинился монахине, но к тому времени в нем – отце тридцати, если не больше, незаконных детей – дурные привычки укоренились прочно, так что довольно скоро он снова начал плакаться о своих прегрешениях.
Мы подходим к последнему из Габсбургов, полоумному Карлу II, сыну Филиппа IV и его племянницы Марианны. Портреты, в которых художник явно изо всех сил старался быть милосердным, показывают лицо дегенерата: несимметричное, кривобокое, с длинным подбородком – уже не фамильным признаком, а физическим уродством. Зубы Карла не смыкались, и ему приходилось заглатывать пищу, как собаке. Его умственное развитие было замедленным, и даже будучи почти взрослым, он часто бегал по дворцу, как маленький ребенок. Таков итог близкородственных браков, которыми славился дом Габсбургов.
Хотя считалось, что Карл не может иметь детей, ему и политике принесли в жертву веселую французскую принцессу, а после ее смерти юная немка разделила с ним трон и подчинила слабого короля – нетрудная задача. И на тридцать полных страха лет, пока Испания утопала в нищете из-за дурного правления, двор полубезумного Карла II превратился в паутину интриг, поскольку разнообразные силы строили планы на испанскую корону. Король плыл по жизни с колодой карт, парой карликов и свитой монахов; двое монахов обязательно ночевали в его покоях. Когда Карл наконец умер в возрасте тридцати девяти лет, он, говорят, выглядел как восьмидесятилетний старик. Его спальня была загромождена скелетами святых, руками, ногами и черепами в золотых и серебряных реликвариях, и тем не менее с упрямством полоумного он игнорировал проблему наследника. Говорят, решающее слово принадлежало примасу Испании, благоволившему французской партии: он пригрозил перепуганному монарху, что если тот не назовет Филиппа, герцога Анжуйского, внука Людовика XIV, следующим королем, то умрет во грехе и отправится в ад. Потрясенный Карл продиктовал завещание и, когда оно было записано, разразился рыданиями и добавил своим корявым детским почерком: «Yo, el Rey» – «Я, король». Так Габсбурги, правившие Испанией со смерти Фердинанда и Изабеллы, передали скипетр дому Бурбонов.
Филипп V, первый французский Бурбон, принял в свои руки Испанию, словно серебряный канделябр, – а Европа получила Войну за испанское наследство. Теперь мы на верном пути к яркому атласному миру Гойи и семьи Бурбонов, почти столь же печальной и меланхоличной, как и Габсбурги. Мы движемся к Испании, имитирующей французские дворцы и водопады, перенимающей французские нравы и фасоны – а также к реакции в форме идеализации широко известных испанских типажей ( majoи maja [9]9
Махо, маха – красавчик, красотка ( исп.).
[Закрыть]): закутанные в плащ или мантилью, они пребывают в блаженном неведении относительно существования Европы.
Все это выглядит ярко и весело в сочных сияющих красках великих художников – и целыми днями люди поднимают взор от каталогов, рассматривают фигуры прошлого и проходят мимо, не подозревая, что заглянули в глаза человеческой трагедии и краху.