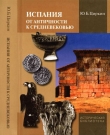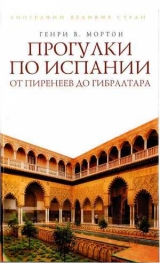
Текст книги "Прогулки по Испании: От Пиренеев до Гибралтара"
Автор книги: Генри Мортон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
Тогда мальчонка поманил меня за угол и указал на окно полуподземного подвала. Когда я отскреб паутину и грязь, мне удалось бросить взгляд на римские колонны, обломки водостоков, мавританские изразцы и прочие останки прошлого Ньеблы, сваленные грудами в темноте.
Я купил мальчику мешочек конфет, огорошил его несколькими прощальными словами и продолжил путь в Севилью.
§ 12
Примерно в сорока милях от Севильи, на пути в Кадис, лежит красивый и процветающий город Херес – центр и главный источник шерри. В нем множество пальм и банков, bodegasи любителей Англии, приятных во все времена, но столь редких в наши. Мужчины, которые выглядят как типичные англичане, в хорошо сшитых твидовых костюмах (а некоторые и с галстуками), называют при знакомстве фамилии вроде Гонсалес. Тесное общение Англии и Шотландии с Хересом установилось в семнадцатом веке, и во многих родовитых семьях города велика доля северной крови.
Самый интересный неалкогольный объект в округе находится в трех милях от города; это красивейший картезианский монастырь, чье главное здание медового цвета – по-моему, самое прекрасное барочное строение, какое я видел в Испании. У стен монастыря течет река Гуадалете, где последний готский король Родерик исчез во время великой битвы с маврами, оставив после себя лишь коня в роскошной сбруе.
Но только самые решительные посетители заходят так далеко от bodegasХереса, которые предлагают путешественнику больший и лучший выбор шерри, чем он когда-либо встречал в своей жизни. Кстати, «шерри» – особое слово. Это искажение названия города «Jerez» (произносится как «Херес»), которое, в свою очередь, считается мавританским искажением более раннего римского названия Asido Caesaris. Довольно странная мысль: всякий раз, прося стаканчик шерри, человек взывает к Цезарю. На самом деле это вино – не испанский напиток, ибо воздержанный испанец считает его слишком крепким и тяжелым; хотя иногда можно увидеть испанца, пьющего шерри как настойку! Первый шерри, кажется, прибыл в Англию вскоре после Екатерины Арагонской, поскольку это обычное дело для торговли – следовать за королевской невестой; за французскими принцессами часто катилась мощная волна бургундского и кларета. В старину Херес писался и произносился как «Шерес», поскольку испанское «х» произносилось в шестнадцатом веке как «ш» – отсюда получаем «шеррис» и «шеррис-сэк», или сухой шерри, о котором столь часто и любовно упоминает Шекспир. «Будь у меня хоть тысяча сыновей, – говаривал Фальстаф, – я первым долгом внушил бы им следующее жизненное правило: избегать легких напитков и пить как можно больше хересу» [90]90
«Генрих IV». Перевод Е. Бируковой.
[Закрыть]. Хотя шерри время от времени выходил из моды в Англии, он всегда возвращался. В Хересе полно винных погребов, или bodegas, где иностранец – более чем желанный гость и где, как отмечает осторожный Бедекер, «хорошо полакомиться бисквитами или чем-ни-будь вроде того».
Меня пригласили в одну из самых больших bodegaи показали достаточно шерри, чтобы пустить в нем плавать целый флот. Я никогда не любил шерри, но не осмелился сказать об этом в соборе амонтильядо и «Тио Пепе». В Хересе, естественно, серьезно относятся к шерри, и упоминание портвейна здесь – своего рода кощунство. Виноград растет на окрестных холмах на почве, называемой albariza [91]91
Букв.: белесая ( исп.).
[Закрыть], в которой много извести. Все сорта винограда любят известь и прививаются черенками Palomino– лозы, дающей мелкий белый виноград. Лозы сильно подрезают, и в сезон сбора, в сентябре, виноград давят в мелких деревянных корытах, а сок, который ферментируется около двух месяцев, потом или хранят в бочонках до зрелости, или добавляют в старые бочонки «материнского вина», как его называют.
После такого посвящения меня сочли достойным попробовать немного шерри. К этому моменту к нам присоединился Бахус Хереса – пожилой мужчина в белом пиджаке, чьи обязанности состоят в потчевании приезжих вином. При нем была металлическая кружка, приделанная к длинной ручке, которую он погружал во тьму бочонка и, держа правую руку в воздухе, переводил золотой поток шерри из черпака в стакан, не проливая ни капли. Этот акт сам по себе служил доказательством того, что Бахус редко пробовал шерри, однако в нем ощущался дух давних возлияний: вокруг его шляпы мне чудились призраки переплетенных виноградных листьев. Самыми представительными выглядели тринадцать огромнейших бочек, называемых – с обескураживающей фамильярностью набожности – Христом и двенадцатью апостолами. Наш проводник погрузил кружку, или черпак, в «Христа», содержащего материнское вино всех бочек, и сказал мне, что эту бочку заложили в 1862 году для королевы Изабеллы II.
Мы вошли в придел собора напитков. Под белеными сводами дремали огромные бочки: в них шел процесс, известный как «воспитание». Здесь Бахус сделался лиричен. Он погружал черпак в священные глубины и вытаскивал полным воспитаннейших вин. Я не знаю, сколько там было сортов шерри. Мы кружили по собору, пока Бахус не остановился перед бочонком, театрально затканным патиной. Бочонок был почти самодовольно стар, словно старейший житель города, который не может противостоять соблазну прибавить себе пару лет. Это была «Солера» 1847 года розлива. Что за вино! Пробуя его, я думал не столько о букете и вкусе, сколько об ассоциациях, им вызываемых. Солнце, пробудившее его к жизни своим теплом в 1847 году, было солнцем, светившим на королеву Викторию – двадцативосьмилетнюю женщину, которая правила пока всего десять лет; Луи-Филипп все еще занимал трон Франции; бунты «хлебных законов» только что отгремели в Англии; год финансового кризиса, последовавшего за железнодорожным бумом…
Бахус, заметив отсвет воспоминаний в моих глазах и ошибочно приняв его за алкогольный энтузиазм, еще раз запустил черпак в 1847 год; но я, видимо, испугался вспомнить слишком много, и он перелил все до капли обратно в священную бочку. Мы прошли в темный угол, где стоял в темноте и пыли одинокий бочонок, покрытый тканью цветов Испании.
– Его не откроют, – драматически сообщили мне, – пока король не вернется в Испанию. Его заложили, когда его величество, последний дон Альфонсо XIII, уехал в изгнание; бочонок оставался здесь во времена республики и гражданской войны; и его откроют – когда король вернется!
Момент был emocionante, и я не сказал ничего, только сочувственно кашлянул, думая, что, когда придет время, это будет хорошо выдержанное вино, раз уже сейчас ему двадцать три года.
Я сел отдохнуть на солнечной площади Хереса, где пальмы бросают тень и блуждающий ветерок приносит с собой слабые ароматы амонтильядо, олоросо и «Пало Кортадо».
§ 13
Я сдружился с доном Фелипе, и как-то раз он предложил мне осмотреть руины Италики в нескольких милях к северу от Севильи. Чем больше я приглядывался к этому человеку, тем больше он мне нравился. Дон Фелипе был необыкновенно удовлетворенной и уравновешенной личностью, я с трудом верил, что ему семьдесят шесть лет.
– Вы будто нашли секрет счастья, – сказал я.
– Да. Полагаю, да, – ответил дон Фелипе. – Когда несколько лет назад умерла моя жена, я оказался совершенно один во всем мире и с деньгами, достаточными, чтобы провести остаток жизни как мне угодно. На свой семидесятый день рождения я решил покончить с жизнью, которую вел до сих пор, и начать другую. Дела отнимают кучу сил – в семьдесят-то лет. Я был задавлен всякой всячиной, собственностью, животными и двумя старыми слугами, которые жили с нами много лет. Они-то и были главной трудностью. Когда я рассказал им о своем решении все продать и уехать, то думал, что они этого не переживут. Но я назначил им приличную пенсию, и настал счастливый день, когда у меня не оказалось никакой собственности во всем мире – ни денег, ни мебели, ни даже книг. Зато я стал свободен, чтобы пуститься в приключения.
Сначала я поехал в Америку и Канаду, и ни та ни другая мне не понравились. Я получил удовольствие от Италии, но не настолько большое, как ожидал, а от Греции – куда большее, чем рассчитывал. Мои деньги, как вы догадываетесь, все в долларах! Тогда я поехал в Австралию, Новую Зеландию и Японию, где в первый раз в жизни прочитал Лафкадио Херна [92]92
Лафкадио Херн (полное имя – Патрисио Лафкадио Тессима Карлос Херн) (1850–1904) – писатель, переводчик. Родился на греческом острове Санта Маура, сын ирландца-хирурга и гречанки, получил образование в Англии и Франции. Работал репортером в Бостоне и Нью-Йорке. С 1889 г. жил в Японии. Там Херн натурализовался под именем Коидзуми Якумо и женился на японке. Среди наиболее известных произведений о Японии, помимо «Бликов незнакомой Японии», можно назвать «С Востока», а также книгу «Потытка интерпретации» (1904).
[Закрыть]и упорно пытался понять эту страну. Потом заскучал по Англии, но на обратном пути прочитал книгу о Кипре и отправился туда. Остров мне полюбился, и я подумывал там поселиться. Но затем я приехал в Испанию и сразу же почувствовал себя дома. Сейчас я здесь живу около года и говорю по-испански довольно плохо. Я приехал в Севилью слишком поздно для Страстной недели и останусь здесь до следующей Пасхи. Потом поеду еще куда-нибудь.
– А куда?
– Не знаю. Может быть, в Индию.
– А что вас привлекает в Испании?
– Не могу сказать точно. Мне нравятся испанцы и то, как они живут. Жизнь здесь весьма викторианская. Это тот образ жизни, который я помню с тех пор, как был мальчонкой. Я не религиозен, но мне нравится религиозная атмосфера Испании – как год нанизан на струну церковных праздников. Мне нравится климат, нравится еда. Нравится веселое и беззаботное отношение к жизни. Вы можете сказать, что я вижу мир глазами второго детства, и это, пожалуй, правда. Я даже не начал исчерпывать свое любопытство.
К этому времени мы приехали в Италику, и нам открылись обширные и беспорядочные развалины на месте, где когда-то стоял город, давший рождение Траяну, Адриану и Феодосию. Огромный амфитеатр, вмещавший сорок тысяч человек, был снесен в восемнадцатом веке, чтобы укрепить плотины и берега Гвадалкивира. Полный энтузиазма гид провел нас по всем руинам и показал несколько мозаичных мостовых, которые он помогал разрушать плесканием на них воды из лейки, последнюю он носил при себе. Можно проследить линии некоторых главных улиц, но построек совсем не осталось. Тысячи тонн мрамора, должно быть, увезли в Севилью.
На обратном пути мы остановились в маленькой деревушке под названием Сантипонсе, где дон Фелипе пожелал показать мне картину в заброшенном монастыре. Мы проехали через двор фермы к большому и пустующему монастырю Святого Исидора. Смотритель, Хосе Басан, его жена и трое маленьких сыновей пришли в восторг при виде нас. Басан, как я скоро понял, был человеком с миссией. Он чувствовал себя призванным защищать и охранять опустевший монастырь, хотя не получал за это платы, да к тому же ему приходилось работать на местной железной дороге, чтобы прожить; тем не менее вся его жизнь была посвящена старинному зданию. Оно являлось его главной страстью. Его отец служил здесь церковным сторожем пятьдесят шесть лет, сказал он нам; сам он родился здесь и теперь ему пятьдесят шесть. Хосе сказал, что встает три раза каждую ночь и обходит монастырь с револьвером в кармане – просто чтобы посмотреть, все ли в порядке. В доказательство этого он порылся в своих бумагах и вытащил лицензию на огнестрельное оружие. Сначала он отвел нас в прекрасную барочную часовню Святого Иеронима, куда убрали с крыши позолоченных ангелов в человеческий рост. Он показал нам могилу Леоноры Давало, «преданной служанки», как гласила надпись; когда ее хозяйку, донью Урраку Осорио, сожгли заживо в 1327 году по приказу Педро Жестокого, Леонора взбежала на костер и заслонила госпожу своим телом, чтобы прикрыть ее наготу, и так умерла вместе с ней. Кроме того, в часовне покоилось тело Кортеса, прежде чем его останки перевезли в Мексику.
Мы вышли из часовни и побрели по холодному, опустелому монастырю, и я воображал себе преданного стража с его револьвером, неслышно идущего по этим полным призраков галереям и длинным каменным коридорам глубокой ночью – более странного занятия я не мог себе представить. Место выглядело населенным привидениями и смердело летучими мышами. Наконец Хосе распахнул дверь и провел нас в старинную трапезную, указав на картину, которая занимала всю торцовую стену. То, что я сначала принял за мраморную галтель, оказалось рамой, искусно нарисованной на плоской поверхности. Темой фрески была Тайная вечеря, а сработал ее какой-то неизвестный монах пятнадцатого века. Спаситель и Его ученики показаны сидящими за длинным столом, покрытым скатертью с узором, как на мавританских изразцах. Перспектива примитивная, стол наклонен к зрителю, так что все хорошо видно. Нет ножей и вилок, зато пасхальный ягненок лежит, готовый и зажаренный, на блюде. Маленькие тарелочки душистых трав стоят тут и там, пищу предполагается брать руками. Есть и кувшин вина, и кубки, а на маленьком столике рядом – тазик и кувшин с водой. Также видны маленькие булочки и плетенки хлеба, на вид такие же, какие по сей день пекут в Севилье. Христос и ученики имеют весьма греческий вид, а Иуда сидит напротив Христа – и на его лице написаны подлость и коварство.
Пока мы восхищались картиной и говорили, какое чудесное представление она дает о трапезе пятнадцатого века, я случайно посмотрел на Хосе Басана и увидел, как он глядит на фреску, которую наверняка видит каждый день, – с выражением обожания и благоговения. Он указал на несколько деталей, и я понял, что хранитель в этой картине души не чает. Я правильно сделал, упомянув о свежести фрески и ее прекрасном состоянии в этом пыльном заброшенном зале, потому что глаза Хосе засияли, и он рассказал нам, что регулярно чистит ее перышком и втирает в нее яичный белок. «Какие-то испанцы, – объяснил он, – давным-давно проезжали здесь и велели моему отцу делать это, а я продолжил его работу и буду исполнять, пока не умру».
Пораженный и взволнованный, я глядел на Хосе. Можно было бы написать рассказ, как он прибывает на небеса и рассказывает святой Терезе, как хорошо он приглядывал за «Тайной вечерей», так что – разве нет способа получить разрешение взглянуть вниз, на Сантипонсе, просто убедиться, что там все в порядке?
Однако я чувствовал, что у хранителя на уме что-то еще; и он облегчил душу, пока мы шли к выходу. Может ли дон Фелипе, спросил он, написать генералу Франко и попросить его позволить прежнему мэру Сантипонсе вернуться из Франции, где тот живет политическим эмигрантом – чтобы он смог умереть в Испании? В этом человеке нет зла, говорил Хосе, он добрый католик, хоть и социалист, и спас монастырь от разграбления красными. А теперь – увы! Этот бедный человек умирает во Франции, желая только – как должно всякому истинному сыну Испании – вернуться и похоронить свои кости в родной земле. Дон Фелипе мягко сказал, что не знаком с Каудильо и не думает, что Франко обратит на его письмо хоть какое-то внимание. Хосе страстно опроверг это замечание и сказал, что словечко от выдающегося и влиятельного иностранца должно решить дело.
– Разве никто не писал правительству об этом? – спросил я.
Хосе поглядел на меня с бесконечной печалью и уронил руки в безнадежном жесте.
– Правительство! – сказал он. – К тому времени, как они ответят на письмо, бедный alcaldeдавно будет мертв!
Я поразился его искренности и подумал, что наверняка на небесах есть специальный уголок для преданных хранителей. Когда мы ехали обратно в Севилью, дон Фелипе сказал:
– Думаю, мы провели довольно испанские полчаса. Еще одно, что нравится мне в испанцах, – их цельность. Когда они хороши, то очень, очень хороши…
Глава седьмая
Из Кордовы в Гранаду
Мечеть Кордовы. – Маслодел из Хаэна. – Гранада и Альгамбра. – Балет при лунном свете. – На север, в Ла-Манчу. – Полдень в Эль-Тобосо. – Библиотека Сервантеса. – Жара в Мадриде.
§ 1
Я приехал в Кордову в темноте, едва различил старинный мост и Гвадалкивир, утонувший в своем летнем ложе. Меня встретила грандиозная арка и узкие белые улицы, где вонзались в ночь башни и минареты. Немедленно я был окружен толпой сварливых молодых цыганок, которые поначалу сражались между собой, потом отошли, чтобы позволить победительницам отвести меня, как они обещали, в лучшую гостиницу. Одна сказала, что гостиница «чертовски precioso [93]93
Дорогая ( исп.).
[Закрыть]». Я был благодарен, ибо без их помощи мог бы полночи скитаться по улицам в поисках приюта.
Дверь отеля открывалась в холл, заставленный столами и плетеными креслами-корзинками, где – словно мираж Южного Кенсингтона – сидели, играя в карты, четыре пожилых англичанки. Они все купили испанские шали, которые сообщали их внешности нечто дикое, даже ведьмовское, но, если не считать этого, престарелые дамы восседали словно в каком-нибудь английском пансионе. Они явились из той эпохи, когда Англия была великой и самоуверенной и не трудилась извиняться и оправдываться, – эпохи, когда старые леди имели обыкновение шествовать с британским паспортом через балканские неурядицы, оттирая с дороги кровожадных революционеров пиками своих парасолек. Дамы сидели, чопорно выпрямив спины, задумчиво разглядывали свои карты, потом твердо и решительно выкладывали их на стол в благоговейной тишине. Упитанный Санчо, стоявший позади с подносом в руках, походил на семейного дворецкого. Полагаю, римляне эпохи Августа тоже обладали подобной невозмутимостью, уверенностью в собственной правоте и способностью внушать трепет и уважение; и в наши дни упадка и заката такие свойства иногда обнаруживаются у людей викторианской эпохи.
За ужином я оказался за соседним столиком с англичанками. Одна говорила по-испански и могла позволить себе небольшой, исполненный достоинства флирт с метрдотелем. Мы вступили в беседу, и выяснилось, как я и предполагал, что дамы путешествовали по Испании на автобусе и сейчас ехали в Севилью. Старая леди, говорившая по-испански, поведала мне, что часто посещала Севилью в детстве.
– Так чудесно оказаться в стране, где люди не ждут чаевых, – сказала одна из дам. – Однажды, когда мы уезжали из отеля, горничная побежала за нами и отдала чаевые, которые мы ей оставили; она решила, что мы забыли деньги!
– Это последняя страна, где жива любезность, – прибавила дама, бывавшая в Испании. – Хотя испанцы также могут быть очень грубыми. Они забывают ответить на письма, опаздывают на встречи или даже вовсе не приходят и могут быть ужасно назойливыми… Но как народ они восхитительны. Давным-давно в Барселоне – когда я приехала туда в первый раз – я гуляла по бульварам Рамблас и свернула в Старый город, где и заблудилась. Вокруг не было ни души, потому что был час siesta. Я шла по извилистым переулкам и все более запутывалась. Потом из-за угла вывернул какой-то жуткий на вид тип, ведущий в поводу осла. Я отметила, что ослик упитанный и довольный, и сочла хозяина человеком добросердечным, несмотря на его совершенно разбойничью наружность. На своем лучшем испанском я спросила дорогу обратно к отелю. Он посмотрел на меня, снял огромную соломенную шляпу, поклонился и, развернув ослика, повел меня по пути, которым только что пришел. Снова сняв шляпу, он указал на ступеньки отеля. Я поискала у себя в сумочке монетку, чтобы вознаградить его, но выяснила, что вышла без единого фартинга! Попросив его подождать, я взбежала по ступенькам, объяснила ситуацию портье и попросила его дать моему проводнику хорошие чаевые и включить их в мой счет. Я наблюдала, как они разговаривают и машут руками, а готом портье вернулся и сказал: « Señora, этот человек ничего не возьмет. Он просил меня передать нам, что он сделал единственное, что бедный может сделать для богатого».
После ужина в отель пришел молодой человек, к которому у меня было рекомендательное письмо, и мы с ним вышли прогуляться. Луна стояла высоко, и узкие белые улочки Кордовы, тронутые лунным светом, оказались самым восточным зрелищем, какое я видел в Испании. Мы словно бродили по Фесу. Мы прошли по главной улице, обрамленной апельсиновыми деревьями, к арене для боя быков, белой и классической, словно неповрежденный Колизей, потом оказались на красивой площади, где стоит бронзовая статуя «Гранд-капитана» с неожиданно белой мраморной головой. Посетили бесчисленные кафе и клубы, в одном из которых сидели страстные любители разговоров – под рогами быков и шпагами matadores. Нашли дом, где жил поэт Гонгора; потом спустились к римскому мосту и полюбовались тем, как лунный свет серебрит водовороты на реке. Башни, минареты и белые здания купались в свете луны, и, вспомнив о величии Кордовы во времена халифата, я вдруг ощутил глубочайшую меланхолию и неподъемный вес прошлого. Молодой человек много рассказывал о халифах и их фаворитках, благовониях и фонтанах, убийствах и заговорах. Узнав, что он добывает прибавку к своей salario, работая гидом, я перевел наши отношения на денежную основу – к большому облегчению юноши. Без сомнения, он чувствовал, что должен рассказать мне о халифате, чтобы отработать мои деньги. На самой деле он не особенно любил Кордову, предпочитал Севилью, которую считал родиной романтики и веселья.
– Различие между Кордовой и Севильей таково, – объяснял он. – Севилья – как юная девушка: веселая, смешливая, соблазнительная… – Тут он принял нелепую позу, положил руку на бедро, закатил глаза в попытке изобразить пляшущую señorita. – Но Кордова… – Тут он сложил руки на груди и сделал несколько шагов с опущенной головой. – Кордова – почтенная старая дама.
Я не сказал ему, что его впечатление совсем не совпадает с моим. Мне Кордова показалась куда больше похожей на мертвую одалиску.
§ 2
Утром я отправился в кордовскую мечеть, совершенно не собираясь впадать в чрезмерный восторг, – и был покорен в две минуты. Из всех строений исламского мира это для меня – самое фантастическое. На самом деле оно не слишком красиво, и, по-моему, в нем религиозного обаяния не больше, чем в подземных резервуарах Стамбула. Мечеть напомнила мне огромный лес, кишащий зебрами. Красно-белые полосатые арки тянутся колоссальной анфиладой, и, куда ни взгляни, везде одно и то же, что-то вроде трюка с зеркалами; однако здесь невозможно остаться равнодушным. Что может быть удивительнее, чем зрелище сотен колонн из мрамора разных цветов, даже разного размера, расположенных геометрически выверенно и связанных системой арок?! Эта планировка довольно примитивна, однако создает, как ни странно, ощущение многоуровневости. Я воображал эмира Абд ар-Рахмана I, спорящего с греческими архитекторами и настаивающего – с уверенностью богатого любителя, – что на самом деле неважно, имеют ли две алебастровые колонны одинаковую высоту и даже толщину: милость Аллаха нарастит меньшую колонну до большей и сделает тонкую равной толстой с помощью слоя штукатурки! И, отмахнувшись от возражений, эмир прыжком очутился в седле и исчез в облаке пыли, с телохранителями за спиной. То, что обещало стать глупой ошибкой, оказалось великим творением. Когда пришло время расширять мечеть, Абд ар-Рахман III и наследовавший ему сын Хакам II не смогли придумать лучшей конструкции и просто увеличили здание до его нынешних потрясающих пропорций.
Бродя кругами по чудесной мечети, я думал, что был бы счастлив в халифате Кордовы; то же самое я чувствовал в других зданиях этого периода – в каирской мечети Ибн-Тулуна и в огромной омейядской мечети в Дамаске. Почему так, я не знаю; может, потому, что Омейяды олицетворяли для меня понятный и близкий мне эллинистический мир, а позже ислам брал пример с Персии и Востока. В этой мечети легко поверить, что халифы Кордовы были разумными и добрыми людьми, интересовавшимися не только войной и религией, но также астрономией, поэзией и садовым искусством. Абд ар-Рахман I, который заложил мечеть, был высок, одноглаз и светловолос и вел романтическую жизнь. Его династия многие поколения правила миром ислама из Дамаска, и ему единственному удалось ускользнуть, когда Аббасиды свергли Омейядов и перенесли столицу в Багдад. После многих приключений Абд ар-Рахман прибыл в Испанию в 755 году – с горсткой преданных сторонников и небольшим количеством драгоценностей, несомненно, размышляя, суждено ему принять смерть или арабы, верные свергнутым Омейядам, придут на помощь, как в итоге и случилось. Он стал основателем Кордовского халифата, хотя так и не осмелился принять титул халифа. Именно он привез из Сирии в Испанию первый гранат и из своих садов распространил его семена по всей Андалусии. Он также ввез в страну первую финиковую пальму. Этот трогательный поступок означал, что, несмотря на триумфальную новую жизнь, Абд ар-Рахман чувствовал себя в Испании изгнанником и считал своим домом Сирию. Он написал чудесное маленькое стихотворение, посвященное пальме, которую сравнивал с собой и называл странницей в чужой земле.
Великий Абд ар-Рахман III, который унаследовал красоты Кордовы в 912 году и провозгласил себя халифом, уже открыто соперничал с Багдадом; и именно о его правлении говорил со мной под луной гид предыдущей ночью: об апельсиновом цвете и интригах, о поэтах, музыкантах и художниках, астрономах, математиках и врачах – обо всем том, что сделало Кордову подходящей сценой для испанского варианта «Тысячи и одной ночи».
Халиф построил летний дворец аз-Захра в память любимой жены, носившей это имя; но слово «дворец» не дает правильного представления об огромном королевском городе, построенном террасами, с собственными акведуками и окруженном одинарной стеной, примерно в трех милях от Кордовы. Как ни печально, сегодня дворец разрушен почти полностью, но его руины показывают, что это был самый великолепный дворец, когда-либо построенный в Испании. Там имелись висячие сады, птичьи дворы, зверинцы, пруды с рыбками и звенящие ручьи, изящные дворики и беседки; классическому миру пришлось внести в его строительство обычную лепту мраморных и порфировых колонн. Один из многих фонтанов дворца аз-Захра привезли из Византии; в другом зодчий как-то умудрился примирить льва, антилопу, крокодила, дракона, орла и прочих птиц в одном произведении: весь этот зверинец из золота и украшен жемчугом и драгоценными камнями. Я бы с радостью пожертвовал всеми имеющимися в Испании арабскими памятниками, чтобы увидеть целым этот дворец великой эпохи, с его статуями прекрасной аз-Захры и почти богохульным фризом, окаймлявшим беседку и повторявшим ее имя – вместо восхваления Аллаха. Одной из достопримечательностей дворца был прудик «живого серебра» в спальне халифа – очевидно, имитация бассейна со ртутью во дворце Тулунидов в Каире, где султан Хумаравайх, страдавший от бессонницы, иногда засыпал на плавучем диване.
В центре мечети я нашел кафедральный собор Кордовы, который построили, убрав часть колонн и тем самым освободив пространство для церкви, крышу которой подняли выше крыши мечети. Служба уже началась, и я не стал заходить внутрь; забавное ощущение – стоять снаружи в исламской мечети, словно за кулисами театра, и разглядывать христианского священника на кафедре, хор и каноников, а также огромный орган со сверкающими рядами золоченых труб. Многие писали, что эта церковь посреди мечети – позор, но лично я не вижу в этом ничего позорного. Нет более подходящего символа для Андалусии – возможно, даже для всей Испании, – чем этот христианский бриллиант в невероятной мусульманской оправе. Куда хуже, чем строить церковь в мечети, подумалось мне, было возвести стену вдоль северной стороны мечети, отрезав ее от дворика Апельсиновых деревьев. Вот это действительно акт вандализма; и я ушел, желая, чтобы президент Эйзенхауэр убедил генерала Франко снести эту стену.
Когда я вернулся в гостиницу и стал готовиться к отъезду в Гранаду, ко мне зашел попрощаться мой юный гид. Испанцы, кажется, могут покидать свои офисы и прочие места работы в любое время, когда только пожелают, – и это замечательно. Мы выпили по бокалу manzanilla, и юноша сказал мне, что в Гранаде сейчас идет фестиваль музыки и танца, так что я вряд ли найду ночлег; на этой печальной ноте мы и распрощались.
Я подумывал свернуть с шоссе и заглянуть в городок Теба, лежащий примерно в семидесяти милях к югу. Но это было слишком далеко. Теба – место битвы с маврами, в которой погиб сэр Джеймс Дуглас, когда вез сердце Роберта Брюса в Святую Землю. Любой шотландец, оказавшийся в Гибралтаре, может легко попасть туда на поезде, поскольку город стоит на главной линии из Альхесираса в Бобадилью.
История, которую, среди прочих, поведал нам Фруассар, такова: когда Брюс умирал, на душе у него было неспокойно, ибо насыщенная событиями жизнь помешала ему исполнить обет отправиться крестовым походом в Святую Землю. Созвав рыцарей, король завещал, чтобы после смерти его сердце забальзамировали и отвезли ко Гробу Господню, куда его тело отправиться не может. Добрый сэр Джеймс Дуглас обещал исполнить эту миссию и после смерти короля отплыл весной 1330 года в компании шотландских рыцарей, везя с собой сердце Брюса в «ane cas of sylvr fyn, enamalit throu subtilite» («ковчежец из тончайшего серебра, изысканно изукрашенный эмалью»), который носил на шее.
Флот зашел в Слейс на двенадцать дней, чтобы к экспедиции присоединились фламандские рыцари. Дуглас устроил на борту походный буфет, где услаждал местных дворян «винами двух сортов и пряностями». Потом корабли, видимо, обогнули Испанию, поскольку нам сообщают о прибытии экспедиции в Валенсию. Здесь Дугласу стало известно, что король Кастилии Альфонсо XI воюет с мусульманским правителем Гранады. Дуглас посоветовался со своими рыцарями, и все согласились, что это славная драка, в которую они обязаны вмешаться. Экспедиция повернула назад и причалила в Севилье, рыцари спустили на берег боевых лошадей и поскакали в лагерь кастильского монарха, который принял их с великой сердечностью и любовью. Среди иностранных рыцарей, которые сражались вместе с испанцами, был англичанин, известный своими военными подвигами, с изрезанным шрамами лицом. Узнав о прибытии Дугласа, о чьих храбрых деяниях он был наслышан, англичанин поспешил навстречу, чтобы сравнить отметины битв. Когда он выразил удивление, что лицо Дугласа не блещет шрамами, шотландец ответил: «Хвала Господу, у меня есть руки, чтобы защищать голову!»
В конце августа 1330 года испанская армия выстроилась против мавров близ Тебы, и Альфонсо скомандовал наступление. Дуглас, стоявший со своими рыцарями на фланге, ошибочно решил, что дан сигнал к общей атаке, велел трубам играть вызов и выехал к маврам под клич: «Дуглас! Дуглас!» – с сердцем Брюса в ковчежце на шее. Маленькую группку рыцарей быстро окружила мавританская конница; увидев сэра Уильяма де Сент-Клера Рослинского в трудном положении, Дуглас поскакал ему на помощь и был убит. Один из рассказов о его смерти гласит, что на скаку шотландец снял ковчежец с шеи и бросил его в гущу битвы, воскликнув: «Куда ни лети, Дуглас за тобой!»
Гибель Дугласа положила конец экспедиции. Говорят, что его тело и сердце Брюса были найдены на поле битвы и перевезены обратно в Шотландию. Дугласа похоронили в часовне святой Бригитты в Дугласе, а сердце Роберта Брюса, как считается, покоится в аббатстве Мелроуз.