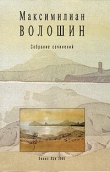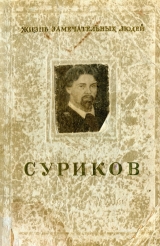
Текст книги "Суриков"
Автор книги: Геннадий Гор
Соавторы: Всеволод Петров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Вслед за теоретиками демократического лагеря Чистяков неизменно требовал от учащихся осмысленного, содержательного творчества и учил сознательно подчинять идейному замыслу и композицию, и рисунок, и колорит произведения. «Картина, в которой краски бросаются прямо в глаза зрителю, приковывают его, ласкают своими сочетаниями, не есть серьезная картина. Нужно, чтобы краски помогали выразить идею. Картина, в которой зритель старается отыскать смысл – душу, понять содержание ее и краски коей не отвлекают его от вдумчивости и рассуждения, – высокая, серьезная картина», – утверждал Чистяков. Содержательность искусства была, в его глазах, характерной национальной особенностью русской школы. «Я все-таки русский; а мы, русские, более всего преследуем осмысленность. По сюжету и прием; идея подчиняет себе технику», – писал он Сурикову.
Подобно Крамскому и другим ведущим мастерам новой русской школы живописи, Чистяков был глубоким и подлинным патриотом; главную задачу искусства он видел в служении родине и в онемеченной Академии семидесятых годов отстаивал русскую национальную традицию. Но Чистяков не обладал тем боевым общественным темпераментом, который так характерен для идеологов и вождей русского критического реализма.
Чистяков не порывал с классической традицией; он лишь стремился очистить ее от рутины и чуждых напластований, использовать ее лучшие стороны и развить их применительно к новым запросам искусства. Но в косной среде академической профессуры деятельность Чистякова воспринималась как явление чуть ли не революционного порядка. В кругу завзятых рутинеров и чиновников Чистяков был единственным творческим и самостоятельно мыслящим человеком. Немудрено, что «охранители заветов», нередко враждовавшие между собой, единодушно и дружно ополчились против него.
Чистякову приходилось вести упорную, ежедневную борьбу с академическим начальством и сотоварищами. Среди профессуры он слыл чужаком и сам ее чуждался. «Я с некоторых пор теряюсь и развлечение нахожу только среди честных и трудолюбивых юношей, сверстников же (кроме Боткина), в сфере коих вращаюсь, презираю от всей души», – писал он другу.
Авторитет Чистякова сложился и вырос вопреки официальному непризнанию, служебным интригам и постоянным, большею частью мелочным нападкам.
Репутация «опасного и беспокойного профессора» укрепляла уважение к нему со стороны передового студенчества.
Многое в Чистякове казалось особенно привлекательным для учеников. Он обладал глубокими и разносторонними знаниями в области искусства, но в его эрудиции не было и тени педантизма. Он владел даром яркой и образной речи, любил говорить загадками, объясняться притчами и употреблять цветистые «художнические» словечки, вроде знаменитого эпитета «чемоданисто», которым однажды наградил неудачную картину на академической выставке, и вместе с тем он умел обобщить свой долгий опыт и разнообразные наблюдения в коротком, выразительном афоризме, который ученики запоминали на всю жизнь. Классы, руководимые Чистяковым, были всегда полны; многие ученики добивались того, чтобы помимо классных занятий брать у него уроки на дому. Часто Чистяков, окруженный молодежью, появлялся в залах Эрмитажа и объяснял слушателям приемы и технику старых мастеров; кроме него, ни один профессор не снисходил до такой близости с учениками.
Система Чистякова представляет собой характерное явление русской педагогической мысли, непосредственно связанное не только с разночинско-демократической эстетикой, но и со всем кругом прогрессивных общественных воззрений шестидесятых-семидесятых годов.
Миросозерцание передовых людей этого времени складывалось под могущественным влиянием успехов науки. Методология естественных наук именно в эту эпоху оказала, как известно, глубокое воздействие на самые разнообразные области культуры, сблизив их с научным мировоззрением. Создавая свою систему, Чистяков мыслил ее как своеобразную науку о рисунке и живописи, основанную на точных наблюдениях и проверенных опытах; он стремился выяснить объективные закономерности, руководящие работой художника, и сознательно овладеть ими, не подменяя их ссылками на «божественный дар» и интуицию, на которых строилась романтическая эстетика и теория «искусства для искусства». Разумеется, он не отрицал значения таланта и вдохновения, но делом педагога считал лишь развитие знаний и воспитание мастерства. Система Чистякова прежде всего реалистична; она противостоит, с одной стороны, рутинной педагогической практике Академии художеств, а с другой – тем антиреалистическим течениям, которые проникали в Россию с Запада.
В основу своей системы Чистяков положил не только свой собственный опыт педагога-практика и огромный запас самостоятельных наблюдений и выводов, – он стремился обобщить результаты глубокого и пристального изучения мировой классической живописи, в частности мастеров Возрождения, а также использовать лучшие стороны наследия русской Академии художеств. В Александре Иванове он видел великого мастера и с глубоким уважением относился к Брюллову.
Чистяков учил вглядываться в характер и особенности модели и прежде всего стремился развить в учениках способность к правдивому и добросовестно-точному восприятию видимого. Эта задача сама по себе была нелегкой, так как ученики Академии, воспитанные на рисовании с «антиков», привыкли к идеальным классическим схемам, заслонившим от них живую натуру. «Надо как можно ближе подходить к натуре, но никогда не делать точь-в-точь, – учил Чистяков. – Как точь-в-точь, так опять непохоже, много дальше, чем было раньше, когда казалось, совсем близко, вот-вот схватишь». Иначе говоря, ученики Чистякова приучались вдумчиво и творчески относиться к изображению, передавать сущность натуры, опуская случайные и нехарактерные подробности. Подчеркивая, что натура является единственным источником знаний и мастерства в искусстве, Чистяков указывал, что следует «подчинить себе натуру», «найти тип», то есть художественно обобщить познанное.
Чистяков учил видеть форму, цвет и пространственные связи предмета, не разделяя этих элементов и учитывая их взаимодействие, не отрывая рисунка от живописи, как это практиковалось в академическом преподавании. «Он домогался, чтобы при передаче формы с нею органически сливался рисунок, распределение светотени и окраски, – другими словами, чтобы все это вместе создавало то художественное целое, которое является не фундаментом только, но живой плотью и кровью истинного художественного произведения», – вспоминал В. М. Васнецов.
В противовес академической системе, где рисунок играл настолько преобладающую роль, что для колористических задач почти не оставалось места, Чистяков особенное внимание уделял вопросам колорита. Именно эту сторону его преподавания высоко оценил впоследствии Суриков.
Верный принципу органической цельности художественного произведения, Чистяков учил понимать цвет как неотделимую часть композиции. Этот взгляд решительно расходился с принятым в Академии; там под композицией разумели размещение фигур в картине, подчиненное тем или иным линейным ритмам. Чистяков же видел в композиции внутреннее единство всех средств художественного выражения, обусловленных содержанием.
В целом система Чистякова, продуманная, последовательная и логичная, представляла собою прекрасную школу для художника-реалиста. Можно оказать, не опасаясь преувеличения, что чистяковская мастерская одна стоила целой Академии.
* * *
Среди записей, сделанных рукой Чистякова, сохранился отрывок:
«Суриков… Сибирь… Смотрит ночью на небо. Ничего нет, никаких приспособлений. Едет в Питер… В Академии учат антикам. Пропускают рисунок, колорит я развиваю – темное тело на белом. У семи нянек дитя без глазу. Виновата постановка. Академия – храм».
В этом странном и по-чистяковски запутанном наброске верно отражены отношения учителя к ученику. В словах Чистякова сквозит глубокая заинтересованность судьбою Сурикова, восхищение его талантом и вместе с тем какая-то неудовлетворенность.
Академия семидесятых годов ничем не напоминала тот храм искусства, о котором мечтал Чистяков. В ней не было главного – стройной и ясной системы, последовательной школы; она не создавала прямой преемственности мастерства. Учили многие, каждый по-своему. С точки зрения Чистякова, Суриков был недоучен («у семи нянек дитя без глазу») – он «не умел рисовать». Исправлять этот недостаток было поздно: Суриков попал к Чистякову лишь в этюдном классе, когда вся школа рисунка, все «антики и гипсы» остались уже позади. Чистяков сделал для Сурикова все, что мог, но ученье началось не с начала, а с середины.
Последовательным чистяковцем Суриков не стал никогда. Но роль учителя была все же значительной и плодотворной именно потому, что Чистяков со свойственной ему прозорливостью сумел разгадать Сурикова и развивал в нем то, что уже было органически заложено в самой природе его дарования.
«Павел Петрович Чистяков мне указал путь истинного колорита, – говорил Суриков, прибавляя: – я это еще в Сибири любил».
Что же подразумевал он под «истинным колоритом» и чему учил его Чистяков?
В искусстве классицизма и в академическом преподавании проблема колорита играла второстепенную роль. Главным средством художественного выражения был рисунок – линия и пластика человеческого тела, его чистый, почти отвлеченный контур и тонко промоделированный объем. Цвет как бы накладывался на уже готовую, проработанную форму, – академическая картина всегда представляла собою раскрашенный рисунок. Господствовала система так называемого «локального цвета», то есть раздельных красочных пятен, лишенных объединяющего тона. Отсюда идет пестрота и свойственная классике условность колористических решений.
Реалистическое мировосприятие Чистякова не мирилось с этой условностью. Его система основывалась на живом изучении натуры; он учил передавать реальную, а не условную окраску предмета в ее неразрывной связи с пространством и формой и настоятельно подчеркивал композиционную роль цвета. «Колорит в композиции есть то, когда смотришь на одну фигуру и видишь, что она отвечает другим, то есть когда все поет вместе», – любил говорить Чистяков.
Чтобы обострить зрительные восприятия молодого художника и внушить ему, что богатство колорита – не в пестроте, а в бесконечном разнообразии оттенков и переходов цвета, Чистяков заставлял Сурикова рисовать натурщика на фоне белой драпировки – «темное тело на белом». В других работах Чистяков приучал Сурикова справляться с много цветностью, преодолевать пестроту, приводя ее к стройной гармонии.
Но роль учителя не ограничивалась одною только постановкой «колоритных задач». Чистяков последовательно вводил Сурикова в понимание традиции, раскрывал перед молодым художником богатства русской и мировой художественной культуры. Недаром некоторые «чистяковские» работы Сурикова перекликаются с творчеством великого русского живописца Александра Иванова. Недаром именно с Чистяковым делился впоследствии Суриков своими впечатлениями от сокровищ мирового искусства.
Этюды и картины Сурикова, исполненные под руководством Чистякова в 1873–1875 годах, составляют замкнутый цикл и занимают особое место в творчестве великого художника.
«Богач и Лазарь», «Милосердный самарянин», «Пир Валтасара» и близкие к ним произведения способны, быть может, разочаровать того, кто знаком с более ранним творчеством Сурикова. В них нет той проникновенной правдивости, которая характеризует его жанровые рисунки и акварели, нет той глубины и острого своеобразия, каким отмечены работы «петровской серии». Традиционные библейские темы, не связанные, в сущности, с историей, далекие от жизни и поэтому глубоко чуждые Сурикову, не могли вдохновить его на создание подлинно значительных произведений. Роль этих картин остается в первую очередь чисто учебной. Суриков решал в них колористические и композиционные задачи, овладевал профессиональным живописным мастерством.
Но к этому делу он отнесся с присущей ему страстностью и силой своего замечательного таланта, сумел оживить однообразную и скучную тематику академических картин. Он пытался вложить содержание в темы евангельских и библейских легенд, которые в академическом искусстве давно превратились лишь в повод для чисто формальных упражнений. «Первые века христианства с его подвижниками и мучениками, фигуры проповедников новой веры и их страдания на крестах и на аренах цирков, все это влекло к себе величием и силой своего духа», – вспоминал он впоследствии. Отсюда идет «необщее выражение» академических работ Сурикова, их своеобразие, вызывавшее подчас резкую критику со стороны реакционной профессуры.
Среди картин этого периода выделяется «Пир Валтасара». В ней уже явственно проявляется замечательный дар колориста. Суриков обратился здесь к своему излюбленному мотиву – изображению народных типов – и сумел наполнить академическую композицию дыханием подлинной жизни. Вместе с тем именно в этой картине видно углубленное изучение академической традиции. Многое в «Пире Валтасара» восходит к брюлловскому «Последнему дню Помпеи», подобно тому как в «Милосердном самарянине» и некоторых «натурщиках» чувствуются отзвуки манеры Александра Иванова.
Уже в ученические годы к Сурикову пришла широкая известность. В 1875 году журнал «Всемирная иллюстрация» опубликовал воспроизведение с «Пира Валтасара»; в объяснительной статье говорилось о многообещающем таланте молодого живописца. В следующем году тот же журнал вместе с воспроизведением рисунка «Борьба добрых духов со злыми» сообщал читателям биографические сведения о Сурикове.
Нет сомнений, что и сам Суриков в то время видел в своих академических работах нечто большее, чем простые школьные упражнения. Похвалы критики, высокая оценка его работ товарищами и самим Чистяковым – все это внушало уверенность, что он стоит на верном пути. Если бы после окончания Академии он попал за границу, в условия академического пенсионерства, то, быть может, не сразу сумел бы выбраться на собственную дорогу. Впоследствии он рассказывал: «Чтобы меня за границу послали, как полагалось, денег и не хватило. И славу богу. Ведь у меня какая мысль была: Клеопатру Египетскую написать. Ведь что бы со мной было!»
Увлечение академической классикой, внушенное Чистяковым, осталось в творчестве Сурикова лишь эпизодом, непродолжительным и даже по-своему плодотворным. Вспоминая об этом времени, он говорил: «Классике я все-таки очень благодарен. Мне она очень полезна была и в техническом смысле, и в колорите, и в композиции».
* * *
Все награды, нужные для окончания Академии, были получены. Осенью 1875 года Суриков участвовал в конкурсе на Большую золотую медаль, с которой была связана заграничная командировка. Для конкурсной картины была предложена тема: «Апостол Павел, объясняющий догматы христианства перед Иродом-Агриппой, сестрой его Береникой и римским проконсулом Фестом».
Программа предусматривала композицию из четырех фигур. Суриков усложнил свою задачу, введя в картину изображение римских легионеров и еврейской толпы, напряженно внимающей проповеднику. Догматический церковный рассказ превращался таким образом в историческую картину. «Заданную мне тему я написал с увлечением, совершенно не замечая того, что и она мне чужая и я ей чужой», – вспоминал впоследствии сам Суриков. В этой искренней увлеченности и лежала, по-видимому, причина неудачи: картина вышла слишком оригинальной. В заседании совета Академии художеств один только Чистяков настаивал на присуждении Сурикову медали. Остальные профессора высказались единодушно и отрицательно: «Талантливо, но это не история, а жанр. Это легкомысленно».
Под «историей» они разумели, по-видимому, что-то уж совсем отвлеченное и не похожее на жизнь.
Чистяков писал художнику Поленову:
«У нас допотопные болванотропы провалили самого лучшего ученика во всей Академии, Сурикова, за то, что мозоли не успел написать в картине. Не могу говорить, родной мой, об этих людях, голова сейчас заболит, и чувствуется запах падали кругом. Как тяжело быть между ними».
Совет Академии присудил звание классного художника 1-й степени всем четырем претендентам – В И. Сурикову, Н. К. Бодаревскому, Н. П. Загорскому и И. И. Творожникову. Но золотую медаль не выдали никому.
У Совета Академии были свои достаточно веские причины для отказа. Но эти причины не имели ничего общего с искусством.
Касса Академии была пуста. Конференц-секретарь Исеев, правая рука «августейшего» вице-президента великого князя Владимира Александровича, совершил крупную растрату. Говорили, что настоящим виновником преступления был не кто иной, как великий князь, но под суд отдали, разумеется, только одного Исеева, а пострадали, кроме него, еще выпускники 1875 года, не получившие денег на заграничную командировку.
Биограф Сурикова В. А. Никольский рассказывает, что сам художник подозревал особую причину своей неудачи: во время посещения его мастерской великим князем Владимиром он не проявил низкопоклонной почтительности перед «августейшим» вице-президентом, и тот в отместку «спрятал в карман мою заграничную командировку», как выражался Суриков. Дело, однакоже, на этом не остановилось.
Несправедливость, совершенная по отношению к Сурикову, была слишком очевидной. Горячие речи П. П. Чистякова оказали, по-видимому, влияние. Совет Академии внезапно изменил свое решение и, в обход всех правил, возбудил ходатайство перед министерством двора о предоставлении Сурикову средств на двухлетнюю заграничную поездку за счет министерства. В результате упорных хлопот и продолжительной переписки было, наконец, получено согласие министра и даже самого императора, который «пожаловал» Сурикову 800 червонцев.
Но тут произошла неожиданность, поставившая Совет Академии в очень неловкое положение: Суриков наотрез отказался воспользоваться командировкой. Он ходатайствовал о том, чтобы вместо поездки ему предоставили работу по росписи храма Спасителя в Москве.
Совет Академии согласился на просьбу Сурикова и даже отвел ему мастерскую, в которой весной 1877 года были исполнены картоны будущей росписи.
Суриков писал родным в марте 1876 года:
«Я, мама, уже теперь с января месяца не стал получать от П. И. Кузнецова содержания. Я сам хочу теперь самостоятельно работать. Я уже выучился хорошо рисовать. В ноябре я получил диплом на звание классного художника 1-й степени и вместе с тем чин коллежского секретаря».
Письмо кончается шуткой:
«Конечно дело, что чин мне не особенно нужен, но все-таки же я начальство, в спину могу давать! Вот ты и возьми меня! Вон оно куда пошло!»
Годы ученья остались позади.
IV. В МОСКВЕ
Летом 1877 года Суриков приехал в Москву с уже готовыми эскизами четырех больших картин для храма Спасителя.
Художник, в сущности, еще не вырвался из привычной академической обстановки, из той среды, в которой прошли его ученические годы. Вместе с ним в храме Спасителя работали его товарищи по выпуску – Бодаревский и Творожников и самые косные, нелюбимые профессора – Вениг, Нефф и Шамшин.
«Как это бездарно и безжизненно!» – отозвался о росписи собора Репин в письме к Стасову.
Суриков был вынужден считаться со своими сотрудниками и писать так, чтобы его работы не выделялись, не нарушали единства стиля и цельность росписи. За работой художников наблюдала специальная комиссия, и приходилось беспрекословно выполнять ее требования.
По плану росписи Сурикову отвели место в полутемном проходе на хорах. Темой Сурикова были четыре вселенских собора.
По своему стилю эскизы Сурикова непосредственно примыкают к циклу его академических работ. Но они своеобразнее и тоньше того, что он делал в ученические годы. Забота о правильном рисунке, о колорите и гармоничной композиции уже не исчерпывает здесь задачу художника. по-видимому, в начале работы он был искренне увлечен возможностью показать большие чувства, одушевлявшие первых учителей христианства, и раскрыть атмосферу страстного фанатизма, в которой протекали вселенские соборы. В образах старцев на эскизах Сурикова есть суровая красота и подлинное величие.
Но комиссия, руководившая росписью, желала совсем не этого. Дыхание жизни, наполнявшее суриковские эскизы, испугало руководителей, как нечто угрожающее «благолепию» храма. Тему сузили: Сурикову предписали изобразить лишь сцены чтения соборных постановлений и запретили при этом давать изображения еретиков, хотя обсуждение ересей и было, как известно, причиной созыва соборов.
«Работа для храма была трудна, – вспоминал Суриков. – Я хотел туда живых лиц ввести. Греков искал. Но мне сказали: если так будете писать – нам не нужно. Ну, я уж писал так, как требовали».
Работа перестала интересовать Сурикова, превратилась в скучную обязанность, которую он выполнял только ради заработка. Летом 1878 года роспись была окончена.
«Мне нужны были деньги, чтобы стать свободным и начать свое», – говорил Суриков. За работу в храме Спасителя он получил большую по тем временам плату – 10 тысяч рублей – и надолго был обеспечен.
В начале 1878 года Суриков женился на Елизавете Августовне Шарэ, внучке ссыльного декабриста Свистунова, и вместе с женой навсегда переехал в Москву.
Молодые супруги поселились в маленькой квартирке на Зубовском бульваре. Жизнь их шла тихо и счастливо. В жене Суриков нашел верного и преданного друга. В письмах к брату и матери, которых художник по-прежнему считал самыми дорогими и близкими людьми, он часто с неизменной любовью упоминает о жене, как бы уже не отделяя себя от нее. В конце 1878 года у Суриковых родилась дочь, а через два года – вторая дочь.
Иногда в тесных комнатах на Зубовском бульваре собирались гости. Суриков сблизился с Ильей Ефимовичем Репиным, которого знал еще по Академии. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Репин писал портрет Сурикова и живо интересовался его работой и творческими планами. Бывал у Суриковых и литератор, художественный критик Н. А. Александров, издатель журналов по искусству. А однажды в библиотеке Исторического музея Суриков случайно заговорил с незнакомым пожилым человеком, который поразил его своим умом и необыкновенной начитанностью. Это был Лез Николаевич Толстой, живший в ту пору в Москве. Он, в свою очередь, заинтересовался молодым художником и запросто заходил к нему – взглянуть, как подвигается работа.
* * *
Потребность начать «свое» с особенной настойчивостью возникла у Сурикова в Москве, где вся окружающая обстановка была пропитана историческими традициями. С работой в соборе закончился период, связанный с академической классикой. Суриков снова вернулся к своим излюбленным темам.
«Я как в Москву приехал, – рассказывал Василий Иванович, – прямо спасен был. Старые дрожжи, как Толстой говорил, поднялись».
Прежде всего он почувствовал себя здесь гораздо уютнее, чем в Петербурге. Было в Москве что-то напоминавшее Красноярск, особенно зимою.
С наступлением сумерек Суриков бросал работу в соборе и отправлялся бродить по Москве, все больше к Кремлевским стенам. Окрестности Кремля сделались любимым местом его прогулок и именно в сумерки. Темнота понемногу скрадывала все очертания, все принимало новый, незнакомый вид, и вдруг начинало казаться, что это не кусты растут у стен, а стоят какие-то люди в старинном русском одеянии, или почудится, что вот-вот из-за башни выйдут женщины в парчовых душегрейках, с киками на головах.
О том, как внимательно вглядывался Суриков в облик Москвы, как проникновенно умел он чувствовать ее красоту, свидетельствуют акварельные пейзажи, исполненные им под впечатлением прогулок у Кремля.
В новых акварелях Суриков возвращается к тому живому, реалистическому восприятию действительности, каким отмечены его первые петербургские городские пейзажи. Но годы ученья у Чистякова не прошли даром. Теперь Суриков уверенно, мастерски распоряжается изобразительными средствами. На маленьком листке бумаги перед зрителем раскрывается обширное пространство, в котором ритмично и безукоризненноточно размещены колокольня Ивана Великого и купола Успенского собора. Покрытые снегом, возвышаются стены и башни Кремля, а над ними грозно нависает суровое, темное, низкое небо.
Глубокий интерес к архитектуре особенно характерен для Сурикова. «Я на памятники как на живых людей смотрел, – расспрашивал их: вы видели, вы слышали, вы свидетели. Только они не словами говорят, – рассказывал он Волошину. – Стены я допрашивал, а не книги… Я вот в пример скажу: верю в Бориса Годунова и в самозванца только потому, что про них на Иване Великом написано… Памятники все сами видели: и царей в одеждах и царевен – живые свидетели…»
Письма Сурикова к родным полны рассказов о памятниках старины:
«Ha-днях ходил на Ивана Великого, всю Москву видно, уж идешь, идешь на высоту, насилу выйдешь на площадку, далее которой не поднимаются… Потом ходил в Архангельский собор, где цари покоятся до Петра Великого. Тут и Дмитрий Иванович Донской, и Калита, Семен Гордый, Алексей Михайлович, Михаил Федорович; Иван Васильевич Грозный лежит отдельно в приделе, похожем на алтарь. Рядом с его гробницей лежат сыновья его. Один убитый Грозным же, потом в серебряной раке (гробнице) лежит Дмитрий Углицкий, сын Грозного, убитый по повелению Бориса Годунова. Показывается рубашка в которой его убили, и на ней и носовом платке его видны еще следы крови в виде темных пятнышек… Haднях ездил с товарищем в Троицко-Сергиеву лавру; помнишь из истории тот монастырь, где от поляков монахи отбивались и откуда Авра амий Палицын грамоты по России рассылал?»
Темы истории неразрывно сливались в сознании Сурикова с темой народа.
Художник-демократ, воспитанный на передовых идеях революционно-демократической эстетики, эстетики передвижников, для которых не было темы важнее, чем тема народа, Суриков не мыслил истории без народа, так же как не мог помыслить народа вне его истории.
Впечатления Москвы помогли Сурикову облечь исторические образы живой плотью. На прогулках у стен Кремля зарождались темы будущих картин. Один из своих замыслов Суриков закрепил в акварели «Боярина грабят». В сознании все чаще возникала давнишняя мысль – написать стрельцов. В этой теме его привлекала возможность показать народную трагедию.
О том, как началась работа над картиной, Суриков рассказывал критику С. Глаголю:
«Однажды иду я по Красной площади, кругом ни души. Остановился недалеко от Лобного места, засмотрелся на очертания Василия Блаженного, и вдруг в воображении вспыхнула сцена стрелецкой казни, да так ясно, что даже сердце забилось. Почувствовал, что если напишу то, что мне представилось, то выйдет потрясающая картина. Поспешил домой и до глубокой ночи все делал наброски то общей композиции, то отдельных групп. Надо, впрочем, сказать, что мысль написать картину стрелецкой казни была у меня и раньше. Никогда только не рисовалась мне эта картина в такой композиции, так ярко и так жутко».
Работа над «Утром стрелецкой казни» вытеснила все другие замыслы и всецело поглотила Сурикова почти на три года.
В жизни и творчестве Сурикова наступил новый период, период, отмеченный уже полной творческой зрелостью. «Утро стрелецкой казни» стоит первым в ряду грандиозных исторических полотен, созданных Суриковым.
Но прежде чем говорить об этой картине, необходимо отдать себе ясный отчет в том, чем была русская историческая живопись до Сурикова, какое наследие принял художник, приступая к самостоятельной творческой деятельности. Только при этом условии определится вклад, сделанный Суриковым в русскую и мировую культуру.
* * *
Историческая тематика издавна занимала значительное место в русском изобразительном искусстве. Суриков был наследником большой и хорошо разработанной традиции, восходящей к живописи русского средневековья и особенно широко развитой во второй половине XVIII века и в XIX веке.
Исторические мотивы встречаются в миниатюрах, украшающих древнерусские рукописи, в «житийных клеймах» икон и даже в монументальных фресковых росписях..
Эти произведения представляют собою, однакоже, лишь предысторию исторического жанра. Новый этап в его развитии относится к XVIII веку, когда средневековая иконопись, скованная религиозным миросозерцанием и церковными догмами, уступила место светской живописи, черпающей свои сюжеты и образы из реальной жизни.
Наиболее ранней исторической картиной нового стиля является «Куликовская битва», приписываемая, с большой долей вероятия, знаменитому художнику петровской эпохи Ивану Никитину (около 1688–1741). Но эта картина, не обладающая большой художественной силой, одиноко стоит в искусстве своего времени.
Несравненно более значительным явлением в русской исторической живописи XVIII века была мозаика «Полтавская баталия», исполненная группой русских мастеров под руководством М. В. Ломоносова в 1761–1765 годах.
Великий ученый лишь в последние годы жизни обратился к искусству. Изобразительное творчество занимает, в сущности, очень скромное место среди его грандиозных трудов. Но всеобъемлющий гений этого человека прокладывал новые пути во всех областях, которых касалась его пытливая, ищущая мысль. В понимании задач исторической живописи он опередил свою эпоху почти на целое столетие.
В «Полтавской баталии» Ломоносов поставил себе целью не только прославить своего героя – Петра и в лице его весь русский народ, но и дать правдивое, исторически верное изображение события, в котором ученый справедливо видел один из узловых моментов новой русской истории. В картине Ломоносова историческая тема выражена на языке реалистического искусства.
Современники не оценили прекрасную картину. «Полтавская баталия» оказалась в буквальном смысле похищенной у истории русского искусства. В течение почти полутораста лет мозаика была спрятана в подвалах Академии художеств и оставалась никому неизвестной.
Картины А. П. Лосенко (1737–1773), ученика а впоследствии руководителя Академии художеств, представляют собою в смысле понимания истории значительный шаг назад по сравнению с мозаикой Ломоносова. Но именно с Лосенко начинается стойкая и непрерывная традиция «исторического жанра», которая сразу заняла ведущее место в Академии и на долгие годы предопределила пути развития русской живописи.
У истоков этой традиции стоят две картины Лосенко – «Владимир и Рогнеда» (1770 год) и «Прощание Гектора с Андромахой» (1773 год).
Идеи патриотизма и гражданственности, долга перед родиной, служения государству, самопожертвования ради общественного блага составляли основное содержание передового русского искусства того времени. Сумароков призывал поэтов «проповедовать добродетель» и учить «подражанию великих дел». Четко сформулированы им задачи исторической живописи: «Первая должность упражняющихся в сих хитростях есть изображати Историю своего отечества и лица великих в оном людей. Таковые виды умножают геройский огонь и любовь к отечеству».