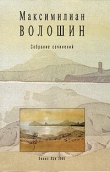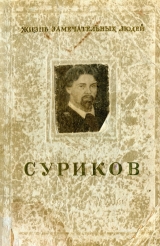
Текст книги "Суриков"
Автор книги: Геннадий Гор
Соавторы: Всеволод Петров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
XIV. ПЕЙЗАЖИ СИБИРИ
Еще в те дни, когда молодой, не так давно расставшийся с Красноярском Суриков бродил по освещенным керосиновыми фонарями улицам Петербурга, отмечая все, что было достойно изображения, в русской живописи произошло событие, значение которого стало понятным далеко не сразу.
Московский пейзажист Алексей Кондратьевич Саврасов (1830–1897), участник демократического движения художников-передвижников, закончил небольшую по размерам картину «Грачи прилетели».
Пейзаж Саврасова поражал удивительной скромностью и простотой стиля: весенние лужи у старенького забора, длинные березы с птичьими гнездами – все именно то, что замечали все, но мимо чего равнодушно проходили пейзажисты, любители роскошной южной романтической природы. В живописи впервые открыт был пейзаж, который окружал простых русских людей в маленьких провинциальных городках и селах необъятной России и который был им близок и мил.
Картины Саврасова, Ф. Васильева, Шишкина и Левитана выражали одухотворенную и скромную красоту русского пейзажа. В их простом и глубоко человечном искусстве много общего с лирической народной песней, с поэзией Кольцова и Некрасова, с поэтической прозой Чехова. Так глубоко почувствовать русскую природу может лишь художник, страстно любящий родину.
Любовью к родине проникнуты и пейзажи Сурикова. Но если картины Васильева, Саврасова и особенно Левитана лиричны, пронизаны настроением, то пейзажи Сурикова раскрывают несколько иной подход художника к изображению русской природы, Сурикова интересует в природе прежде всего ее величественность, бескрайность ее просторов. Наиболее точно выражают особенности Сурикова-пейзажиста не его этюдные зарисовки и пейзажи в точном смысле этого слова, а его исторические полотна.
Пейзажу отведено много места почти во всех исторических картинах Сурикова. Даже в «Меньшикове», где человеческая драма развертывается в тесной низкой избе, узкое обледенелое оконце, не показывая северного пейзажа, тем не менее дает нам ощущение суровой зимы, безлюдья того мира, который за стеной избы.
В исторических полотнах Сурикова и пейзаж историчен и эпичен. Природу художник изображает так же, как это делали безыменные авторы былин и народных сказаний.
«Покорение Сибири» показывает нам не только могучие фигуры казаков и своеобразное пестрое войско Кучума, но и суровую, глубоко своеобразную природу Сибири – сумрачные воды Иртыша, необъятные просторы, которые открываются взгляду зрителя, как они открывались когда-то взгляду Ермака и его казаков.
На картине «Степан Разин» вместе с величавым образом крестьянского вождя изображена не менее величавая природа, словно уходящая в беспредельность Волга, утреннее небо без конца и без края.
Но кроме величия, Суриков открывает в русской природе и передает живописными средствами то, что отображал Пушкин, когда писал:
Зима… Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке…
Необычайной свежестью и новизной радует эта картина первого снега. Как знаменитые пушкинские строки, так и суриковский пейзаж во «Взятии снежного городка» впечатляет удивительной естественностью и радостной красотой; в нем картина русского ландшафта чудесно сливается с поэтическим народным восприятием родной природы. Изображение снега в этой картине было, в сущности, художественным откровением. До Сурикова никто в мировой живописи не умел так правдиво изобразить снег. В нем есть и синева, и белизна, и легкость, и непередаваемая мягкость – у зрителя рождается не только зрительное, но и осязательное ощущение. С поразительным мастерством изображен снег и в картине «Боярыня Морозова». Движение по снегу саней настолько живо, что зрителю кажется – он слышит скрип полозьев… Необычайно поэтично выглядит и московская улица XVII века; дома, церкви, окутанные сизой дымкой деревья, небо – все это не ощущается, как фон, на котором развертывается историческая драма, а воспринимается, как поразительно цельная картина, где люди и пейзаж, события и страсти так связаны единой мыслью, колоритом, безупречной композицией, что невозможно механически отделить одно от другого.
Много времени и труда художник посвятил изучению сибирской природы. Во время своих частых поездок в Сибирь Суриков зарисовывал в альбом все, что казалось ему характерным для этой страны. Подолгу живя в Красноярске у родных, он снова и снова вглядывался в знакомую и такую милую с детства местность. Суриков стремится передать не только внешние черты местности, а прежде всего ее дух. В этом отношении особенно замечательны сибирские пейзажи Сурикова: «Деревня у подножия гор», «Минусинская степь», «Торгошино». Смотря на очертания сибирских гор, на деревянные заплоты деревушки в горах, зритель не поддается сильному, но все же мимолетному настроению, которое порождают в нем пейзажи импрессионистов или романтиков, а видит местность как бы глазами охотника-сибиряка или крестьянина, жителя этих мест, взгляд спокойно осваивается с местностью, как осваивается взгляд охотника, собирающего хворост для костра или присматривающего место для ночлега.
Суриков видит природу такой, какой ее видят сибиряки-крестьяне, умеющие глубоко чувствовать красоту родной тайги. Эти народные представления о красоте природы никогда не предстают оторванными от жизни общества, от человека.
Суриковские изображения деревянных построек в тайге или домиков Красноярска (взгляните хотя бы на бревенчатый дом Охотникова) заставляют вспоминать хозяйственные советы Сурикова брату.
«Посылаю, Сашонок, – писал он, – сто рублей на поправку дома. Надо мамочку утешить, а то дом рушится. Купи покуда лесу, что ли… Я думаю печки вверху не трогать. Тепло выносит в стены. Надо проконопатить их и обшить дом новым тесом. Полы внизу и вверху перебрать… Весь дом надо приподнять с угла во дворе на улицу…» Дом Охотникова в Красноярске увиден не только глазом художника, но и глазом человека, который знал, как нужно обшить и законопатить стены, чтобы не дуло, как перебрать полы и с какого угла приподнять стены. Есть в этом изображении нечто до того объективное, что забываешь, что это акварель, художником схвачено самое главное – суть сибирской деревянной постройки, крепко и тяжело стоящей на земле, та суть, которую с точностью мог уловить разве только опытный и мудрый взгляд мастера-плотника, строившего этот дом.
Черты величественной эпичности в пейзажах Сурикова усиливаются по мере того, как они переносятся в специфическую обстановку исторической картины.
Слияние характерно-географических черт ландшафта с эпическими происходит в произведениях Сурикова по тем же законам, по каким в «отписках» (донесениях) землепроходцев или в дневниках путешественников происходило слияние отмеченных ими фактов и наблюдений с глубоко искренним и эмоциональным восприятием действительности. Путешественникам и географам природа открывала не только отдельные частности, не маленькие лирические уголки, а величие огромных пространств высоких гор, бесконечно широких степей, могучих рек. Отношение их к природе иное, чем у большинства художников-пейзажистов, далекое от пассивной созерцательности, окрашенное энергией походов и трудных испытаний и в то же время полное глубокого и тонкого проникновения в своеобразную красоту ландшафта.
То же и у Сурикова. Он считал, что суровое обаяние сибирской природы заключалось не в отдельных лирических уголках, а в ее целом. Поэтому зрителю, рассматривающему сибирские пейзажи Сурикова, кажется, что это не часть местности, попавшей в поле зрения художника, а вся огромная дикая тайга, вся Сибирь, с ее горами и лесами.
В этом отношении очень характерна акварель Сурикова «Окрестности Красноярска».
Изобразительные приемы в описаниях путешественников всегда были строгими и необычайно точными. Вспомним хотя бы описание кавказской природы, увиденной глазами Пушкина-путешественника.
«В Ставрополье увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за девять лет.Они были все те же, все на том же месте. Это снежные вершины Кавказской цепи» («Путешествие в Арзрум»).
Смотря на рисунок «Гора Ветергорн», сделанный Суриковым в альбоме в 1897 году в Швейцарии, невольно вспоминаешь необычайно точные и поэтичные слова Пушкина-пейзажиста.

В. Суриков. Сибирский пейзаж. Торгошино (ГТГ).

В. Суриков. Рисунок к картине «Красноярский бунт» (ГТГ).
Суриков не только тонко понимал родную сибирскую тайгу, но и чрезвычайно чутко воспринимал Крафту южной природы. В нем был развит дар чувствовать и поэтично передавать географическое своеобразие той природы, которая послужила ему натурой для живописи или акварельных этюдов. Неаполитанский залив, дымящийся Везувий, собор св. Петра, руины римского Колизея – все, что его привлекло и заинтересовало во время путешествия за границу, он сумел изобразить точно и поэтично, глубоко почувствовав особенность незнакомого ландшафта, красоту итальянской архитектуры.
* * *
В сибирских пейзажах Сурикова ярко выступает характерная для этого художника черта – любовь к родному краю, глубокая привязанность к сибирским рекам, лесам, к улицам Красноярска.
Письма художника к родным в Красноярск свидетельствуют о том, что Сибирь постоянно жила в его думах, мечтах.
«Сегодня утром стою и смотрю на ту сторону, где наша Сибирь и Красноярск. Так бы и полетел к вам…» – с грустью пишет он домой в 1879 году, привязанный к Москве работой над первой своей большой картиной.
Вот и другое письмо. Оно написано тридцатилетним художников, но как трогательно и даже наивно звучит оно:
«Милая мама! когда будет ягодная пора, то приготовьте мне лепешечек из ягод: они на листьях каких-то готовятся. Я ел их еще в Бузиме, у старухи какой-то. Из красной, черной смородины, особенно черники и черемухи».
…Время идет. Все дальше отодвигаются годы детства и юности, проведенные в Красноярске. В двери его квартиры стучатся знаменитые художники, литераторы, о его картинах пишут газеты и журналы, он видел много разных людей, побывал и за границей, но привычки, вкусы, поведение остались прежними, неизменными.
В разъездах, так же как и дома, он неизменно и постоянно бережлив, потому что сбереженные деньги – это возможность еще куда-то съездить, еще где-то побывать, освежить впечатления, посмотреть натуру.
По-прежнему он не любит тщеславной суеты, газетной шумихи, по-прежнему сторонится знаменитостей, по-прежнему любит бродить по улицам, всматриваясь в лица и фигуры прохожих.
И по-прежнему пишет родным в Красноярск: «Чаек-то и ягоденки получил. Спасибо вам, дорогие мои…»
Когда вы читаете непосредственные и яркие письма Сурикова, вас невольно тревожит странное чувство: кажется, что вы не читаете, а слушаете живую и сочную народную речь Василия Ивановича, – настолько точно передают эти письма разговорную интонацию художника, его индивидуальность.
ХV. ПОСЛЕДНИЕ ЗАМЫСЛЫ
Семь больших картин, составляющих наследие Сурикова, являются вехами не только в развитии его творчества, но и в личной жизни. У Сурикова не было жизни вне труда и творчества, а направление его труду всегда давал замысел большой картины, которая становилась, на тот или иной период времени, в центре всех его мыслей, чувств и переживаний. Даже те области искусства, в которых Суриков, казалось бы, был далек от исторической темы, – пейзаж и портрет – в действительности подчинялись его основным, ведущим замыслам и служили им. В итальянских пейзажах подняты проблемы колорита, нужные для художественного решения «Боярыни Морозовой»; творческий синтез пейзажей Сибири лег в основу образа природы в «Покорении Сибири Ермаком». Работая над портретами своих современников, Суриков изучал и формировал тот материал, из которого создавались исторические образы, населяющие его картины.
История последних лет жизни Сурикова представляет собою вереницу сменивших друг друга замыслов.
Последняя завершенная им картина – «Степан Разин» – появилась на передвижной выставке 1906 года, и работа над ней продолжалась еще в течение четырех лет. Но в те же годы в сознании Сурикова созревал еще один замысел, по своей общественной проблематике тесно связанный с «Разиным».
В майской книжке «Журнала Министерства народного просвещения» за 1901 год Суриков прочел статью историка Н. Н. Оглоблина «Красноярский бунт 1695–1698 годов (очерк из истории народных движений в Сибири)».
В статье, изобилующей бытовыми подробностями и цитатами из подлинных документов, рассказана история долгой и упорной борьбы красноярских казаков с притеснителями, царскими воеводами А. и М. Башковскими и С. Дурново. С последним связаны наиболее драматические моменты в истории восстания. Изгнанный из Красноярска, он вновь туда вернулся, надеясь усмирить бунт. Но в тот же день повстанцы вытащили ненавистного воеводу из приказной избы и повели к Енисею, чтобы «посадить в воду», то есть утопить. В пути, однакоже, решение изменили: воеводу лишь втолкнули в лодку, и он отплыл из Красноярска, сопровождаемый гневными криками народа, который бросал камнями.
Суриков писал брату:
«В «Журнале Министерства народного просвещения»… статья Оглоблина о красноярском бунте… Тут многие есть фамилии наших казаков и в том числе имена наших предков с тобой, казаков Ильи и Петра Суриковых, принимавших участие в бунте против воевод-взяточников. «В доме Петра и Ильи Суриковых были сборища заговорщиковпротив воеводы ночные». Здесь бывали Злобины, Потылицыны, Кожуховские, Торгошины, Нанчиковы, Путимцевы, Потехины, Ошаровы, Юшковы, Мезенины и все, все, потомков которых мы знаем. Видно, у нас был большой дом, уж не дом ли Матвея-дедушки? Суриков (Петр) был «в кругу», где решили избить воеводу и утопить его в Енисее… Чрезвычайно интересно, что мы знаем с тобой предков теперь своих, уже казаков, в 1690 году, а отцы их, конечно, пришли с Ермаком».
Статью Оглоблина Суриков рекомендовал В. В. Стасову и позднее В. А. Никольскому. Особенно заинтересовался ею Стасов, ответивший Сурикову большим письмом:
«Ваши предки, Илья и Петр,сильно заинтересовали – видно, славные и лихие люди были… Начали они в худомлагере, а продолжали потом в чудном!И история их не забудет, вы же, конечно, можете гордиться такими великолепными предками. Само собою разумеется, у меня сильно, с первой же минуты, разыгрался аппетит, и я, читая журнал, не переставал думать: «Ах, если б Суриков вздумал сделать картину из одного которого-то момента этих сибирских событий, да еще со своими Ильей и Петром!!» Да, думать-то я думал, но в конце концов все-таки приходил к заключению, что это чисто невозможно по нынешним временам. Разве только когда-нибудь в будущем, а когда – и сообразить мудрено. А жаль! Как еще жаль!!»
Несмотря, однакоже, на предупреждение Стасова, Суриков долго и с увлечением думал о красноярском бунте как о теме картины. Он мог бы показать здесь любимую им природу Сибири, ввести в действие хорошо знакомые, до конца изученные лица своих земляков и, главное, снова обратиться к изображению большой народной, массовой сцены. по-видимому, он думал остановиться на том моменте, когда воеводу Дурново уже бросили в лодку и он плывет по широкому Енисею, а с берега летят в него камни разгневанных казаков. В замечательном композиционном наброске, хранящемся в Государственной Третьяковской галерее, с большой выразительностью передано бурное движение гневной толпы и в распределении основных масс угаданы широкие, мерные ритмы сибирского пейзажа, с далекими холмами и городком на высоком берегу реки. Так же как в «Боярыне Морозовой», «Взятии снежного городка» и «Переходе Суворова через Альпы», мотив движения должен был, по-видимому, играть основную роль в композиции. Воеводская лодка, сильным толчком отброшенная от берега, быстро выносится на середину Енисея. За ней тянется пенистый след, а вокруг взлетают брызги от бросаемых в воду камней.
Но работа над «Разиным» оттеснила замысел «Красноярского бунта». Тема революции, занимавшая Сурикова, с большей широтой могла быть воплощена в образе народного героя, чем в эпизоде из истории местного восстания сибирских казаков.
К тому же кругу революционных тем относится замысел «Пугачева».
Образ вождя крестьянской войны издавна интересовал Сурикова. В воображении художника уже сложился внешний облик героя. «Я Пугачева знал. У одного казацкого офицера такое лицо», – рассказывал он Волошину.
В 1911 году в Ростове-Великом, собирая материал для картины «Посещение царевной женского монастыря», Суриков случайно встретил какого-то человека, снова напомнившего ему Пугачева. Там же, повидимому, был сделан карандашный набросок будущей композиции: Пугачев, закованный в кандалы и запертый в железную клетку. В суриковском рисунке найдено психологическое решение образа, близкое к «Разину»: герой побежден и одинок, и задачей художника становится раскрытие его внутренней душевной жизни. Пристальный, тяжелый и хмурый взгляд Пугачева, полный вместе с тем глубокой уверенности и сознания своей правоты, дает ключ к пониманию замысла Сурикова. Но работа над этой картиной не продолжалась.
В этом же цикле, связанном с революционной тематикой, стоит и несколько более ранний замысел картины «Смерть Павла Первого».
Эскизы к этой картине были уничтожены самим Суриковым. Как передает В. С. Кеменов со слов художника П. П. Кончаловского, «в задуманной картине Павел должен был стоять за ширмой в одной рубахе и ждать, когда в комнату войдут гвардейские офицеры. На лице его такое выражение, по которому видно, что он знает, зачем они идут, и в страхе ожидает своего конца. А входящими должны были быть изображены рослые, красивые русские гвардейцы, решившие покончить с беспрерывными оскорблениями национального достоинства онемеченным императором. Такова, в двух словах, тема этого эскиза. Думается, что он, с одной стороны, как бы продолжает замысел «Меньшикова», а с другой – находится во внутренней связи с темой «Суворова», которой так много сил отдал Суриков».
В стороне от большой исторической проблематики стоят две работы Сурикова, относящиеся к последним годам его жизни: эскиз «Посещение царевной женского монастыря» (1912 г.) и картина «Благовещение» (1915 г.). Обе эти работы были для Сурикова «проходящими», почти случайными.
Наконец, уже в 1914–1915 годах, Суриков начал работать над картиной «Княгиня Ольга встречает тело Игоря».
Тема этой картины, воскрешающей седую славянскую древность, возникла в Сибири под впечатлением поездки в Минусинский край в 1909 году. Здесь, на озере Шира, наблюдая татарский быт, Суриков со свойственным ему историческим прозрением «воочию увидел» сцены из жизни наших далеких предков.
Эта последняя суриковская картина трудно давалась художнику. Одиннадцать раз он перерабатывал ее композицию.
* * *
В 1907 году Суриков вышел из Товарищества передвижных художественных выставок. С этого времени его работы появлялись на выставках Союза русских художников.
В годы столыпинской реакции Товарищество в значительной степени утратило свой прежний боевой характер, перестало быть передовым, прогрессивным художественным объединением. В среду передвижников проникли эпигоны: Сурикову было с ними не по пути.
Академия художеств, а также Московское училище живописи, ваяния и зодчества неоднократно и настойчиво предлагали ему профессуру. Но Суриков более всего дорожил свободой и не хотел связывать себя педагогической деятельностью.
Ярким эпизодом последних лет жизни Сурикова было путешествие в Испанию, которое он совершил вместе с мужем своей старшей дочери, молодым художником П. П. Кончаловским.
Ранней весной 1910 года оба художника отправились в путь. Первой остановкой была Барселона. Здесь Суриков впервые увидел излюбленное народное зрелище испанцев – бой быков – и увлекся им не менее молодого зятя. Когда матадор покончил с быком, седой Суриков вместе с заправскими любителями боя бросился на арену и восторженно поздравлял победителя.
Эта способность страстно увлекаться крайне характерна для Сурикова. Годы его не изменили. Попрежнему, как и в юности, он с острым вниманием вглядывался в новую, незнакомую жизнь. Он хотел участвовать в ней, не оставаясь лишь сторонним свидетелем.
Из Барселоны отправились в Мадрид. По пути, не выдержав скуки международного вагона и общества испанских богачей, художники решили перейти к «пуэбло» – простому народу – в четвертый класс, чтобы увидеть то, зачем ехали, – живую Испанию. Сурикову непременно хотелось заговорить с попутчиками. Не зная испанского языка, он обменивался со своим соседом, пожилым испанским священником, обрывками латинских фраз, которые помнил со школьных лет.
В Мадриде, а позднее в Толедо и Севилье Суриков не только с увлечением изучал испанскую живопись, но и принялся сам за работу.
Русские художники рисовали и писали пейзажи Испании и характерные сценки испанской жизни. Чтобы быть ближе к натуре, пробовали даже ставить мольберты прямо на улице, но их мгновенно окружали толпы уличных мальчишек, от которых приходилось откупаться креветками. Спокойно работать удавалось лишь за оградой соборов, куда не проникали малолетние «любители искусства», боявшиеся сторожей куда больше, чем «пинторов» – художников.
В многочисленных рисунках и акварелях запечатлел Суриков свои впечатления от природы, людей и нравов Испании.
Среди работ этого цикла есть подлинные шедевры, стоящие на уровне высших достижений Сурикова.
Сурикову было под семьдесят и жизнь приближалась к концу, уже не хватало времени для полноценного завершения замыслов, теснившихся в его сознании.
Последние годы художника прошли в трудной и тревожной обстановке политической реакции и засилия формалистских течений в искусстве.
Остро и болезненно переживал Суриков начало мировой войны. В. А. Никольский, работавший в газете «Русское слово», рассказывает, что ему приходилось избегать встреч с художником, чтобы уклониться от расспросов о цифрах русских потерь на фронте, о печальных и тревожных телеграммах, приходивших с театра военных действий.
Могучее здоровье Сурикова стало сдавать. Он все чаще болел. Путешествия, которые он прежде предпринимал только в интересах работы, теперь приходилось совершать ради лечения.
6 марта 1916 года в номере московской гостиницы «Дрезден» Суриков умер от склероза сердца.