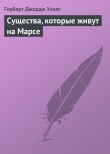Текст книги "Герберт Уэллс"
Автор книги: Геннадий Прашкевич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
От Морли до Хаксли
1
Наконец Берти выздоровел.
Пришла пора продолжить учебу.
В 1874 году «за три месяца до того, как мне исполнилось восемь, – вспоминал Уэллс, – я отправился в школу мистера Морли на Главной улице (все того же Бромли. – Г. П.). Я был тогда бледным ребенком в холщовом переднике с зеленой суконной сумкой для книг, и между мною и большим миром стоял холодный протестантский Юг; он отгораживал меня от снежных гор Арктики, негров и дикарей с островов, от тропических лесов, прерий, пустынь и глубоких морей, городов и армий, горилл, людоедов, слонов, носорогов и китов, о которых я мог говорить и говорить». К тому же в душе мальчика уже навсегда поселились безымянные богини, о которых он никому не мог признаться и не признавался, тем более сверстникам из маленькой платной школы.
Программа мистера Морли не отличалась разнообразием. В Коммерческой академии (так он называл свою школу) он обещал обучить своих учеников письму «простым почерком, а также с украшениями, математической логике и истории, в первую очередь истории Древнего Египта». Лысый красноносый очкарик был твердо убежден, что сам он и его ученики обязаны носить цилиндры, сюртуки, белые галстуки, и как можно чаще употреблять слово «сэр». Как ни странно, несмотря на всю свою ограниченность, он более или менее благополучно довел своих учеников до экзаменов, которые принимала специальная ассоциация частных учеников, так называемый Колледж наставников, имевший право выдавать бухгалтерские дипломы. А Берти Уэллс даже разделил с одним из своих товарищей лучшее место по знанию бухгалтерии. «Во всяком случае, – осторожно добавляет Уэллс, – в той части Англии, на которую распространялась власть Колледжа наставников».
Что еще получил Уэллс в школе Морли, закончив ее в 1880 году?
Ну, освоил правильный английский, хотя на всю жизнь сохранил акцент «кокни». Математику, то есть не только арифметические действия, но и евклидову геометрию, тригонометрию и даже кое-что о дифференциальном исчислении. Азы французского, пойдя чуть дальше спряжения глаголов и длинного списка исключений, совершенно бесполезных в практике. А еще – обостренное классовое чувство, постоянно раздражаемое теснотой помещений и потасовками учеников. «Я никогда не верил в превосходство низших, – признавался Уэллс. – Моей любви к пролетариату не хватает энтузиазма, и, думаю, это чувство восходит к нашим дракам на Мартин-Хилл (Школа Морли. – Г. П.). Я никогда не скрывал своего инстинктивного неприятия материнского почитания королевской семьи и всех вышестоящих, а все потому, что изначально во мне была заложена немалая нетерпимость: пылкая моя душа требовала равенства, но равенства социального статуса и возможностей, а не одинакового уважения ко всем или одинаковой платы; у меня не было ни малейшего желания отказаться от представления о своем физическом превосходстве и сравняться с людьми, добровольно признавшими свое униженное положение. Я считал, что быть первым в классе лучше, чем быть последним, и что мальчик, выдержавший экзамен, лучше тех, кто провалился. Я не намерен пускаться в спор о том, насколько приемлем или похвален такой взгляд, но долг биографа повелевает мне рассказать о действительном положении дел. В том, что касалось широких народных масс, я целиком разделял взгляды матери; я принадлежал к среднему классу, или к «мелкой буржуазии», если использовать марксистскую терминологию».
2
А в 1880 году ногу сломал отец Берти – Джозеф Уэллс.
«Материальные обстоятельства стали хуже некуда. Мы жили в скудости, и нам, чем дальше, тем больше не хватало еды. Хлеб с сыром на ужин, хлеб с маслом и полселедки на завтрак и тенденция заменять обеденный кусок мяса дешевой картошкой под соусом или картошкой, слегка приправленной тушенкой, возобладали в наших трапезах. Счет мистера Морли оставался неоплаченным в течение года. Мой брат Фрэнк, который зарабатывал 26 фунтов в год и жил у хозяина, приехав домой на праздники, дал матери полсоверена мне на ботинки, и она над этими деньгами плакала».
Характер человека формируется разными причинами.
Писатель Герберт Уэллс, став знаменитым и состоятельным человеком, до преклонных лет не утратил прекрасной способности помогать другим людям – и близким, и незнакомым, может, как раз потому, что провел юность в бедности. Он никогда никому не жалел денег. Возможно, полсоверена, которые дал Фрэнк матери на его ботинки, остались в подсознании будущего писателя, как некий скрытый призыв к действию…
3
Пришлось Саре Нил оставить лавку и вернуться в Ап-парк.
Мисс Фетерстоноу, хозяйка Ап-парка, относилась к Саре по-дружески, но прокормить семью место домоправительницы не могло, и в 1880 году Берти пришлось отправляться в магазин тканей «Роджерс и Денайер» в Виндзоре. Он страшно этого не хотел. Каким бы ограниченным ни казался мистер Морли, он все же открывал своим ученикам, по крайней мере тем кто пытался его услышать, некое откровение: мир огромен и интересен! Конечно, мир – это, прежде всего, Англия, но и остальной мир – огромен и интересен.
«Меня высадили из тележки дяди Пенникота у бокового входа магазина Роджерса и Денайера, – вспоминал Уэллс. – При мне был чемоданчик со всем моим имуществом. Место это я возненавидел с самого начала, но, будучи еще ребенком, я был не в состоянии по-настоящему воспротивиться своему заключению в тюрьму. Я поднялся по узкой лесенке в мужскую спальню, где стояли не то восемь, не то десять кроватей и четыре жалких умывальника. Мне показали мрачную маленькую гостиную, в которой ученики и продавцы могли проводить вечера; окно с матовым стеклом упиралось в глухую стену. Затем меня провели вниз, в подвальную столовую, освещенную двумя ничем не прикрытыми газовыми горелкам; еду подавали на два больших стола, застеленных клеёнками. Затем мне показали саму лавку, и главное, кассу, где в течение первого года моего ученичества мне предстояло сидеть на высоком табурете, получать деньги, сдавать сдачу, заносить приход в бухгалтерскую книгу и штамповать чеки».
Все в лавке Роджерса и Денайера было в тягость Уэллсу. Он не любил делать уборку, ссорился со сверстниками, работавшими там же, в магазине, выводил неверные цифры в книге учета. Правда, упрекнуть Берти в воровстве никто ни мог: по нему сразу было видно, что к воровству он не способен. И если бы…
Это «если бы» явилось к юному Берти в лице его отдаленного родственника – дяди Уильямса, который открыл небольшую казенную школу в Соммерсете. В таких школах всегда не хватало преподавателей, а юный Берти все же закончил Коммерческую академию мистера Морли. Кроме того, они понравились друг другу; в глазах Берти мистер Уильямс выглядел человеком необычным и уж в любом случае не похожим на лавочника. Это он придумал школьную парту с вырезом для чернильницы, а сами чернильницы снабдил завинчивающимися крышками. Утверждался мистер Уильямс и «с помощью уклончиво составленных бумаг», но какое значение имела эта уклончивость, если дядя Уильямс вырвал Уэллса из ненавистного ему мира. Правда, и учительство давалось нелегко, но сравнить это занятие с бесконечными и унылыми бдениями в мануфактурной лавке мог только идиот. Некоторые ученики школы, кстати, физически были покрепче юного Берти, не так просто было заставить их держать себя правильно, случалось и подраться. «Я требовал, чтобы от назначенного мною наказания не увиливали, и как-то раз преследовал нарушителя дисциплины до самого дома, но был встречен его возмущенной мамашей, которая с позором погнала меня обратно в школу, а за нами бежали ученики всех возрастов». К этим воспоминаниям Уэллс скромно добавил: «Дядя Уильямс в тот раз сказал, что мне не хватает такта».
Чудные времена… Прекрасные времена…
Времена необыкновенных и значительных открытий…
Дядя Уильямс подробно и со знанием дела рассказывал молодому учителю о Вест-Индии, о чужих далеких краях. Свою роль сыграла и кузина дяди Уильямса. Она была старше года на три-четыре, а значит, опытнее и свободнее, и на воскресных прогулках по окрестным зеленым холмам впервые приобщила любопытного Берти к сексу. Правда, писал Уэллс, «я воспринял эти начальные уроки с долей отвращения. Мой ум был настроен на иной лад. Реальность, какой она была преподнесена мне, выглядела какой-то позорной, неловкой, потной». Впрочем, гибкий ум Уэллса достаточно быстро настроился на нужный лад, и дальше он уже никогда не упускал возможности проверить, все ли в этом мире обстоит так, как ему хочется. И если в какой-то момент рядом с ним не оказывалось женщины, близкой ему, он вполне довольствовался девушками свободных профессий, хотя не раз замечал, что он «не находит в них много воображения».
Зато своего воображения ему хватало. Например, в 1906 году, сразу после важного и интересного разговора с президентом США Рузвельтом в Вашингтоне, возбужденный этой встречей и желая разрядки, он взял такси и сразу попросил отвезти его в «веселый дом». – «В негритянский?» – «Ну да. Почему не испробовать и это?»
История настолько характерная для Уэллса, что есть смысл привести ее всю. Оправданием этой цитаты может послужить то, что историю рассказывает сам Уэллс, а его книга «Опыт автобиографии» на русском языке издана пока ничтожным тиражом и в академическом издании.
«Мы разговорились, – вспоминал Уэллс, – и еще больше понравились друг другу. В ней (в проститутке. – Г. П.) смешалась кровь белых, индейцев и негров, она была темноволосая, с кожей цвета гладкого морского песка и, по-моему, куда умнее большинства женщин, которых встречаешь на званых обедах. Она любила читать и показала мне несколько стихотворных своих опытов; она изучала итальянский – хотела побывать в Европе, посмотреть Европу и вернуться «белой», якобы итальянкой. Явно расположенные друг к другу, мы вскоре занялись любовью и не вспоминали о характере наших отношений, пока я не собрался уходить. «Надеюсь, мы еще увидимся, – сказала она. – Ты мне нравишься». Но я ничего не мог обещать – назавтра мне предстояло уехать из Вашингтона. Когда дело дошло до прощального подарка, я дал ей чек на сумму большую, чем принято. Она взглянула на счет и спросила невесело: «Ты не ошибся?» – «Нет». – «Тогда все ясно, – сказала она. – Значит, я больше не увижу тебя. Понимаю, милый. Я, правда, понимаю». В три часа дня мы еще не знали о существовании друг друга, а в половине шестого расставались как любовники. Никакая, даже случайная сексуальная встреча не оставляет двух людей безразличными. Они или ненавидят, или любят. Ни я, ни она – мы не знали имени друг друга, а она вообще обо мне ничего не знала, разве только то, что я англичанин, и однако мне стоило труда удержаться от безрассудного предложения отправиться в поездку по Европе вместе или хотя бы прихватить ее в Нью-Йорк. В нас возобладал здравый смысл, но долгие годы я временами думал о ней с нежностью, и, возможно, временами она с такой же симпатией вспоминала меня…»
В этом весь Уэллс.
4
Каждый писатель хотел бы нравиться тем людям, которые окружали его в детстве, хотя бы задним числом доказать им свою «полноценность». Для Уэллса его детством, его «Гренландией», всю жизнь оставались – провинциальный Бромли, любимый Ап-парк, нелюбимая мануфактурная лавка Роджерса и Денайера, короткое счастливое учительство в школе дяди Уильяма, наконец, аптечный магазин мистера Сэмюела Кауэпа из Мидхерста (Сассекс), куда его устроила мать. Меньше месяца Берти провел среди склянок и пузырьков с патентованными лекарствами, но эти несколько недель дали ему основу для его, может, лучшего реалистического романа «Тоно-Бэнге». Наверное, он мог и дольше задержаться в аптечном магазине мистера Кауэпа, но подсчеты – во что может встать полное обучение – заставили Сару Нил поколебаться в решении сделать сына аптекарем. А он ведь уже успел освоить латынь, открыв для себя незнакомые прежде навыки организации языка. К сожалению, мистер Кауэп тоже быстро понял, что заработать на талантливом, но бедном ученике вряд ли удастся; в итоге Берти отдали в Мидхерстскую грамматическую школу, где он провел еще два месяца своей бурной юной жизни, и уже отсюда, после упорных поисков прибыльного места, попал все-таки в мануфактурный магазин (проклятие его юности), принадлежащий мистеру Хайду – на Кингс-роуд в Саутси. «Удивительно, насколько чужим и непонятным было для меня все, чем я там занимался. Сначала меня определили в отдел хлопчатобумажных тканей, где я обнаружил огромное количество рулонов с непонятными названиями – «бортовка», «турецкая саржа» и тому подобное, обилие серых и черных подкладок, разнообразнейшие отрезы фланели, столового полотна, салфеточного, скатертного, клеенку, холст и коленкор, дерюгу, тик и прочее, прочее. Откуда все это взялось, какая от всего этого польза, я понятия не имел, знал только, что все это появилось на свет, чтобы отяготить мою жизнь. В хлопчатобумажном отделе были еще платяные ткани – набивные ситцы, сатин, крашеный лен, а также обивочные – это было понятнее, но отталкивало ничуть не меньше. Я должен был содержать в порядке весь товар, разворачивать отрез и снова складывать после показа, отмерять куски и скатывать остатки, и все это складыванье, скатыванье и заворачиванье требовало внимания, терпения и умения, а мне эти усилия были как нож острый. Трудно даже вообразить, какое коварство может проявлять кусок сатина, который все норовит свернуться вкривь и вкось, как трудно скатать суровое полотно, как непослушны толстые одеяла и как нелегко взобраться по узенькой приставной лесенке на верхнюю полку с неподъемными кусками кретона и уложить их так, чтобы меньший кусок обязательно лег на больший. В моем отделе были еще и тюлевые занавески. Их надо было разворачивать и держать, пока старший приказчик беседовал с покупателем. А по мере того, как груда занавесок росла, а покупатель желал посмотреть еще что-нибудь, безразличие, написанное на лице младшего продавца, все меньше могло скрыть бурю его внутреннего негодования и протеста, только разгоравшихся при мысли, что скоро магазин закрывается, а ему еще надо все это сложить и убрать». Так что нет смысла говорить о какой-либо привлекательности службы в мануфактурном магазине. Сама мысль о том, что за прилавком он может провести лучшие годы своей жизни, доводила Уэллса до отчаяния.
И однажды он встал пораньше и пешком добрался до Ап-парка.
И там категорически объявил матери, что в магазин он больше никогда не пойдет.
5
Часть 1883-го и часть 1884 года Уэллс провел в начальной школе Хореса Байета в Мидхерсте. Здесь он немного отошел от ужасных дней, проведенных в Саутси. «Думаю, в Мидхерсте тоже иногда шел дождь, но мне запомнились только солнечные дни».
Место младшего учителя Уэллса тоже устраивало. Теперь он не просто учил, он еще и учился. Позже, в 1900 году, в романе «Любовь и мистер Льюишем»(«Love and Mr. Lewisham») он с величайшей тщательностью вспомнил обстановку, которая его окружала в Мидхерсте. А мистера Льюишема он, конечно, написал с себя.
«Костюм он носил из магазина готового платья; борта и рукава черного, строгого покроя сюртука были припорошены мелом, лицо покрыто первым пушком, а на губе определенно намечались усы. Приятный на вид юноша, восемнадцати лет, светловолосый, в очках на крупном носу, хотя очки ему были совершенно не нужны, он носил их ради поддержания дисциплины, чтобы казаться старше. В тот самый момент, когда начинается наше повествование, он находился у себя в комнате. То было чердачное помещение со слуховыми окошками в свинцовых рамах, покатым потолком и вспученными стенами, оклеенными, как свидетельствовали многочисленные надрывы, не одним слоем цветастых старомодных обоев. Судя по убранству комнаты, мистера Льюишема больше занимали мысли о Величии, чем о Любви. Над изголовьем кровати, например, где добрые люди вешают изречения из Библии, находились начертанные четким, крупным, по-юношески вычурным почерком следующие истины: «Знание – сила», «Что сделал один, то способен сделать другой» (под словом «другой» подразумевался, разумеется, сам мистер Аьюишем). А над выкрашенным желтой краской ящиком – на нем из-за отсутствия полок размещалась личная библиотека мистера Льюишема – висела «Programma». В ней год 1892-й был указан как срок, когда мистеру Льюишему предстояло сдать при Лондонском университете экзамены на степень бакалавра «с отличием по всем предметам», а год 1895-й отмечен «золотой медалью». Дальше, своим чередом, должны были последовать «брошюры либерального направления» и тому подобные вещи. «Тот, кто желает управлять другими, должен прежде всего научиться управлять собой» – красовалось над умывальником, а возле двери, рядом с выходной парой брюк, висел портрет Карлейля. И это были не пустые угрозы окружающему миру: действия уже начались. Растолкав Шекспира, эмерсоновские «Опыты» и «Жизнь Конфуция» в дешевом издании, стояли потрепанные и помятые учебники, несколько превосходных пособий «Всеобщей ассоциации заочного образования», тетради, чернила (красные и черные) в грошовых бутылочках и резиновая печатка с вырезанным на ней именем мистера Льюишема. Полученные от Южно-Кенсингтонского колледжа голубоватозеленые свидетельства о прохождении курса начертательной геометрии, астрономии, физиологии, физиографии и неорганической химии украшали третью стену. К портрету Карлейля был приколот список французских неправильных глаголов, а над умывальником, к которому угрожающе близко скосом подступала крыша, канцелярская кнопка удерживала расписание дня. Мистеру Льюишему надлежало вставать в пять утра, – свидетелем тому, что это не пустое хвастовство, был американский будильник, стоявший на ящике возле книг. «До восьми – французский» – кратко извещало расписание.
На завтрак полагалось двадцать минут; затем двадцать пять минут – не больше и не меньше – посвящались литературе, то есть заучиванию отрывков (в основном риторического характера) из пьес Вильяма Шекспира, после чего следовало отправляться в школу и приступать к выполнению своих непосредственных обязанностей. На перерыв и на час обеда расписание назначало сочинение из латыни (на время еды, однако, предписывалась опять литература), а в остальные часы суток занятия менялись в зависимости от дня недели. Ни одной минуты дьяволу с его «искушениями»! Только семидесятилетний старец имеет право и время на праздность!»
В свое время эта «Programma»(а я прочел роман еще в школе) произвела на меня ошеломляющее впечатление. Я немедленно сочинил свою собственную, правда, назвав ее проще – «Схема» (уж не помню, из каких побуждений). Эта «Схема» тоже подробно расписывала все мои предполагаемые будущие деяния, правда, не включала в себя «брошюрок либерального содержания». Пожалуй, благодаря Уэллсу я еще в школе научился соизмерять реальное время со всеми своими осознанными и неосознанными действиями. Не хочу ставить себе в заслугу написанные тогда фантастические романы «Contra mundum», «Снежное утро», «Ошибка мистера Боаза», «Под игом Атлантиды» или «Гость Ахаггара» (они указывали лишь на некоторые мои склонности, не больше), но впоследствии, подсознательно руководствуясь все той же «Схемой», я сумел вырвать из них некую важную сердцевину для таких своих книг, как «Разворованное чудо» и «Белый мамонт»…
6
Сара Нил настаивала на том, чтобы Берти прошел конфирмацию и стал членом англиканской церкви, но научные книжки, к тому времени прочитанные им, сделали ее сына безбожником. Викарию местного прихода он заявил, что верит только в эволюцию и что ему непонятен сам факт грехопадения первых людей. И хотя в будущем Уэллс написал несколько романов, обычно относимых к разряду «богоискательских», интерес к религии никогда не был у него явно глубоким. В Мидхерсте, как и в школе дяди Уильямса, он нисколько не стеснялся раздавать затрещины ученикам. Это явно шло им на пользу, больше, чем любые увещевания, да и сам Уэллс, освоив основы физики и биологии, сдал в мае обязательные учительские экзамены с таким блеском, что получил возможность отправиться студентом-естественником в Лондон.
Подводя итог пребыванию в Мидхерстской школе, Уэллс особо отметил несколько важных для него открытий. Например, «Республику» Платона и брошюру Генри Джорджа «Прогресс и бедность». Никто не знает, как в нашем мозгу преображаются чужие идеи, как они выводят нас на свой собственный путь, но именно эти работы Уэллс всегда считал для себя основополагающими. Он был уверен, что Платон и Джордж вывели его на серьезную социологию и на то, что позже он назвал футурологией. Со своим приятелем Харрисом, тоже молодым учителем, Берти регулярно прогуливался вечерами по зеленым тропинкам Мидхерста. Особой удачей считал он и то, что ему вовремя попала в руки «Утопия» Томаса Мора, а вот имени Карла Маркса до появления в Лондоне он даже не слышал. «Я рос как на дрожжах, одежда вечно была мне коротковата, но, хотя вид у нас с Харрисом был не слишком презентабельный, положение спасали университетские шапочки с кисточкой, наподобие тех, что носили студенты Оксфорда или Кембриджа. Они придавали нам, учителям грамматической школы, вид настоящих ученых».
Тогда же сформировалось его окончательное отношение к сексу.
Все женщины и все мужчины нуждаются в нормальных сексуальных отношениях – вот факт, так зачем же скрывать его? И какой смысл гнать всех жаждущих сразу к семейному очагу? Любовь в клетке брака выцветает стремительно. Значит, и в этом вопросе нужна свобода!
7
Биологическую лабораторию Нормальной научной школы Уэллс запомнил навсегда. Время, проведенное у профессора Хаксли (с 1884 по 1885), дало ему больше, чем любой другой период его жизни. «За окнами лаборатории, – вспоминал он в рассказе «Препарат под микроскопом», – висела влажная белесая пелена тумана, а внутри было жарко натоплено, и расставленные по концам длинных узких столов газовые лампы с зелеными абажурами заливали комнату желтым светом. На столах красовались стеклянные банки с останками искромсанных раков, моллюсков, лягушек и морских свинок, на которых практиковались студенты; вдоль стены против окон тянулись полки с обесцвеченными заспиртованными препаратами; над ними висел ряд превосходно исполненных анатомических рисунков в светлых деревянных рамах, а под ними кубиками выстроились в ряд шкафчики. Все двери лаборатории были выкрашены в черный цвет и служили классными досками; на них виднелись оставшиеся со вчерашнего дня полустертые чертежи и диаграммы. В лаборатории было пусто – если не считать демонстратора, который сидел за микротомом у дверей препараторской, – и тихо, если не считать негромкого ритмичного постукивания и щелканья микротома. Однако разбросанные вещи говорили о том, что здесь только что побывали студенты: повсюду валялись портфели, блестящие футляры с инструментами, на одном столе – большая таблица, прикрытая газетой, на другом – изящно переплетенный экземпляр «Вестей ниоткуда», книги, которая совершенно не вязалась с окружающей обстановкой. Все это в спешке оставили студенты, бросившиеся в соседний лекционный зал занимать места. Оттуда, из-за плотно притворенных дверей, едва доносился монотонный голос профессора…»
8
Профессора звали Томас Хаксли.
Сын школьного учителя, в двадцать один год он начал службу морским врачом на судне «Рэттльснэк». Четыре года плаваний по южным морям у берегов Австралии и Новой Гвинеи позволили ему глубоко изучить жизнь тропиков. С борта «Рэттльснэка» он отправил в Лондон несколько научных работ, а с 1854 года, оставив морскую службу, начал преподавать в Лондонском университете палеонтологию, сравнительную анатомию, геологию и естественную историю. В 1853 году Томаса Хаксли избрали членом Королевского научного общества, а в 1883 году он стал его президентом. Благодаря своему влиянию, в 1881 году Томасу Хаксли удалось объединить Горную школу и несколько других небольших учебных заведений в отдельный педагогический факультет при Лондонском университете. Сначала этот факультет назвали Нормальной школой наук, затем Королевским колледжем наук, но удержалось название Южный Кенсингтон – по местоположению. Студенты, прошедшие три отделения этого факультета – биологический, минералогический и физико-астрономический – получали университетский диплом, дающий право преподавать в школах.
Профессор Хаксли читал лекции в небольшой аудитории, примыкавшей к биологической лаборатории. Квадратное лицо, высокий лоб, зачесанная назад шевелюра. Еще в 60-х Томаса Хаксли прозвали «бульдогом Дарвина» из-за его страстной защиты дарвинизма. Он не сразу принял принципы эволюционной теории, но, согласившись наконец с ними, сокрушенно покаялся: «Как глупо было с моей стороны не подумать о этом!»
По-настоящему знаменитым Хаксли стал после публичного диспута с епископом Сэмюэлем Вильберфорсом. Епископ не удержался от вопроса, не произошел ли сам профессор Хаксли от обезьяны со стороны бабушки или дедушки, на что свирепый «бульдог Дарвина» ответил, что предпочел бы произойти от обезьяны, чем высмеивать серьезные научные споры.
Для Уэллса общение с Хаксли имело огромное значение.
Если эволюцией не управляют никакие высшие силы, то отпадает нужда в каком бы то ни было божественном вмешательстве, разве не так? И отсюда второе. Если человечество развивается по законам эволюции, значит, это развитие можно предугадывать, или даже корректировать?
Задник лаборатории был затянут темной драпировкой. «Мне рассказывали, – вспоминал Уэллс, – что, когда Хаксли читал лекцию, занавеска иногда слегка раздвигалась и из-за нее появлялся сам Дарвин, чтобы послушать своего друга и союзника». К сожалению, к моменту появления Уэллса в Южном Кенсингтоне Чарльза Дарвина уже не было в живых.
Все равно Уэллс был счастлив.
Южный Кенсингтон был той средой, о которой он мечтал.
Обтрепанный до неприличия студент старался не пропустить ни слова. По истечении года он охотно продолжил бы свое биологическое образование, но на кафедре не оказалось вакансий…
9
Зато вакансия оказалась на кафедре физики.
С 1885 по 1886 год Уэллс слушал лекции профессора Гатри.
Это был скучный медлительный бородач, по свидетельству самого Уэллса. Он казался всем очень старым, хотя ему было чуть более пятидесяти лет. Таким его делала неизлечимая болезнь, в конце концов его и сгубившая. Запомнили профессора Гатри больше как основателя Физического общества. Конечно, в сравнении с кипящим энергией Томасом Хаксли профессор Гатри сильно проигрывал. «Он оставил у меня впечатление, – иронизировал Уэллс, – что я и без него знаю физику, и, пусть даже что-то меня местами занимает, предмет этот не стоит изучения». К тому же профессор Гатри с самого начала был настроен на то, что его студентам в будущем предстоит работа в школе, поэтому он упирал в основном на техническую часть, на постановку различных опытов.
По всем этим причинам Уэллс гораздо охотнее проводил время в студенческом дискуссионном обществе. Именно там он впервые услышал о четвертом измерении и даже написал и отослал в журнал «Фортнайтли ревью» статью «Жесткая Вселенная», однако статья была отвергнута. Неприязнь к лекциям профессора Гатри к этому времени перешла всякую меру. Берти Уэллс как с цепи сорвался. Он откровенно высмеивал своего учителя. Когда, например, профессор Гатри потребовал от студентов соорудить деревянные кресты с иголками на концах перекладины и со стеклянной планкой, тщательно зачерненной сажей, – прибор, предназначенный для измерения вибраций камертона, Уэллс наотрез отказался от такого задания. «Я студент-физик или заключенный под стражей? Мне нужно учиться или подчиняться нелепым приказам?» Новый Завет он вслух называл компиляцией. Научился во время лекции завывать, не открывая рта. Короче, на лекциях профессора Гатри ему было скучно…
10
Лекции геолога Джона Уэсли Джада, которые Уэллс слушал в 1886–1887 годах, оказались ничуть не интереснее лекций Гатри. Профессор Джад мямлил, по выражению Уэллса. И лицо у него было бледное, невыразительное, как произносимые им слова. Очень скоро студент пришел к выводу, что геология сама по себе – предмет дурно склеенный, скорее это даже не наука, а собрание преданий и легенд. Странно, ведь именно к началу двадцатого века мировая геология могла похвастать многими достижениями…
Но Южный Кенсингтон многое дал Уэллсу.
Именно тут кроме необходимых научных сведений он получил ясное представление о таких великих мировых творцах, как Гете, Карлейль, Шелли, Теннисон, Шекспир, Драйден, Милтон, Поуп и, само собой, Будда, Мухаммед, Конфуций, Христос, философы всех времен и народов, и осознал, почему именно эти люди определяли ход истории. Огромное значение для юного студента имело знакомство с философом и утопистом Уильямом Моррисом, донесшим до человечества знаменитые «Вести ниоткуда». Дом Уильяма Морриса располагался в фешенебельном районе Лондона, хозяин дома был очень даже не беден, это лишний раз заставило Уэллса задуматься: почему подобные «Вести ниоткуда», вести, несущие надежду всем, и, прежде всего, угнетенным, никогда не приходят из пролетарских районов? Уэллса поразили беседы, которые велись в уютном доме Морриса, поразили люди, посещавшие этого невысокого, почти квадратного здоровяка. Социалисты, коммунисты, анархисты, эмигранты из самых разных европейских стран – действительно встречи у Морриса не могли не действовать на воображение.
Одна из оранжерей большого сада была полностью предоставлена для дискуссий. Темы поднимались любые, но особо приветствовались те, что выходили за пределы общеизвестного. Уэллс скоро понял, что большая цель должна быть не просто у определенного дискуссионного общества, – большая цель должна быть у каждого отдельного человека. Ты обязан найти своё, ты обязан одарить мир именно своим открытием. Помню, как меня изумило в юности письмо одного известного советского фантаста. «В литературе, в отличие от шахмат, – писал он мне, – переход из мастеров в гроссмейстеры зависит не только от мастерства. Тут надо явиться в мир с каким-то своим личным откровением, что-то своё сообщить о человеке человечеству. Например, Тургенев открыл, что люди (из людской) – тоже люди. Толстой объявил, что мужики – соль земли, что они делают историю, решают мир и войну, а правители – пена, они только играют в управление. Что делать? Бунтовать, – объявил Чернышевский. А Достоевский открыл, что бунтовать бесполезно. Человек слишком сложен, нет для всех общего счастья. Каждому нужен свой ключик, сочувствие. Любовь отцветающей женщины открыл Бальзак, а Ремарк – мужскую дружбу, и т. д. А что скажете миру Вы?»