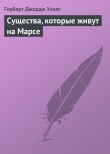Текст книги "Герберт Уэллс"
Автор книги: Геннадий Прашкевич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
История и герой
1
И в годы войны Уэллс неутомимо занят поисками сил, могучих активных сил, способных построить давнюю его мечту – единое Мировое государство. Уэллс присматривался даже к религии. То, что большинство священников – социалисты, в романе о Билби сказано было не случайно. Романы «Бог – невидимый король» («God – the invisible King») и «Душа епископа» («The Soul of a Bishop») это подтвердили. Возможно, Господь и есть та сила, что поможет человечеству. Надо просто помочь ему.
«Перед нами, – писал о «Душе епископа» писатель Евгений Замятин, – достопочтенный английский епископ, богатый, счастливый в семейной жизни, делающий великолепную карьеру. Как будто все хорошо, как будто нечего больше желать. Но у епископа заводится что-то в душе – маленькое, незаметное, как соринка в глазу. И соринка эта не дает ему покоя ни днем, ни ночью, вырастает в мучительный вопрос: да есть ли Бог, которому служит епископ? И есть ли этот Бог тот самый Христос, какой заповедал все отдать неимущим?
Епископ пробует лечиться у психиатра, у другого, наконец, попадает к молодому врачу, из излюбленных Уэллсом дерзких научных революционеров. Этот начинает лечить епископа не так, как все: он не тушит, а, наоборот, раздувает беспокойное пламя в душе епископа; он снабжает епископа чудесным эликсиром, который подымает его дух до состояния какого-то экстаза, уводит его из нашего трехмерного мира в мир высших измерений, и епископ своими глазами видит Бога и беседует с Ним…»
2
В романе «Джоанна и Питер: история обучения» («Joan and Peter: A Story of an Education»), вышедшем в 1918 году, речь уже идет об английском летчике, искалеченном в воздушном бою. Мучения его сродни мучениям усомнившегося, но все же пришедшего к Богу епископа. В горячечном бреду искалеченный летчик упрекает Всевышнего в жестокости, в нежелании ограничить мировое зло. «Но разве я злой тиран, как некоторые из вас думают? – возражает Всевышний. – Будь это так, я бы тебя первого пристукнул громом. Так что, не надо, я тут управляю на вполне демократических началах и предоставляю вам самим всё решать за себя». И в свою очередь спрашивает: «Кто это вам, скажи, пожалуйста, мешает по собственной воле уничтожать царей, королей и прочих носителей зла?»
И Питер приходит к великому пониманию: зло на Земле так же целесообразно, так же необходимо, как боль в живом организме. Зло – показатель неблагополучности. К нему следует внимательно прислушиваться. «Мы теперь должны жить как фанатики. Если большинство из нас не будут теперь жить как фанатики – наш шатающийся мир уже никогда не возродится. Он будет разваливаться, разваливаться и наконец рухнет. И тогда раса большевистских мужиков начнет разводить свиней среди руин».
Кстати, Уэллс вдруг нашел неожиданное сравнение общего, что есть между Англией и Россией: Россия – это Британия на суше, а Британия – Россия на морях.
3
Отступление
Александр Щеголев (писатель):
«Честно говоря, творчество Уэллса значит для меня куда меньше, чем для старшего поколения, для тех же Стругацких, например. Уэллс никогда не входил в число моих учителей, влияние его книг на мои работы было, скажем так, ничтожным. И я – повзрослевший – ни разу не перечитал его романы. Хотя, в сравнении со многими, мне повезло. Дома у нас было 15 – томное собрание сочинений Уэллса – агромадная редкость по советским временам. Так что, хочешь не хочешь, а прочитать классика пришлось, фантастика ведь! Фантастику я в юности хватал всю, какая попадалась, выискивал в библиотеках и у друзей, покупал на толкучке. И вдруг с изумлением открыл, что, оказывается, прямо у меня под носом, в собственной квартире, в коридоре на стеллажах, скрывается настоящий клад! (Книг в доме всегда было избыточно много, легко заблудиться.) Сочинения-то уэллсовские оформлены академически скупо, по-взрослому, рука подростка к ним не потянется. Пойми, что перед тобой фантастика! Помнится, только в старших классах школы я допёр, что некто Уэллс в невзрачном синем коленкоре – это, оказывается, тот самый автор, который написал «Войну миров».
Уэллса я тогда прочитал всего.
Точнее, его фантастические романы.
Про рассказы не помню, может, тоже зацепил по касательной, но романы – точно.
И главная ценность романов состояла для меня как раз в том, что их было много. Если кто случаем не знает, помимо топовых, всем известных («Человек-невидимка», «Машина времени», «Война миров», «Остров доктора Моро»), есть и куда менее известные: «Когда Спящий проснётся», «Пища богов», «Люди как боги», «Война в воздухе». Последний из названных запомнился особо. Читал я его и не понимал: что ж тут фантастического? В Первую мировую, думал я, и не такое бывало, наверное, и вообще – всё не так. Короче, воспринял я роман, как исторический; пока не дочитал до даты написания – 1908.
И тут я понял, что такое настоящее воображение. Воображение – это форма ясновидения. Уэллс мне, мальчишке, это наглядно показал.
Почему же Уэллс не встал в ряд моих любимых писателей?
Думаю, в том числе еще и потому, что я слишком рано его прочел.
Отчётливо помню ощущение, которое испытывал при чтении: увлекательно, но неприятно. Местами – крайне неприятно. Дочитываешь до конца и хочется стряхнуть с себя что-то, сам не понимаешь – что. Вероятно, Уэллс был мизантропом, и его презрение к людям просачивалось не только в сюжеты, но и во фразы. Нелюбовь к собственным героям буквально пропитывала тексты. Но при этом, повторяю, увлекательность не страдала. Страшное разочарование постигло меня только когда я дошёл в собрании сочинений Уэллса до его реалистической прозы. Ну представьте: подростку из советской эпохи в руки попало пятнадцать томов заграничной фантастики уровня» Человека-невидимки». Прочитано менее половины, он предвкушает новые путешествия по жутковатым мирам – долгие и увлекательные, и вдруг выясняется, что фантастика кончилась! Начитанных томов на полке – длинный ряд, а читать нечего!
Бытовые романы Уэллса я честно попытался осилить. Всё-таки от автора остросюжетных фантастических боевиков (как ещё назвать лучшие его вещи?) можно было ждать, что вот сейчас он извернётся и в который раз поразит моё воображение, вот сейчас… вот еще десяток страниц… вот еще сотню страниц… Но нет… Не поразил… Романы оказались неожиданно скучные.
Предав фантастику, Уэллс нанёс мне настоящее оскорбление.
Помню, в досаде я листал оставшиеся нечитаными тома, пытаясь найти хотя бы «клубничку» (романы-то вроде как «про любовь»), но и тут облом. Конкуренцию с Жоржем Амаду и с его «Доной Флор» Уэллс проиграл вчистую. Так был вбит ещё один гвоздь в крышку не сложившихся отношений классика с читателем (мной). Понятно, что нефантастические романы Уэллс писал не для меня, однако детская обида – прилипчивая штука, её помнишь годами.
Позже, уже в институте, я узнал о существовании «России во мгле». Мне говорили: о, это нечто! Под негласным запретом! Антисоветчина! Полный мрак! И снова я вытащил из шкафа собрание сочинений, открыл том номер пятнадцать. И… ничего не помню из той книги… разве что описание встречи Уэллса с Лениным, да и то смутно…
Начав эти воспоминания, я снимал с полки старые томики – потёртые, зачитанные. Листал их, останавливался на цветных вкладках. У страниц – совершенно особый запах. Ни одна из современных книг так не пахнет; возможно, это и есть запах детства? В голове возникают яркие картинки, рождённые когда-то прочитанным. Оказывается, я многое отлично помню. И мелькает странная мысль: а не обделил ли я себя, десятилетиями держа Уэллса вне круга своего чтения?
Вместо точки ставлю многоточие…»
4
Из работ Уэллса, написанных в годы Первой мировой войны, стоит упомянуть роман «Неугасимый огонь»(«The Undying Fire: A Contemporary Novel»). Он вышел в 1919 году. В романе два вечных существа – Бог и Дьявол, – в ослепительно белых одеяниях, ведут нескончаемую беседу о сущем. Они – явления космического порядка, они – два полюса одного и того же мира. Когда святой архангел Михаил, пораженный дерзостью Дьявола, хватается за меч, Господь останавливает архангела. Дело не в вечности двух противостоящих друг другу сил. Дело в том, что без Дьявола и его происков мир замкнется в своем хрустальном совершенстве, а это ли человеку надо?
Другие важные работы того времени – «Очерк истории» («The Outline of History») и «Краткая история мира» («The History of the World»), изданные в 1920 году и многократно переиздававшиеся. К тому времени Уэллс «художником» себя уже не считал – преобразователь мира, так точнее. Он верил в прогресс, верил, что все проблемы человечества могут быть решены с помощью науки и здравого смысла. А раз так, человека надо образовывать.
И Уэллс создает новую, более точную историю мира.
Он тщательно отбирает факты, позволяющие судить о тех или иных событиях и личностях. Всегда склонный к масштабности, он начинает прямо с формирования планеты Земля, с появления (тогда писали – происхождения) на ней жизни. Четыре секретарши и Джейн ежедневно отбирают и перерабатывают огромное количество источников. Предполагалось, что в работе над «Очерком истории» примут участие ученые Гилберт Мерей, Эрнест Баркер, Рей Ланкастер и Генри Джонстон, но все они от участия в создании новой истории мира уклонились, хотя частным образом консультировали Уэллса. Зато помогали ему востоковед Денисон Росс, историк Генри Кэнби и юрист Филипп Гедалла.
Работа удалась. Она помогла людям увидеть историческую панораму.
По Уэллсу, историю двигают не слепые массы и не отдельные светлые личности – историю движет Мысль. А борьба и сотрудничество – её главные механизмы.
Конечно, в итоге должно быть построено единое Мировое государство.
Эффект от книг был огромный. Американский журналист Флойд Делл написал Уэллсу, что благодаря его замечательной книге теория эволюции перестала быть пугалом для большинства американцев. Археолог Джеймс Генри Бретед признавался, что некоторые высказанные Уэллсом мысли повлияли на его научные взгляды. Высоко оценили книгу даже те, кто в последние годы сильно умерили свои восторги по поводу произведений Уэллса: Беатриса Уээб и Бертран Рассел. Успех «Очерка» оказался таким, что в Канаде нашлась феминистка по имени Флоренс Дикс, которая обвинила Уэллса в плагиате. Она утверждала, что Уэллс воспользовался ее рукописью, когда-то отправленной ею в издательство Макмиллана, и потребовала от автора извинений, уничтожения всего тиража книги и компенсации в сто тысяч фунтов. Несколько лет она преследовала Уэллса – и через канадские суды, и через английские, но доводы Флоренс Дикс не были признаны убедительными, к тому же свидетелями со стороны Уэллса выступили многие ученые, с которыми он сотрудничал.
Россия во мгле
1
В 1920 году Л. Б. Каменев, председатель Моссовета и член Политбюро ЦК РКП(б), побывав в Лондоне, пригласил Уэллса в СССР.
Уэллс приглашение принял. Правда, Горький огорчил его, сообщив, что гостиницы в Петрограде пустуют, электрического света нет, продуктов нет, товаров нет, а многие мужчины мобилизованы на борьбу с Юденичем; но, в конце концов, жить можно на Кронверкском – в квартире Горького. Там для Уэллса и его сына Джипа уже освободили комнату.
Горький английского не знал, вечерние беседы с гостем переводила Мария Игнатьевна Закревская – Мура, сыгравшая в будущем огромную роль в жизни Уэллса. За две недели, проведенные в СССР, Уэллс увидел многое: Эрмитаж, Смольный, Большой драматический театр; побывал в Москве и в Петрограде. Богатого гостя без особой симпатии описал Виктор Шкловский: «Уэллс рыж, сыт, спокоен, в кармане его сына звенят ключи, в чемодане отца – сардины и шоколад. Он приехал в революцию, как на чуму. Около Госиздата, против Казанского собора, у блестящей стены дома Зингера играл на кларнете старик. Город был пуст и состоял из одних промерзших до ребер домов. Дома стояли худые, как застигнутое вьюгой стадо, шедшее по железной от мерзлости степи на водопой. И звуки кларнета переходили с хребта дома на хребет. Уэллс осматривал Россию и удивлялся, что в ней так дешевы вещи. Удивлялся на дом Горького, на слонов, на Натана Альтмана (художник. – Г. П.) с плоским лицом кушита. Альтман его уверял, что он, Альтман, – марсианин. А Горькому было печально, что Уэллс не видел в России людей отдельных. Не знал, сколько стоит ложка супа. Не видел скрытой теплоты великой культуры и великого явления культуры – революции…»
2
«Все магазины закрыты».
Объяснить такое западному читателю было нелегко.
Бывшие магазины Петрограда действительно ничем не походили на лавки Бонд-стрит или Пикадилли в воскресные дни, когда шторы на витринах опущены; пустые, давно заброшенные петербургские магазины имели самый жалкий, самый запущенный вид. Краска облупилась, стекла потрескались. «Эти магазины уже никогда не откроются», – записал Уэллс.
Улицы пусты…
Трамваи ходят до шести вечера…
«Люди обносились; все они, и в Москве и в Петрограде, тащат с собой какие-то узлы. Когда идешь в сумерках по боковой улице и видишь лишь спешащих бедно одетых людей, которые тащат какую-то поклажу, – писал Уэллс – создается впечатление, что население бежит из города. Такое впечатление не совсем обманчиво. Большевистская статистика, с которой я познакомился, совершенно откровенна и честна в этом вопросе. До 1919 года в Петрограде насчитывалось 1 200 000 жителей, сейчас их немногим больше 700 000, и число их продолжает уменьшаться…»
Больницы в плачевном состоянии… Продукты выдают по карточкам в определенные часы в специальных точках города… Все, что признано произведениями истинного искусства, заносится в отдельные каталоги… Уэллс видел комнаты британского посольства, похожие на битком набитую антикварную лавку. «Там были залы, заставленные скульптурой; в жизни я не видел столько беломраморных венер и сильфид в одном месте, даже в музеях Неаполя…»
Книга «Россия во мгле», написанная Уэллсом, оказалась ко времени.
На нее ссылались все враждующие стороны, потому что своего сочувствия погибающему, как ему казалось, городу Уэллс не скрывал. Нарком по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета РСФСР Троцкий отозвался о книге пренебрежительно. Белоэмигрант писатель Александр Куприн заявил, что она написана, скорее всего, потому, что вожди Совдепии предложили знаменитому англичанину какую-то мзду. Иван Бунин, писатель, будущий нобелевский лауреат, тоже эмигрант, открыто обвинил Уэллса в поисках сенсационного материала, потому что зачем еще ехать в страну, «в которой сохранились только прекрасные спички и хризантемы»? И советский писатель Корней Чуковский обиделся. А 3 декабря 1920 года в парижской газете «Последние новости» появилось открытое письмо от некоего поклонника Уэллса. «Привыкший видеть в вас редчайшее соединение математически точного ума с гениальной силой воображения, – писал поклонник, – я горестно поражен тем, что вы сказали о моей несчастной родине. «Отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Да, вы не отказали мне в этой милости, подобно Аврааму; но капнули на язык мой, чтобы прохладить его, свинцом расплавленным. Сейчас не только мы, русские, но все обитатели планеты Земли, разделились на два стана: за и против большевиков. Вы примкнули к первому. И сколько бы вы теперь ни уверяли, что вы – не коммунист, не марксист, не большевик, вам никто не поверит…»
3
«Все мое пребывание в Москве было исковеркано глубоко раздражающей неразберихой, – жаловался сам Уэллс. – По столице меня сопровождал матрос с серебряным чайником, совершенно не знавший города, а договаривался по телефону о моих встречах американец, плохо владевший русским языком».
Только встреча с Лениным сняла эту напряженку.
«Ленин не человек пера – писал Уэллс. – Его опубликованные труды не дают правильного о нем представления. Написанные в резком тоне брошюры и памфлеты, выходящие в Москве за его подписью, полные ложных концепций о психологии рабочих Запада и упорно отстаивающие абсурдное утверждение, что в России произошла именно предсказанная Марксом социальная революция, вряд ли отражают даже частицу подлинного ленинского ума, в котором я убедился во время нашей беседы…»
Беседа Уэллса и Ленина много раз описывалась и комментировалась.
Все же есть смысл напомнить, что касалась беседа двух важнейших тем.
Одну вел Уэллс: «Как вы представляете себе будущую Россию? Какое государство стремитесь построить?»; другую Ленин: «Почему в Англии не начинается социальная революция? Почему вы ничего не делаете, чтоб ускорить ее? Когда, наконец, вы уничтожите капитализм и создадите коммунистическое государство?»
Уэллс отвечал Ленину откровенно. Он считал, что во многих вопросах коммунисты проводят свою линию слишком быстро и жестко, разрушая в итоге то, чего еще не начали строить. В Петрограде, например, большевики уничтожили торговлю гораздо раньше, чем ввели нормированную выдачу продуктов. «Я верю, – сказал Уэллс Ленину, – что в результате большой и упорной воспитательной работы теперешняя капиталистическая система может стать «цивилизованной» и превратиться во всемирную коллективистскую систему». Но Ленин только покачал головой. Его мировоззрение было неотделимо от понятий классовой борьбы, свержения капиталистического строя, диктатуры пролетариата…
4
Отступление
Лео Каганов (писатель):
«По поводу Уэллса – ничего оригинального не могу сказать.
Классик, очень уважаемый, патриарх, основоположник и все такое.
Но читал я его очень давно, в детстве, поэтому ничего сказать не смогу.
PS: Помню, недавно промелькнуло сообщение, будто президент Медведев выступил с инициативой развивать отечественный транспорт на основе грузовых дирижаблей. Вот тут я точно вспомнил Уэллса. Подумалось: не того, ох, не того Уэллс назвал «кремлевским мечтателем»!»
5
«Она была в старом плаще цвета хаки, какие носили в британской армии, – описывал позже Уэллс Муру, – ив черном поношенном платье; ее единственный, как потом оказалось, головной убор представлял собою, я думаю, не что иное, как черный скрученный чулок, и однако она была великолепна. Она засунула руки в карманы плаща и, похоже, не просто бросала вызов миру, но была готова командовать им».
Настоящее имя Муры было Мария Игнатьевна Закревская.
Она родилась в семье черниговского помещика, закончила Смольный институт, училась в Англии в женском колледже в Ньюнеме, но всю жизнь говорила с русским акцентом. По первому мужу – Мария Игнатьевна Бенкендорф, она родила ему двух детей. В 1917 году, оставив детей в эстонском имении, она отправилась в Петроград, чтобы проверить свою столичную квартиру; в Петрограде она познакомилась с Брюсом Локкартом – английским дипломатом, совмещавшим основную работу с работой на секретные службы. Мура влюбилась. И была арестована вместе с Локкартом по знаменитому делу «заговора послов». Из подвалов ЧК Муру вывел, как это ни странно, глава петроградских чекистов Петерс. С 1918 года Мура помогала Максиму Горькому, вела его переписку на разных языках и как-то так незаметно оказалась его гражданской женой. «Одинаково трудно, – писал о Муре Уэллс, – сказать что-либо определенное об ее уме и о нравственных устоях. Позже я поймал ее на мелком вранье и обнаружил в ней умение довольно долго утаивать правду. И то и другое, мне кажется, никак не было мотивировано. Она обманывает непреднамеренно. Просто такая у нее манера – небрежно обращаться с фактами. В каждом случае и для каждого человека у нее своя роль; во многих отношениях она точно подросток, одаренный богатым воображением. Кажется, она верит всему тому, что говорит, я же теперь вообще не верю ни единому ее слову. (Написано в 1934 году. – Г. П.) Она может выпить невесть сколько водки, бренди и шампанского. На днях мы обедали у Мелкетов, и лорд Моттистоун, заметив, что бокал Муры снова и снова наполняется, заявил, что не может уступить первенство женщине, и стал, как она, осушать бокал за бокалом – в конце концов он превратился в болтливого зануду с хриплым голосом, тогда как Мура своим обычным голосом как ни в чем не бывало беседовала с дамами…»
7 октября Уэллсу устроили проводы с вином, сардинами и сыром.
Возможно, эту ночь в Петрограде они впервые провели вместе – Мура и Уэллс. По крайней мере сам он не раз намекал на это.
А до того, 30 сентября, в Доме искусств состоялась встреча Уэллса с петроградскими литераторами, художниками, философами. Были Николай Гумилев, Георгий Иванов, Евгений Замятин, Юрий Анненков, Виктор Шкловский, Корней Чуковский, Александр Грин, Михаил Лозинский, Александр Амфитеатров, Питирим Сорокин, академик Сергей Ольденбург, Аким Волынский, Михаил Слонимский, возможно, Николай Тихонов. Эта встреча описана не раз. «Вы ели здесь рубленые котлеты и пирожные, правда, несколько примитивные, – вспоминал резкие слова Амфитеатрова художник Юрий Анненков, – но вы, конечно, не знали, что эти котлеты и пирожные, приготовленные специально в вашу честь, являются теперь для нас чем-то более привлекательным, более волнующим, чем наша встреча с вами!» А Виктор Шкловский буквально орал: «Скажите там, в вашей Англии, скажите там, вашим англичанам, что мы их презираем, что мы их ненавидим! Мы ненавидим вас ненавистью затравленных зверей за вашу бесчеловечную блокаду, мы ненавидим вас за нашу кровь, которой истекаем, за муки, за ужас и голод, которые нас уничтожают, за все то, что с высоты вашего благополучия вы спокойно называли сегодня курьезным историческим опытом…» Дальше Шкловский рассказал о корабле, который незадолго до этого привез в Петроград немного еды и французские духи. «Мы эти духи меняли на продукты, хорошие французские духи…»
Меня давно не оставляет мысль, что, возможно, замысел замечательной новеллы «Фанданго» пришел в голову Александра Грина именно на той встрече. Уж слишком близко сходятся тут реальность и вымыслы.
«Я боюсь голода, – признается герой новеллы. – Ненавижу и боюсь. Он – искажение человека. Это трагическое, но и пошлейшее чувство не щадит самых нежных корней нашей души. Настоящую мысль голод подменяет фальшивой. «Я остаюсь честным, потому что люблю честность, – говорит себе человек, голодающий жестоко и долго. – Я только один раз убью (украду, солгу), потому что это необходимо ради возможности в дальнейшем оставаться честным». Мнение людей, самоуважение, страдания близких существуют, но как потерянная монета: она есть и ее нет. Хитрость, лукавство, цепкость – все служит пищеварению. Дети съедят вполовину кашу, выданную в столовой, пока донесут домой; администрация столовой скрадёт, больницы – скрадёт, склада – скрадёт. Глава семейства режет в кладовой хлеб и тайно пожирает его. С ненавистью встречают знакомого, пришедшего на жалкий пир нищей, героически добытой трапезы…»
Герой новеллы, выйдя из дома, попадает в некое казенное заведение, реальное, кстати, – «Дом ученых» или КУБУ. Ходили слухи, что в КУБУ в этот день будет раздача продуктов, доставленных из Испании. К изумлению собравшихся, вместо обещанных продуктов («два вагона сахара, пять тысяч килограммов кофе и шоколада, двенадцать тысяч – маиса, пятьдесят бочек оливкового масла, двадцать – апельсинового варенья, десять – хереса и сто ящиков манильских сигар») испанцы почему-то привезли совсем другое. «Куски замечательного цветного шелка, узорную кисею, белые панамские шляпы, сукно и фланель, чулки, перчатки, кружева и много других материй. Разрезая тюк, испанцы брали кусок или образец, развертывали его и опускали к ногам. Шелестя, одна за другой лились из смуглых рук ткани, и скоро образовалась гора, как в магазине, когда приказчики выбрасывают на прилавок все новые и новые образцы. (Интересно, читал ли эту новеллу Уэллс? – Г. П.) Наконец, материи окончились. Лопнули веревки нового тюка, и я увидел морские раковины, рассыпавшиеся с сухим стуком; за ними посыпались красные и белые кораллы, и даже огромный свиток шелка, вышитого карминными перьями фламинго и перьями белой цапли».
Таким необычным способом далекие сестры – испанские красавицы Лаура, Мерседес, Нина, Пепита, Конхита, Паула, Винсента, Кармен, Инеса, Долорес, Анна и Клара – передали пламенный привет своим далеким русским сестрам.
Понятно, что в холодном зале поднимается взъерошенный негодующий человек (как на встрече с Уэллсом поднялся со своего места негодующий Амфитеатров). «Вы должны знать, кто я, – закричал он. – Я статистик Ершов! Я все слышал и видел! Это какое-то обалдение! Этого быть не может). Я не… я не верю ничему! Это фантомы, фантомы! Мы одержимы галлюцинацией или угорели от жаркой железной печки. Нет этих испанцев! Нет покрывала! Нет плащей и горностаев! Нет ничего, никаких фиглей-миглей! Вижу, но отрицаю! Слышу, но отвергаю! Опомнитесь! Ущипните себя, граждане! Я сам ущипнусь! Можете меня выгнать, проклинать, бить, задавить или повесить, – все равно я говорю: ничего этого нет! Нереально! Недостоверно! Дым!»
И на вопрос секретаря КУБУ, что значит его крик, отвечает:
«Он (крик. – Г. П.) значит, что я больше не могу! Я в истерике, я вопию и скандалю, потому что дошел! Вскипел! На кой мне черт покрывало, да и существует ли оно в действительности? Я говорю: это психоз, видение, черт побери, а не испанцы!» И кричит в лицо удивленному профессору Бам-Грану, доставившему в Россию весь этот товар: «Я прихожу домой в шесть часов вечера. Я ломаю шкап, чтобы немного согреть свою конуру. Я пеку в буржуйке картошку, мою посуду и стираю белье! Прислуги у меня нет. Жена умерла. Дети заиндевели от грязи. Они ревут. Масла мало, мяса нет, – вой! А вы говорите, что я должен получить раковину из океана и глазеть на испанские вышивки! Я в океан ваш плюю! Я из розы папироску сверну! Я вашим шелком законопачу оконные рамы! Я гитару продам, сапоги куплю! Я вас, заморские птицы, на вертел насажу и, не ощипав, испеку! Скройся, видение! Аминь!»
6
«В Петербурге в 1920 году Мура изо всех сил старалась мне объяснить, что происходит в России, – вспоминал Уэллс, – и высказать свою точку зрения на происходящее; с величайшей готовностью она однажды пришла мне на помощь – посоветовала, как себя вести, чтобы не попасть в ложное положение. В ту пору у большевиков было принято приглашать любого знаменитого гостя на заседание Ленинградского совета. Во время заседания кто-нибудь вдруг объявлял о его присутствии, превозносил его и просил выступить. В таких обстоятельствах трудно было воздержаться от ответных похвал и не выразить надежду на успехи во всех делах. Выступление тотчас переводили, превращая в безответственный панегирик марксистскому коммунизму, публиковали его в «Правде» и где-нибудь еще и по телеграфу передавали в Европу. Мура посоветовала мне заранее написать мою речь, а потом перевела ее на русский язык. Я последовал совету Муры, и когда встал Зорин, чтобы пересказать ее, превратив в обычное прославление нового режима, я протянул ему Мурин перевод. «Вот то, что я говорил, прочтите». Зорин был застигнут врасплох, и ему ничего не оставалось, как прочесть. Таким образом, благодаря Муре мне не приклеили ярлык красного перебежчика, и для женщины, находившейся под подозрением, это, по-моему, был мужественный поступок».