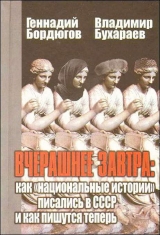
Текст книги "Вчерашнее завтра: как «национальные истории» писались в СССР и как пишутся теперь"
Автор книги: Геннадий Бордюгов
Соавторы: Владимир Бухараев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Геннадий Бордюгов
Владимир Бухарев
ВЧЕРАШНЕЕ ЗАВТРА:
Как «национальные истории» писались в СССР и как пишутся теперь
О проекте «Историческая политика и политика памяти в СССР, РФ и СНГ»
■ В обозримом будущем постсоветские государства не откажутся от исторической политики и политики памяти. Но историки вправе говорить об идеальной конструкции властных мер к прошлому, его сохранению и памяти о нём.
■ Наивно рассчитывать на равный диалог властью, однако историческая наука не может развиваться без автономии от политики и идеологии, от осознания прошлого как живого процесса, поскольку каждое поколение пишет свою историю. А попытки «присвоить прошлое», следовать принципу партийности приводят к бюрократизации и окостенению историознания.
■ Какими бы ни были механизмы исторической политики (включая, казалось бы, отжившие – цензуру, привилегированные институции, послушных историков и пр.), в среде профессиональных исследователей всегда будет существовать лишь видимость принятия оценок от политиков. Ведь создание собственной мифологии сопровождает практически любой режим власти. Поэтому «минные поля свободы» предпочтительнее ориентации на «тайное знание», равнения на политические абсолютизмы или позитивную идентичность, связанную в последнее время почему-то с империей, Романовыми и Сталиным.
■ Вместе с тем сообщество историков – не священная корова с презумпцией безгрешности. Все потуги власти политизировать историю оказывались бы изначально неконкурентоспособными, если бы на них не работали лакеи от исторической науки. Так было и будет всегда, а потому настоящий историк – подобно Плутарху, Тациту, Прокопию Кесариискому и многим-многим их последователям – обречён не только на исследовательское одиночество, но и на умение находить общий язык с теми, которые вершат ту историю, о которой эти историки пишут. Во благо истине и самой истории. Наивно полагать, что в будущем здесь может что-то измениться.
■ Не политизация былого, а создание условий и среды для его глубокого изучения приближает к пониманию смыслов нашей уникальной и поучительной для всего мира истории. Этому способствуют также конкуренция различных точек зрения и научных школ, ограждающая от конъюнктуры и различных культов, отказ от конфронтационных образов стран и народов в зависимости от нефтяных котировок, преодоление этноцентризма, освоение пространства общеевропейской истории.
■ История – не политический рычаг, не средство завоевания электората на выборах и легитимации власти. Гораздо предпочтительней вместо разоблачения «происков» «фальсификаторов истории» прорабатывать «трудные вопросы» истории и формировать правовое отношение к преступлениям против человечности. Именно так возникает обмен знаниями между поколениями, создаются подлинные пространство памяти и исторический ландшафт страны.
Геннадий БОРДЮГОВ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Как это ни парадоксально, но времена общественных сдвигов и изломов – самые для историков благодатные. Обнажаются, подобно геологическим породам на высоком берегу реки после оползня, ходы-выходы, что проделал крот истории в общественном теле, его социальной ткани. Частные признаки, «мелочи примет, каждая – отдельно», попадавшие в поле зрения специалистов и ранее, предстают как взаимосвязанные элементы открывшейся разом картины. Завораживая своими величественностью и многообразием, она сама по себе и становится заглавным объектом внимания и истолкования.
Нечто подобное наблюдается в сообществе историков относительно современной историографической ситуации, отмеченной процессами институционализации и активизмом национальных историографии. Они доминируют сегодня в официальных учреждениях и системах образования стран СНГ и Балтии. Научные центры и университетские кафедры нередко становятся местом культурно-национального самоопределения специалистов, проявления их этнонациональных пристрастий, не сдерживаемых идеологическими обязательствами.
Эта новейшая «смена вех» характеризуется освобождением национального историознания от диктата державно-имперской, великорусской традиции и утверждением модели «национальной концепции» истории вновь возникших государств или полугосударственных образований. На этом фоне разворачивается процесс конституирования и собственно русской историографической школы. В сложносоставном содержании этого процесса наиболее заметно проявляются две тенденции. Во-первых, определённая часть специалистов привержена подходам, укоренённым в системах либерального мышления. В историописании и учебно-педагогических практиках это оборачивается ориентацией на некий концептуальный «треугольник»: «цивилизационный подход – теория модернизации – идеи «школы тоталитаризма»». Во-вторых, формируется устойчивая линия новейшей историографии, представляющая собой инвариант великорусской традиции, той же позиции «старшего брата» в «семье народов». При всех различиях в идейно-политических пристрастиях, которые демонстрирует это направление историознания, в целом оно ориентируется на российскую консервативную идеологию, с позиций которой патриотическая идея трактуется «в откровенно националистическом ключе»{1}.
В любом случае на протяжении последних 20 лет историографическую науку в странах СНГ и Балтии отличает усиление этноцентризма – исследовательского подхода, для которого характерны сочувственная фиксация черт своей этнической группы. Вплоть до выделения этнонационального фактора в качестве основного критерия исторического познания.
Историки, если они и обращаются сегодня к «параду историографических суверенитетов» (далеко не у всех такая возможность в силу известных всем гуманитариям бывшего СССР обстоятельств наличествует), заняты в основном теоретическими разоблачениями «новой», нередко запредельной, мифологии, сличением-различением фактов и сфантазированных историографических образов. Похоже, задача эта не вполне корректная: легенда не поверяется рациональной доктриной.
Поэтому, в частности, авторы книги озадачили себя вопросом о природе и истоках разительных перемен, произошедших в историознании постсоветского времени. Случаются, и нередко (в жизни, политике, теоретических заглядах), такие повороты и превращения, смысл которых высвечивает присловье «шёл в комнату – попал в другую». Социальная прогностика здесь не исключение. В своё время, по итогам схватки за «ленинский кафтан» в большевистских верхах, была буквально демонизирована теория «перманентной революции» Троцкого, являвшаяся по сути разновидностью ленинской концепции революционного перехода от капитализма к социализму в мировом масштабе как эпохи классовых битв «по всем фронтам». Идея непрерывной революции мешала сделать легитимным произведённый размен революционного интернационализма и жертвеннности во имя «дела всесветного пролетариата» на державно-бюрократическую стабильность и привилегии.
Между тем стоявший в теоретическом отношении на голову выше других вождей большевизма «пророк революции» уловил, схватил – вопреки своему замыслу – важнейшую черту, присущую постреволюционному обществу. Путь российского социума в XX столетии – это череда перманентных революционных потрясений и сопутствовавших им конфликтов. Истоки «революции сверху» рубежа 20–30-х годов – в столкновении госмонопольной системы с хозяйственной самостоятельностью крестьянских общин. Кадровая чистка 1934–1938 годов, разрешала противоречия между «старой гвардией» и «новыми» элитами. Ultima ratio сталинизма – «культуркампф» 1946–1953 годов – явил миру пароксизм скорее именно сталинского, а не сталинистского, большевистского, курса на достижение социоэтнокультурной энтропийности общества. «Антивождистская» революция 1964-го поменяла «коренных» и «пристяжных» в системе взаимоотношений верховной котерии и аппарата…
Здесь, в этих временах, нужно искать предпосылки своего рода термидора, произошедшего в историческом познании некогда единого советского Отечества.
С распадом СССР и образованием новых государств люди стали пересматривать прежние представления о самих себе, столкнулись с сосуществованием старых и новых идентичностей, в том числе национальных. Это вызвало кризис самосознания и далеко не всегда рационально контролируемые политические проекции, связанные с отрицанием ancien regime и его политической и социокультурной системы. Известно, что когда представители той или иной нации размышляют о своей истории, им тяжело говорить на одном и том же языке. И дело не только в интеллектуальной борьбе за приоритетное право на престижное наследие или в замалчивании позорящих страниц. В различные эпохи национальной жизни выступают на передний план определенные аспекты, отбирается из прошлого то, что соответствует её, этой эпохи, духу.
Сразу после 1991 года повсюду проявились тенденции к героизации, удревнению своей государственности, завышению уровня политического и общественного развития этносов, вообще самоутверждению за счет соседей, созданию модифицированного пантеона выдающихся национальных деятелей. В России некоторые историки стали усматривать преодоление кризиса идентичности в возвращении к «русской идее», в Таджикистане отдельные учёные начали размышлять над причинами и последствиями того «вольнодумства», которое результировалось в негативистской саморефлексии: «Мы ни то, и ни это, и ни третье». На Украине «болевой» оказалась проблема этногенеза украинцев и места в нем Киевской Руси, в Молдавии – запутанность исторических отношений основного этноса (молдаван) с Россией и Румынией, а в Армении заговорили о «карабахизации» своей национальной истории.
По сути, оппозиция «своё/чужое» нередко возводилась в нечто непримиримое. Диалогические отношения (в смысле Бахтина), когда «чужая» культура в глазах другой раскрывала себя полнее, а соприкосновение одного смысла с другим показывало глубины обоих, стали деформироваться. Это являлось последствием, с одной стороны, той политики, которая сопровождалась отрицанием у другого народа «своего» прошлого и, с другой стороны, разрушением исторической памяти. Дало о себе знать стремление заменить советским – «интернациональным» – пластом истории национальные традиционные картины мира и одновременно распространить идею якобы русского превосходства. В национальных историях явились скрытые и открытые формы отчуждения от русской истории и культуры, возникла даже мания этновеличия.
В первое десятилетие XXI века условия для историописания на постсоветском пространстве усложнились. Произошли первые постсоветские «цветные революции» с харизматическими провайдерами и первая война между бывшими республиками СССР с трагическими последствиями. Появились новые независимые государства и новые границы. Военные и экономические конфликты вышли за пределы постсоветского пространства, стали дополнительным свидетельством того, что довольно быстро складывается иная конфигурация, не связанная с однозначным доминированием какой-либо страны среди заново образованных государств. Наоборот, появляются новые арбитры при осложнении межгосударственных отношений и новые богатые спонсоры в контексте экономического кризиса. Одновременно растет и роль независимых интеграционных институтов, в том числе в гуманитарной сфере, в продвижении новых научных проектов.
Кризис государственности в ряде стран СНГ и одновременно поиск собственных путей развития народовластия, не связанных с продлением полномочий одного лидера, очевидное завершение процесса формирования собственной государственности потребовали новых программ и проектов по изучению и репрезентации истории. Это связано как с опасностью дезинтегративных тенденций, так и с воспроизводством идентичности, сохранением её главной основы – исторической памяти и национальной культуры. Поэтому ведущая роль в создании национальных историй перешла к политической элите, заинтересованной в инструментализации прошлого для реализации определенных политических целей, в том числе для укрепления независимого статуса новых государственных образований.
На всём постсоветском пространстве на государственном уровне стали формулироваться задачи исторической политики и политики памяти, что связано с сохранением и развитием языка, национальных духовных и материальных ценностей, государственной школы обучения молодого поколения. Подконтрольные власти СМИ, система образования и издание учебной литературы – в зависимости от характера внешнеполитических ориентиров вообще и двусторонних межгосударственных отношений в частности – выпячивали то одни, то другие образы в представлении общей истории своих соседей. Диапазон для этого был довольно широким, хотя и не новым – «враг – чужой – другой – иной – друг – брат». Однако выстраивание взвешенной внешней политики предопределило переход к созданию образа прошлого страны, который бы способствовал стабилизации, нормальным отношениям с соседями, который был бы свободен от излишней политизации. Безусловно, это не означало, что исчезло стремление правящих элит отойти от общей истории, связанной с Российской империей и СССР, что история перестала быть инструментом политики. Во всяком случае, режимы власти, установившиеся в последние пять лет на Украине, в Грузии, Эстонии и Латвии, в определённые критические моменты тенденциозно освещали трагические моменты истории, надуманно взвинчивали ситуацию вокруг памятников и памятных знаков, что нередко вызывало раскол общества. Возникли невиданные для постсоветского пространства определения – «война памятников», «война памяти».
Работа в контексте инструментализации прошлого, с одной стороны, и время от времени возникающих «войн памяти» и «информационных войн» – с другой, поставили перед историками серьёзные вопросы. Что делать? Гасить эти войны? Создавать новую идентичность на «счастливой истории» и только так, игнорируя трагические события, воспитывать молодежь? Чем вообще отличаются национальные картины прошлого и почему? Какие модели национальной памяти превалируют сегодня в массовом сознании? Какие перспективы впереди – апология почвы, облечение мифов в национальную оболочку, или возвращение профессиональной историографии на подобающее место? Продолжится ли дифференциация историков по национальной принадлежности или всё-таки на основе научной позиции?
Особенности эволюции национальной исторической мысли, формы её выражения сначала на фоне развития господствующей (тоже в основе национальной, великорусской) историографии, а затем экспансии этноцентризма, проблемы национальных историографии и национальных культур воспоминаний, состояние научного сообщества историков в советское и постсоветское время находятся в центре внимания авторов этой книги.
Авторы искренне благодарят всех, кто способствовал работе над этой книгой:
участников проекта «Национальные истории» первого (1998–1999 гг.) и второго (2008–2009 гг.) призывов;
Алана Касаева, который на протяжении 12 лет будучи зам. главного редактора «Независимой газеты», «Политического журнала», а ныне Руководителем Редакции по странам СНГ и Балтии РИА «Новости» всячески способствовал продвижению результатов нашей сложной темы в СМИ;
профессора Карла Аймермахера и господина Фалька Бомсдорфа, без интеллектуального вклада и усилий которых данная проблема в России еще бы долго оставалась на периферии исследовательских интересов;
Дмитрия Андреева, Дмитрия Люкшина и Татьяну Филиппову, чьи ценные замечания с признательностью учтены в тексте;
Сергея Щербину – за оформление, поиск и подбор иллюстраций;
Наталью Иванову – за научно-вспомогательную работу.
Глава 1.
ЭТНОЦЕНТРИЗМ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ
Для уяснения складывающейся историографической ситуации в странах СНГ и Балтии нужно прояснить её природу. Этноцентризм исторического познания, впервые явленный миру в образе европоцентризма, – собственно, ответвление национально-государственной (культурно-геополитической) идеи. Она предстаёт в виде теоретической санкции на конструирование нации и защиту её места под солнцем в эпоху перехода европейских сообществ от традиционализма к техноурбанизму. Истолкование субъектов, используемых в процедуре социально-культурной идентификации («народ», «нация», «белый человек», несущий «бремя» мирового культуртрегерства, и проч.), исторически зависело от определения другого как «врага». По мере удаления во времени от своего прототипа, относящегося к эпохе Великой французской революции (первая буржуазная – французская – нация слагалась из «патриотов», противостоящих супостатам; впрочем, идея нации была измыслена «на вырост» и французская нация в конце XVIII века являлась, скорее, политическим воображаемым), национальная идея может и понижать градус ксенофобии. Однако её размещение в формате «мы – другие» остаётся неизменным.
Тематизированная философия истории и научная историография – продукты Нового времени – генетически связаны с национальной идеей. Она обеспечивает конституирование и оснащение принципиальными смыслами историзирующее культурное сознание. Сообщает ему функциональность. Удерживает его в состоянии равенства самому себе. Официальная европейская историография демонстрирует европоцентризм, квалифицируя характер взаимоотношений Европы с народами Азии – Африки – России.
Синкретический «евровзгляд» расщепляется в национальных историографиях, когда те приступают к рассмотрению внутриевропейских дел. Создаваемая под эгидой нации-государства история не принимает в расчёт разнообразные политические «этнические общности с того момента, как они включаются в состав того государства, которое их поглощает»{2}. Рационально-феноменальная доктрина, производная позитивистской культуры, системообразующую роль национально-государственной презентации в историознании не улавливает.
Несовпадение фаз европейского «транзита», модернизационные срывы порождают гибридные и превращенные формы этнических национализмов. В нацизме и его философско-исторических «видениях» своеобычно сопряжены почвенное антизападничество и белый расизм германофильского толка. К ним примешаны отредактированный для бюргера коммунистический утопизм, языческая концепция цикличности истории (обновление через хаос – национал-социалистическую революцию и экспансию «арийской расы»), научный рационализм (созидание целеположенного «нового порядка»), обращенный здесь против своей прародительницы – иудейско-христианской культуры. Всё же определяющим мотивом этой идейно-теоретической какофонии является национализм: социалист с позиций гитлеровского социализма – тот, кто готов рассматривать цели нации как свои собственные, потому что для него нет более высокого идеала, чем благосостояние нации.
Другая версия социализма – марксизм – может быть истолкована в виде реакции космополитически ориентированной части интеллектуалов, озабоченных бедствиями социальных аутсайдеров эпохи «фабричных труб», на жёсткие общественные практики национальных капиталов и государств, обустраивающих собственные культурно-политические цитадели в ходе формирования новых мироотношений. Логика национально-государственного развития весомее аргументации социального экуменизма. Дело «всесветного пролетариата» оказалось в заложниках национальной мистерии. В годы Первой мировой социал-демократия поддержала свои правительства. Советское руководство обратилось к великорусской державной идее, прикрытой интернационалистской риторикой. Отечественная история вновь предстала, в соответствии с традицией имперской историографии, как преимущественно история русского национального государства.
Либерально-демократические традиции западной науки, корпоративный этос научного сообщества, предписывающий избегать влияния политической и идейной конъюнктуры, подкрепленные процессами социально-культурной интеграции внутри западного мира во второй половине XX века, во многом обесценили этнонациональные предпочтения в историографии. Те или иные ученые, апеллируя к состоянию современного западного историознания, в том числе к опыту собственного творчества, могут – и вполне искренне – отводить упреки в этноцентризме «своих» историографии. Однако об этноцентризме как родовой мете исторического знания нельзя судить, обращаясь к изыскам иного знатока средневекового города.
Этноцентризм – вензель всей национально-государственной историографии. Он явственно обнаруживает себя в школьных и вузовских учебниках, энциклопедической литературе как бы в обезличенной форме: авторство учебника и энциклопедии, этих сконструированных сводов исторических сведений, – понятие, как правило, весьма условное. Не меньше этноцентризм говорит о себе тем, о чем он умалчивает. Скажем, в немецких историознании и исторической публицистике только со второй половины 90-х годов минувшего века стала более открытой дискуссия о Третьем рейхе. Освещаются вопросы, которые до того были не в чести у литераторов: об участии частных лиц в антисемитских преступлениях, о жестокосердии солдат и офицеров вермахта в отношении гражданского населения в 1939–1945 годах.
Актуализация проблемы этноцентризма исторического сознания на опыте российской историографии XX века предполагает учёт особенностей этносоцио-политической ситуации российского сообщества и характера её эволюции. В отличие от Запада, Россия и регионы бывшего СССР переживают период национально-культурной трансформации. Особые затруднения встают на пути исследователя, намеревающегося обратить свои взоры на проявления этнонационального сознания в историографии советского периода. Проблема эта, несмотря на её теоретико-познавательный потенциал, выделение этнологии и этнологически оснащенной истории в качестве заглавных дискурсов в историческом познании 80–90-х годов XX столетия остаётся в целом не разработанной.
В советское время она или не рассматривалась вовсе, или ставилась в тенденциозной политизированной форме (национальная история как эквивалент антимарксизма либо национал-уклонизма в большевизме). Историческая наука в России и других государствах ближнего зарубежья демонстрирует отсутствие устойчивого интереса к проблеме (будь он сформирован, следовало бы говорить о новом направлении в историознании). Кроме того – иную идеологическую тенденциозность в оценках истоков национально-исторической мысли, перипетий культурно-исторического развития.
В советологической историографии, развивавшейся под знаком доктрины «школы тоталитаризма», в исследованиях приверженцев которой история и политология практически сливались в единую научную дисциплину, проявления национальных идей в провинциальной исторической литературе советского периода оценивались в качестве контркультурных форм, которые были практически сведены на нет советским марксизмом, игравшим роль принудительной моноидеологии.
Для современного изучения истории стран СНГ и Балтии, формировавшегося до известной степени в качестве альтернативы ортодоксальной советологии и опиравшегося на «ревизионистскую» критику «школы тоталитаризма» 60–70-х годов, методологию социологически информированной «социальной истории», характерны более широкие проблемно-концептуальные основания. Например, стремление вместо статичной картины «монолитного режима»{3} увидеть в истории Российской империи и СССР противостояние идей и корпоративных сил, многоуровневые конфликты социополитического, религиозного, этнонационального характера.
Возвращение в лоно общеевропейской истории, размещение советского опыта в координатах противоборства консерваторов и реформаторов, включая сферы партийного руководства и идеологии, открывает новые исследовательские перспективы. Одновременно таит в себе опасность теоретического модернизаторства, смешения должного и сущего в освещении истории советского общества, его культуры и науки.
В исследовании А. Каппелера, посвященном эволюции мультинациональной империи, констатируется наличие историографических школ отдельных советских республик. После сталинских времён они пережили период институционального оформления, разветвления и профессионализации, оставаясь при этом под контролем центра. Национальные историографические школы в Советском Союзе, по мнению автора, имели значительные достижения и серьёзные труды, прежде всего по вопросам социальной и экономической истории. Однако вынуждены были избегать острых тем, связанных с завоеванием, подчинением, включением в состав Российской империи, с национальными движениями и национальной политикой. Темы эти оставались за скобками научных исследований или освещались в одностороннем идеологизированном плане{4}.

Андреас Каппелер
В используемом Каппелером понятии «национальные исторические школы» применительно к местным историографиям присутствует известное преувеличение, если не считать, что понятие берётся в широком смысле и обозначает те группы историков, внимание которых сфокусировано на проблемах истории своих регионов. Но история тех же регионов на основе единых теоретических подходов изучалась и историками «центра» – как правило, в процессе создания ими «обобщающих трудов». Некоторые региональные исследования, выполненные местными историками, выходили в столичных издательствах. Это являлось признанием заслуг провинциального историка перед советской наукой – под пристальным оком идеологической цензуры.
Разумеется, отличительная черта национальной исторической мысли, выражение которой ограничивалось постулатами имперского мировоззрения, – сосредоточенность – по необходимости в завуалированном виде – на истории своей этнической группы, её топоса. Однако этот признак ещё не даёт основания для возведения местной историографии в ранг «национальной школы». Такое понятие предполагает существование культивирующих национальную историческую мысль научно-педагогических центров, находящихся под патронажем властей, и, соответственно, наличие этноцентристской «оптики» во всём историческом комплексе. Между тем «просветление» этой «оптики», наведение её «на резкость» усиленно сдерживались посредством того, что Каппеллер называет давлением официальной идеологии, фактически оправдывающей завоевания самодержавного государства. Система науки и педагогики была организована так, чтобы обеспечить эффективность этого идеологического давления.
Кроме того, однозначная постановка вопроса о существовании в послевоенный период национальных историографических школ в СССР исходит, по существу, из допущения, что историки-«нацмены» находились в скрытой оппозиции московским правителям и воспринимали насаждавшуюся «сверху» модель историографии как антиисторическую и чуждую их национальной культуре. Однако реальная картина значительно сложнее. Стремление к этнокультурной идентификации вполне уживается с коммунистическими взглядами. Об этом свидетельствует социополитическая ситуация в постсоветских сообществах, сделавшая тайное явным. Советско-марксистская доктрина имела своих сторонников и приверженцев среди национальных интеллектуальных элит. Некоторые её представители, в годы национально-государственных реформации оставшись на «стыдливых» интернационалистских позициях, оказались теперь, подобно первым русским марксистам, в маргинальном положении в системах национального историознания. Последние, напротив, поменяли диспозицию: из контркультурных практик превратились в официальные историографии.
Идеократический советский строй сформировал «вполне определённый тип историка», научившегося воспринимать партийное руководство как нечто естественное и само собой разумеющееся. Более того, сложился «тип историка-партийца, жаждущего данного руководства и чувствовавшего себя крайне дискомфортно без него»{5}.
Поэтому применение безо всяких оговорок и пояснений понятия «национальные исторические школы» относительно историографической ситуации в национальных регионах Советского Союза послевоенного времени вряд ли плодотворно с научной точки зрения. Скорее, следует использовать понятие «национальные школы историографии» для характеристики историографической обстановки 1920-х годов. В выступлениях участников Всесоюзной конференции историков-марксистов, в рамках которой работала секция истории народов СССР, рассматривались проблемы «современной исторической украинской науки», «армянской историографии». Раздавались призывы к организации коллективной работы «историков-марксистов Закавказья», «дружному союзу украинских историков-марксистов и ресефесеровских историков-марксистов, а также и белорусских историков-марксистов, грузинских и т. д.». Посланцы национальных регионов остро реагировали на «отрыжки» великодержавного шовинизма и национального нигилизма, которые они усматривали в «русской исторической литературе»{6}.
Историки-марксисты, занимавшие левый фланг национальных историографии, отдавали себе отчёт в том, что ведущие позиции в них продолжают занимать наследующие традиции дореволюционной науки «современные антимарксистские течения». Их представители уличались в том, что «в качестве стержневого вопроса» истории рассматривают «борьбу за национальную независимость» своих народов, против «русификаторской и колонизаторской политики» Российской империи. Или, во всяком случае, «дают материал по национальному движению в такой пропорции», что читатели «видят национальный момент основным» – независимо от подчёркивания автором значения экономических факторов. (Имелась в виду историческая концепция марксизма с присущими ей экономическим детерминизмом и истолкованием национального вопроса в качестве производного от вопроса социального.)
Другое дело, что в официальной исторической науке послевоенного периода не только не признавалось наличие «национальных школ», но вообще не ставился вопрос об эволюции национальной исторической мысли в советское время. В пятом томе академического издания «Очерки истории исторической науки в СССР», посвященном развитию советской историографии проблем отечественной истории с середины 30-х до конца 60-х годов XX века, оказавшемся последним актом масштабной историко-научной рефлексии советского историознания в условиях советского строя, выделение национальных историографических комплексов отсутствует. Намёк на некую специфику развития историографии в национальных регионах можно усмотреть в наблюдениях авторов «Очерков», касающихся освещения истории становления советского государства: «Все работы об автономных республиках были написаны местными историками и изданы, как правило, местными издательствами, что стало важным показателем культурного и научного роста исследовательских кадров в ранее отсталых окраинах страны»{7}. В издании встречаются термины «историки союзных республик», «многонациональная армия историков», хотя в целом – согласно господствующей историографической концепции – и в центре, и на местах работали специалисты, исчерпывающая характеристика которых содержалась в определении «советские историки». Показательно, что не была реализована заявленная в предыдущем томе «Очерков» (1966 г.) задача – рассмотреть в «специальном томе» проблемы борьбы с буржуазным национализмом в историографии 1920-х – начала 1930-х годов.








