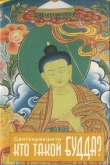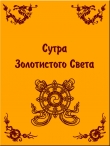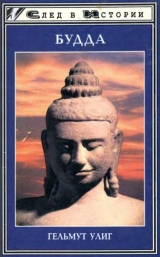
Текст книги "Будда"
Автор книги: Гельмут Улиг
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Глава XII
Будда и женщины
Основание женского монастыря
Когда Будда как творец дождя пребывал в Весали, его достигло известие о тяжелой болезни отца. Согласно более поздней версии он использует магические способности, которые давно проникли в буддийский мир представлений. Он летит в Капилавасту. Там он находит своего отца на смертном одре, но ему удается благодаря концентрированному наставлению привести его к просветлению и тем самым к нирване.
По другому исторически документированному источнику Будда посетил Капилавасту во второй раз, чтобы уладить гам спор своего отца с правителем соседней страны, грозивший привести к войне из-за проблемы орошения.
Когда Будда приехал, то войска уже стояли по обе стороны пограничной реки. Раджа Шуддходана, серьезно занявшийся после первого посещения сына его учением и ставший мирским последователем, видел выход только и войне.
Тогда Будда свел обоих правителей на острове пограничной реки, наглядно показал им все зло войны и убедил их в том, что воина никому из них не принесет пользы. Кровь вместо воды – это не альтернатива, так посеял он в них сомнение. Его аргументы были так убедительны, он так выразительно обрисовал ущерб для обеих сторон в случае войны, что противники пришли к мирному решению.
По всей стране после этого Будду чествовали как миротворца. И то, что не удалось во время его первого посещения, а именно массовое обращение в свое учение, теперь свершилось в неожиданном масштабе. Пятьсот воинов его родной страны, которые видели в нем спасителя жизни, вступили в орден.
Но и такое развитие событий принесло Будде, как и следует предположить, не только друзей. Наоборот! Жены воинов рассердились на сына раджи, который похитил их мужей. И в Капилавасту царило большое недовольство, когда Просветленный, сердечно простившись, ушел от своего отца вместе со своими новыми последователями.
Раджа Шуддходаиа углублялся все больше в учение и достиг того состояния, о котором вышеприведенная легенда рассказывает как о мимолетном событии.
А что касается легендарного полета, то, вероятно, это было так: вернувшись в Весали, Будда узнал о тяжелой болезни своего отца и в третий раз отправился в Капилавасту. Он застал отца еще живым, но тяжело больным.
Ежедневными указаниями он так углубил знания Шуддходаны о достижимом спасении, что раджа благодаря интенсивному участию своего сына мирно сошел в нирвану.
По сравнению с первыми годами странствий очень изменилось положение Будды в окружающем мире. Он стал не только земным чудотворцем, но и миротворцем и спасителем для собственного отца и многих значительных мужей. Его человеческие заслуги получили между тем такое же признание, как и его неутомимые проповеди своего учения. Это вызывало все больше уважения к нему в стране.
Но до сих пор мы мало слышали об отношении Будды к женщинам. Хотя в начале сообщалось о его мирских последовательницах, но четких высказываний об этом не было, а проблема требовала своего решения.
Поэтому принципиальный вопрос об отношении к женщинам, возможно, по просьбе других монахов, поставил перед Пробужденным его любимый ученик Ананда.
Он спросил: «Как, Достойнейший, мы должны вести себя в присутствии женщин?»
Будда ответил: «Как будто вы их не видите, Ананда».
«А если мы их видим, то что мы должны делать?» – опять спросил Ананда.
«Не заговаривать с ними, Ананда», – ответил Будда.
«Но, Достойнейший, а если они заговорят с нами, что нам тогда делать?» – хотел знать Ананда.
«Быть начеку, Ананда», – парировал на это Будда.
Настоящий диалог не удовлетворит тех, кто серьезно подходит к этому вопросу. Он показывает, что после своего рано закончившегося брака Будда, по возможности, избегал этой темы, если вообще не наложил на нее табу.
Но все изменилось после того, как его мачеха Махападжапати перед смертью мужа наблюдала в последние месяцы изменения, происходящие в нем, – от светского мужчины-властителя к последователю учения Просветленного.
Эти изменения коснулись и ее, и она давно размышляла над тем, как она должна на это реагировать.
Смерть Шуддходаны изменила ситуацию. Как и многие женщины ее страны, чьи мужья ушли с Буддой, она осталась одна. Она разговаривала со многими женщинами, оказавшимися в таком же положении. При этом у нее созрело решение: она тоже хотела бы идти путем Будды. Когда она к тому же услышала от молодых одиноких женщин ее окружения, что и они охотно бы вели соответствующую учению жизнь, Махападжапати пошла к Будде и попросила его разрешить твердо решившимся женщинам вести бродячую жизнь. Но Просветленный отклонил это. Трижды обращалась она, но каждый раз Будда отвечал своей мачехе: «Нет, Гаутами, тебе не понравится, если женский пол, следуя возвещенному Совершенным учению и дисциплине, покинет свою родину и отправится странствовать».
Так как Будда перед хозяевами всегда давал наставления правильной жизни и для женщин, прежде всего как для жен, то его отказ создать женский орден нельзя толковать как просто презрение Пробужденного по отношению к женщинам, хотя он, как видно из более поздних высказываний, видел в женщине морально менее крепкий, склонный к искушению пол. Но именно женщина, и это играет в учении Будды о сансаре большую роль, как роженица и мать поддерживает в движении круговорот перерождений. Так как для Будды важны были не только последователи-монахи, но также и домашние общины, уверовавшие в учение, то женщина для него принадлежала дому, детям и старикам. Она должна была оставаться хранительницей и только после ее последующего перерождения мужчиной могла идти бездомным путем. Это мнение, возможно, было решающим для отказа Будды создать в ордене общину для женщин.
Но Будда в своем отказе не учел настойчивости женщины, которая, возможно, связана с ее природной ролью родительницы. Она связана с жизнью в большей мере от природы, чем разумом. Это не является оценкой, а указанием для распределения ролей в сансаре. И так это понимал Будда.
Но женщина – это не только существо, принадлежащее к определенному полу, но так же, как и мужчина, способна распознать сансару. И кто, как не Маханаджапати, которая после смерти матери Будды Майи была предназначена воспитывать будущего Будду, был более способен к этому. Она обладала такой же сильной, несгибаемой волей, как и ее приемный сын. И она познала свой путь раньше, чем спросила о нем. Поэтому ее не удовлетворил его отказ. Она решила доказать примером.
Когда Будда со своими учениками снова покинул Капилавасту и ушел в Весали, вдова раджи отрезала волосы, побрила голову и одела желтые одежды, какие носили монахи Будды. Многие женщины из Капилавасту и со всей страны последовали ее примеру. После этого они большой толпой отправились в долгий и тяжелый путь в Весали.
Формы вежливости того времени не позволяли ей еще раз просить самого Будду о разрешении создать женский орден. Но когда она «с распухшими ногами и покрытая пылью, испытывая боль и скорбь, плача, с залитым слезами лицом» стояла перед входом в монастырь, ее узнал Ананда, которого волновал вопрос женщин и с которым мы уже сталкивались. Он спросил, что привело ее сюда и что стало причиной ее плачевного состояния. Она рассказала ему о ее изложенной в Капилавасту перед Буддой просьбе, его отказе и ее непреклонной воле все-таки идти путем учения.
Тогда Анаида стал ее заступником перед Буддой и изложил ему желание Махападжапати как свое собственное. Но и он трижды получил отрицательный ответ. Но Ананду было также трудно поколебать, как и Махападжапати. Так как он очень сочувствовал вдове раджи, которая приняла столько мук, чтобы достичь высокой духовной цели, то он начал размышлять над тем, нет ли еще другого пути, чтобы переубедить Будду.
И, как это ему было свойственно, он попытался начать с хорошо продуманного вопроса: «Способен ли женский пол, Благороднейший, если он, следуя учению и дисциплине, возвещенным Совершенным, покинет свой дом и пойдет странствовать, достичь плодов обращения, однократного возвращения, невозвращения и святости?»
На это Будда ответил: «Да, Анаида, женский пол, если он, следуя учению и дисциплине, возвещенным Совершенным, покинет свой дом и пойдет странствовать, способен достичь плодов обращения, однократного возвращения, невозвращения и святости».
После этих слов Анаида напомнил Пробужденному о важной роли Махападжапати в его, Сиддхартхи, детстве, попросил его обдумать это и исполнить заветное желание вдовы раджи.
Чем больше в последние годы Будда поддается переубеждению при ссылке на его личные обстоятельства, тем жестче его условия для посвящения в монахини, даже если речь идет о его собственной мачехе.
Ответ Будды содержит все действующие с тех пор правила для монахинь, которым должна подчиняться каждая вступающая в орден женщина.
«Ананда, если, – так начинает Будда перечисление своих условий, – Махападжапати из рода Гаутама возьмет на себя восемь важных обязательств, то она сможет получить посвящение: монахиня, даже если она прошла посвящение сто лет назад, должна с большим почтением приветствовать монаха, посвященного только сегодня, она должна встать перед ним, сложить руки и выполнить все обязанности по отношению к нему [2]2
Имеется в виду, что монахиня, даже давно прошедшая посвящение, по рангу ниже самого молодого монаха – прим. авт.
[Закрыть]. Монахиня не имеет права проводить сезон дождей в месте, где нет ни одного монаха. Каждые полмесяца монахиня дважды обязана предстать перед общиной монахов по вопросу соблюдения поста и для получения наставлений. После окончания сезона дождей монахиня должна трижды отчитаться перед обеими общинами, а именно: о виденном, о слышанном и о предполагаемом. Если монахиня совершила тяжкий грех, то она должна быть подвергнута на полмесяца тяжкому наказанию Манатхи перед обеими общинами. Если она в течение двух лет получала наставления по шести добродетелям, то она может ходатайствовать перед обеими общинами о посвящении. Монахиня не должна ни в коем случае оскорблять или хулить монаха. С сегодняшнего дня запрещено монахиням давать наставления монахам, не запрещено монахам наставлять монахинь. Все эти предписания следует выполнять, уважать, почитать, поклоняться им и не преступать в течение всей жизни. Если Махападжапати из рода Гаутама берег на себя эти восемь важных обязательств, то она может получить посвящение».
Анаида сообщил условия ожидающей от него известия вдове и получил незамедлительно согласие, которое он передал Будде.
В ответ на это Будда начал пространное объяснение, которое имеет характер пророчества:
«Если бы, Ананда, женский пол не получил разрешения, следуя возвещенному Совершенным учению и дисциплине, покидать родину и вести бродячую жизнь, то священное превращение имело бы долгое существование; тысячу лет существовала бы истинная религия. Но так как теперь женский пол, следуя возвещенному Совершенным учению и дисциплине, покинул родину и вступил в бродячую жизнь, то теперь, Ананда, священное превращение не будет иметь долгого существования; только пятьсот лет будет существовать истинная религия. Как разбойникам легко разрушить дома, которые содержат много женщин и немного мужчин, так и не будет долго существовать эта религия, которая позволила женскому полу, следуя возвещенному Совершенным учению и дисциплине, покидать родину и вести бродячую жизнь. Как мужчина заранее строит плотину на большом озере, чтобы сдержать воду, так и я заранее установил восемь важных обязательств, которые нельзя преступать в течение всей жизни».
Здесь Будда впервые говорит о далеком будущем своего учения и ордена.
Над мрачным предсказанием, что после допуска монахинь орден будет существовать не более пятисот лет, многие ломали голову.
Даже если буддийские монашеские общины существуют и сегодня в большом количестве и в разных странах и пророчество Будды, глядя поверхностно, не сбылось, то, с другой стороны, не следует упускать из внимания тот факт, что пятьсот лет спустя после Будды в ордене произошли большие изменения и от него отделилось много направлений, о значении которых речь пойдет во второй части этой книги.
После того, как Будда сказал Ананде эти важные, хотя и трудно объяснимые слова, он принял свою мачеху, которая спросила его, что ей делать с другими женщинами, пришедшими вместе с ней в Весали.
Тогда Будда дал ей первые указания и вводные распоряжения для монахинь. После этого он пришел на ежедневное собрание монахов и сказал присутствующим монахам: «Я разрешаю вам, монахи, посвящать женщин в монахини».
Так в Весали произошло первое посвящение буддийских монахинь.
Словно в результате изменения отношения Будды к женщинам после основания женского ордена, но также и изменения представлений женщин о Будде в последующей жизни, как и в легенде Будды, Просветленный чаще встречается с представительницами женского пола.
При этом следует сообщить сначала о чудесной, примыкающей к Джатаке истории о предыдущих существованиях Будды – легенде, которая сводит Пробужденного с его матерью Майей, умершей на седьмой день после его рождения и вознесшейся на небо тушита.
История этой встречи заставляет думать о сообщениях, лежащих между действительностью и сказкой и рассказывающих о юных годах Снддхартхп и его уходе из дома, так как и здесь речь идет об уходе, хотя и другого свойства.
Это был седьмой сезон дождей после его просветления. Он вспомнил о своей матери, покинул общину монахов и отправился на небо тушита, которое было ему хорошо знакомо из времен до его последнего рождения.
Четыре месяца провел он со своей матерью и богами, главный из которых Шакра предоставил ему свои трон под небесным коралловым деревом. Оттуда он оповещал смертных богов, которых это касалось, но буддийским понятиям, о пути к спасению, к нирване.
После того как и его мать познала этот путь, он отправился назад к ожидавшим его монахам, большинство которых находилось теперь в Шаваттхи, западнее Капилавасту.
Там наряду с последователями Будды собралось большое количество паломников, аскетов и монахов, многие из которых хотели только приобрести влияние и показать себя.
Так как Будда длительное время отсутствовал, что заметно отразилось на общине его монахов, то чужие паломники надеялись, что он за это время уже умер. Враги Будды почувствовали себя увереннее и подумали, что пришел час их триумфа.
Как же разочарованы они были, когда вновь увидели среди монахов в желтых одеждах хорошо знакомую фигуру. Меж тем быстро стало известно, где пребывал все это время Будда, и это вновь подняло его авторитет, и появилось много желающих вступить в орден.
Тем более возрос гнев недоброжелателей, и они решили обсудить, как они действенно могут навредить Будде и его последователям. И они пришли к единому мнению, что это можно сделать, только подорвав безупречную репутацию Будды или вообще разрушив ее.
Но что может быть лучше для достижения этого, как не распространение сомнения в его чистоте, его честности и прежде всего в его целомудрии?
Нужно приписать ему отношения с женщинами и попытаться наглядно доказать. Для этого зачинщики интриги использовали очень красивую дочь брахмана, которая находилась в Шаваттхи как паломница.
Когда ей объяснили весь план, то ей понравилась сама мысль считаться возлюбленной Будды. Возможно, она даже верила, что, будучи такой красавицей, сможет действительно соблазнить Просветленного.
Синса, так звали дочь брахмана, каждый день совершала прогулки к монастырю буддистов и подолгу задерживалась там. Когда ее в городе спрашивали, что ей надо у монахов, она давала уклончивые, частью даже овеянные тайной ответы.
Часто она проводила ночь на территории монастыря и старалась, чтобы ее видело как можно больше людей, когда на следующее утро она возвращалась домой. Если ее спрашивали, где она провела ночь, то она неохотно отвечала, что это ее дело. Временами она намекала, что в монастыре у нее есть возлюбленный. Она притворялась смущенной, но все-таки в конце концов дала понять, что у нее связь с Буддой.
Новость распространилась в городе со скоростью ветра. Однако было больше сомневавшихся, чем веривших этому утверждению, больше было заинтересованных в клевете, чем в проверке этого утверждения.
Но Синса сумела развеять сомнения. Она обмотала платки вокруг живота и успешно изображала из себя беременную. Теперь она повсюду рассказывала, что Будда соблазнил ее. Девять месяцев спустя люди видели в ней женщину на сносях. Она намеревалась тайно покинуть Шаваттхи в ближайшие дни, но хотела своим уходом произвести сенсацию.
Так, однажды утром она проникла в зал собраний монахов и громогласно обвинила присутствующего Пробужденного в том, что он соблазнил и бросил ее.
Со свойственной ему невозмутимостью Будда сказал ей: «Правда ли то, что ты говоришь, знаем только ты и я».
Когда смущенная Синса тихо подтвердила это, порыв ветра поднял ее юбку, и узел, который она привязывала, упал на пол. Возмущенные миряне, присутствовавшие при этом, набросились на нее и прогнали из монастыря.
После того, как она с криком покинула святую территорию и Будда не мог ее больше видеть, земля с треском разверзлась и поглотила клеветницу.
Возможно, женщины довольно часто проявляли свое отношение к Будде именно в такой форме, по здесь это превращается в чудо, подтверждающее учение. Реальность перерастает в демонстрацию неземной силы.
Но реальность в ордене и вокруг него, как показывает этот пример, была не столь отрадна, как в начале. Среди монахов также возникали некоторые разногласия и даже споры. Даже об изнасиловании и убийстве шла речь, хотя тяжкие преступления во времена Будды являлись единичными случаями.
В случае изнасилования монахини Уппалаванны монахом Нандо легенда сообщает о таком же наказании, как и в случае с Синсой. Это дает нам право сделать вывод о том, что тяжкие нарушения правил ордена были довольно редки и влекли за собой суровое наказание на земле или осуществлялось могущественными силами неба.
Но мы видим, что пробуждение Будды никак не оградило его самого и его сторонников от ежедневных нужд сансары. Даже если сам он был неприкосновенен, то его физическое существование оставалось подверженным изменениям мира. И это он, видимо, с годами чувствовал все более отчетливо.
Глава XIII
Устав монашеского ордена и учение
Чем дольше существовал орден, чем больше был приток, тем все более важную роль играл строгий устав ордена. Ему Будда уделял особое внимание. Он знал: ничто не угрожает так сильно действию и стойкости учения, как сансара. Потому что никто не подвергается мирским искушениям больше, чем монах. Этот потенциал искушений не уменьшился с основанием женского ордена. Он стал значительно больше. Будда знал это. И все-таки он считал, что под надзором монахов монахини защищены больше, чем при самоуправлении.
Другой опасностью для порядка, особенно для наиболее трудно соблюдаемого правила целомудрия, были постоянные встречи монахов с женщинами во время их походов за милостыней. Там могло дойти до искушения и даже до совращения. Будда также знал это. И ему было ясно, что одними запретами ничего нельзя урегулировать, ничего нельзя предотвратить.
Несмотря на это, он после согласия на женский орден однозначно ужесточил правила для монахов и впервые точно сформулировал их.
При этом он разработал восемь категорий правил поведения, которым монахи и монахини обязаны были подчиняться. Изданные Буддой для монахинь правила поведения были действительны для членов женского ордена и вис его.
На первом плане устава стояли законы Параджика, нарушение которых влекло за собой немедленное исключение из ордена. Они запрещали убийство, кражу, половые сношения (также и с животными), притязания на обладание более высоким духовным саном и злоупотребление им.
Последнее было среди аскетов и нищенствующих монахов времен Будды любимым средством возвеличить себя и добиться всеобщего восхищения.
Другие категории касались прежде всего жизни самих монахов: поведение монахов и монахинь в общественных местах, общение друг с другом и с посторонними, вопросы собственности, распорядок дня, питание и отношение к родителям, детям и родственникам.
Монахи не имели нрава работать, а также обрабатывать поля. Они полностью зависели от милостыни. Контакты с родственниками были запрещены. Посещать можно было только умирающих родителей; другие посещения семьи были запрещены.
Существовали наставления или по крайней мере указания по паломничеству и пребыванию во время сезона дождей. При этом Будда видит как в бесцельном странствии, так и в длительном пребывании на одном месте побуждающие к раздумью предпосылки. Хотя он сам форсировал основание монастырей, но был против того, чтобы долго оставаться на одном месте. Он говорит: «Длительное пребывание на одном месте имеет пять недостатков: имеют много вещей и накапливают их. Имеют много лекарств и сохраняют их. Появляется много дел, появляется много хлопот, начинают пускаться в самые различные виды деятельности, поддерживают отношения с монахами и хозяевами и вращаются в неподходящем обществе».
В основе таких размышлений, естественно, лежат принципы учения и вообще выясняется, что между учением и уставом ордена существует непосредственная связь. Если бы каждый монах и каждая монахиня буквально воспринимали бы учение, принимали его к сердцу и воплощали в повседневной жизни, то и устав ордена был бы не нужен.
Но Будда не был подвержен иллюзиям. Он знал людей и постоянно демонстрировал им их слабости. Общине монахов он объяснил, что при постоянном соблюдении указанного им Срединного Восьмеричного Пути и его четких толкований между ними не может возникать трудностей. На это он постоянно ссылался, если видел ссорящихся монахов или слышал обвинения и клевету, которые при тесном совместном пребывании, особенно в сезон дождей, могли привести к отравлению атмосферы в монастыре. Для сообщества монахов это были проблемы, которые нельзя было недооценивать.
С другой стороны, Будда добился многих преимуществ для ордена и его членов по сравнению с мирскими авторитетами. Не случайно он был дружен с большинством повелителей своего времени. Многие просто примыкали к его учению.
Орден имел такую же строгую организацию, как любой город того времени, что ввиду разбросанности монахов и монахинь по всей стране было не так просто. У правительств и управлений было получено право членам ордена совершать обходы для сбора милостыни.
Общество монахов было самостоятельной единицей, поскольку его члены подчинялись не государственному правопорядку, а подсудности ордена. Это могло привести к опасной конфронтации и конфликтам, если виновный пытался уйти от государственного уголовного преследования с помощью вступления в орден.
Так, после основания женского ордена сообщалось о женщинах, нарушивших супружескую верность, которые искали убежища в ордене, потому что мужья в Индии того времени имели право убить женщину, уличенную в супружеской измене.
Известны решения царей в пользу таких женщин, что означает, что злоупотребление убежищем, которое здесь явно имело место, возможно, рассматривалось как терпимый проступок, если это позволяло проявить больше человечности. Именно это и входило в цели Будды и его учения.
Что необходимо уточнить в этой связи, так это большую ответственность, которую Пробужденный вынужден был нести, несмотря на его отстраненность от мира.
Он был верховным представителем и верховным судьей ордена. Он был обязан вести все переговоры с властителями и коммунами. С другой стороны, он, как показывают многочисленные примеры, заботился о каждой мелочи повседневной жизни монахов. Часто он хвалил, но и не скупился на справедливое порицание.
Он посещал больных и дарил им утешение, давал советы по сохранению здоровья, ввел обычай чистить зубы и обучал правилам поведения при чихании и других физиологических функциях организма.
Будда занимался даже проблемой отхожих мест в монастыре, пока, наконец, не было найдено приемлемое для того времени гигиеническое решение с крытыми домиками.
Все эти заботы также подтачивали здоровье Будды, как и многочисленные проблемы, конфликты и споры, с которыми обращались к нему как главному в ордене.
Несмотря на все эти нагрузки, Будда оставался веселым, готовым помочь и научить, образцом для каждого, кто с ним знакомился.
Его усилия были направлены на укрепление и сохранение общества монахов, это следует из многих высказываний Пробужденного.
Хотя он перекладывал на старших монахов, прежде всего на своих ближайших доверенных из начального периода ордена, все больше и больше задач, однако он до последнего сохранял руководство в своих руках.
Важные решения принимались на собраниях монахов, где свое мнение мог высказать каждый посвященный в сан и каждый молодой послушник. Голосования не было. Но каждый высказывался, проблема обсуждалась до тех пор, пока не достигалось согласие. Это удавалось очень часто, но не всегда.
Чем старше становился Будда, тем больше его беспокоило будущее ордена. Это явствует из его многих более поздних высказываний. На собрании ордена в Раджагахе он велел присутствующим монахам обдумать семь предпосылок для сохранения и процветания ордена. При этом он предсказывал ордену хорошее будущее, «пока монахи регулярно проводят собрания и посещают их; пока они собираются и единодушно принимают решения; не вводят новшеств, а живут по действующему порядку; высоко ценят отцов ордена и старых монахов и молодые слушаются их; не подчиняются злу, которое ведет к новому рождению; живут в лесных хижинах и хорошо обращаются с чужими монахами».
Если будут соблюдаться эти семь правил, так говорил Будда на этом важном, указывающем в будущее собрании монахов, ордену не угрожает опасность упадка и разрушения, он будет процветать и дальше.
Однако и общество монахов, и мирских приверженцев Будда принимал близко к сердцу, постоянно стремился увеличить их число. Поэтому он часто обращался со своим учением к простым людям в городах и деревнях.
Как и в ордене, речь была ввиду широко распространенной неграмотности единственно доступной всем формой поучительного высказывания, причем бесконечные повторения служили углубленному пониманию ее, а также были предназначены для тех, кому вообще трудно было воспринимать сказанное. Для обучения более высокой степени они все равно были необходимы, тем более что Будда хотел охватить всех людей.
Как бы ни важны были ему монахи и мирские последователи из высших слоев, как, например, из касты брахманов, в общем он очень мало обращал внимания на общественное положение своих приверженцев. Он приветствовал и тех, кто не принадлежал вообще ни к какой касте, с чем его ученики-брахманы мирились с большой неохотой.
Будда ясно видел, что только относительно немногие люди могли поступательно следовать его учению о Восьмеричном Пути, хотя он и называл его Срединным, рассчитанным на нормальные человеческие условия. Он знал, как много искушений стояло на пути даже пожилых монахов, не говоря уже о большом количестве заинтересованных, возможно, даже очень старающихся мирян, которым с трудом давались даже первые шаги, если они вообще на это решались.
Но и хорошо подготовленные, как убедился Будда и пережил сам в своих прошлых жизнях, могли отступить и вернуться к старому, пока они не освободились из плена сансары и не пробудились от земного сна.
К результатам такого тяготения к прошлому Будда причисляет ряд явлений, от которых никто не защищен, пока не оставил позади себя изменяющийся мир, в котором мы все родились. Это перечисление свойств и форм поведения, которые человек не сразу распознает в своей собственной жизни, как бы он с ними ни боролся. Это признаки регресса:
«Радоваться жизни, быть ленивым, вялым и слабым при осуществлении хороших планов; изображать кажущуюся деловитость; следовать настроению и питать враждебные чувства; не быть склонным к созерцанию изменения вещей; считать важными подарки, честь и славу; при личном стремлении к успеху использовать нечистые и сомнительные средства или коварство; проявлять кокетство и самовлюбленность; довольствоваться малыми добродетелями и не стремиться к большему; на свой вкус оценивать и судить других; быть невнимательным при изучении духовных понятий и не делать выводов; при изучении духовных вещей извлекать для себя личную пользу; действовать быстро и необдуманно; не отбрасывать жестокие мысли по отношению к другим; не спрашивать мудрецов и наставников о спасительных вещах; при смешанном образе жизни, когда происходит смена темноты и света, подавлять в темноте свою совесть; не отказываться от полюбившихся, но признанных ложными взглядов».
Все это – человеческие черты характера как тогда, так и сегодня, которые Будда определяет в своем учении как формы выражения сансары. При этом он хорошо понимал, как трудно человеку расстаться с тем приятным, что здесь сконцентрировано.
Довольно часто земные качества и формы поведения человека преподносились Будде при его посещениях городов и деревень как желание и воля собравшихся для обучения. Так это было и при посещении Буддой брахманской деревни Велудвара, где у его ног собралась большая община брахманов.
Отношение брахманов к Будде было чрезвычайно различным. Оно колебалось между глубоким почитанием и скепсисом. В своем отношении к учению собравшиеся были едины: они хотели приобрести новое, не отказываясь от старого. Они хотели сохранить собственность и одновременно испытать небесное блаженство. От Будды они ожидали указания пути к достижению этого.
Как следует из пятого тома «Самьютта-Никайя»(в переводе Г. Геккера), их обращение гласило: «Мы, господин Гаутама, имеем желание, волю, стремление жить среди толпы детей. Мы охотно применяем сандаловое дерево из Бенареса. Мы украшаем себя венками, духами и мазями. Нам нравится золото и серебро. А при разрушении организма, после смерти, мы хотим попасть на правильный путь, ведущий в небесный мир. Так как мы имеем такие желания, такую волю, такое стремление, то пусть учение господина Гаутамы укажет нам, как нам достичь этого».
Будду не смутила эта высокомерная, вызывающая речь. В изложении своего учения он, видимо, учитывает представления брахманов, но развивает из этого основы своего учения.
Он говорит о взаимодействии радости и горести, об обусловленности всех поступков, которые мы совершаем и с последствиями которых мы должны смириться. Из этого он делает вывод о необходимости правильных действий для преодоления разочарования и страданий.
По сравнению с притязаниями брахманов эта речь является диалектическим шедевром, который так затронул и убедил слушателей, что они в тот же вечер безоговорочно приобщились к учению.