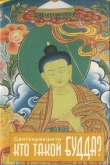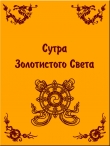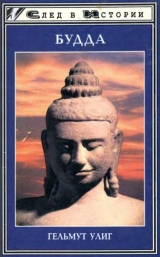
Текст книги "Будда"
Автор книги: Гельмут Улиг
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
О правильной ясности разума Будда говорит на седьмой ступени своего Восьмеричного Пути. В новом издании «Слова Будды»Ньянатилока называет ее ступенью правильной внимательности.
Ее четыре основы состоят в рассмотрении тела, чувств, мысли и объектов мысли. Целью этого рассмотрения является познание и рассудительность после преодоления чувственных желаний и боязливых, горестных мыслей.
В то время, как под правильной речью подразумевались высказывания, а под правильными действиями – поведение человека, на седьмой ступени мы имеем дело с внутренним человеком, с его мыслями и его чувствами: с сознанием и восприятием.
Будда считал, что это является решающим шагом к просветлению для монахов, глубоко проникших в его учение. Он называет эту седьмую ступень сатипаттханаи объявляет о ней в своей знаменитой речи о понимании внимательности в «Сутре сатипаттхана».
При рассмотрении тела на первом месте стоят вдох и выдох. Они являются также важнейшей предпосылкой для первого упражнения сатипаттханы. Сатипаттхана должна привести упражняющегося к тому, чтобы, глядя на себя, он отделился от собственного тела, сделал его объектом наблюдения и освободился из-под власти своего тела.
То же самое касается и рассмотрения чувств. Анализируя чувства, рассматривая их, освобождаются от их связывающего, эмоционального воздействия. Их воспринимают, как и функции тела, как преходящие явления, которые непродолжительны и поэтому не имеют значения. Мы воспринимаем их как приятные пли неприятные, пока они господствуют над нами, пока определяют запас наших ощущений.
При рассмотрении мысли различия становятся еще более явными. Все, что мы делаем и творим, управляется мыслью, происходит от мысли: добро и зло – картинки мира во всех их господствующих над нами или нами вызванных явлениях.
Из мысли исходит все. В мысли все отражается. Здоровый или нездоровый образ мыслей определяет наше бытие. Правильные мысли должны управлять теми упражнениями, которые позволят нам прийти к ясному видению и, наконец, к покою. Но необходимая здесь концентрация достигается с большим трудом, чем в сфере наблюдения за телом. Чтобы познать наши мысли извне, рассматривать их отстраненно от себя, необходимо предварительно освободиться от всех внешних и внутренних связей. Предпосылкой является полное отторжение мирских, телесных зависимостей и оков сознания «Я».
Восьмая ступень Срединного Восьмеричного Пути – правильное сосредоточение – является высшей ступенью медитации перед моментом пробуждения.
Я еще не встретил ни одного человека, который мог бы сказать, что он достиг ее. Но временами рядом с моими друзьями-буддистами в монастырях между Ладакхом и Таиландом у меня возникало такое чувство, будто я смотрю в глаза одному из пробужденных. Это касается приверженцев хинаяны, а также приверженцев различных направлений махаяны и ваджраяны. Я не думаю, что от метода передачи знаний зависит достижение поставленной цели. Потому что цель находится, не зависимо от всех слов, в молчании, к которому пытается прийти каждый, а это значит – в нем самом.
Самма-самадхи, привыкший к погружению, говорит о восьмой ступени Срединного Восьмеричного Пути, которая требует правильного сосредоточения, полной концентрации. Это только слово, но как трудно нам осуществить его.
Здесь мы находимся – и это нужно ясно себе представлять – на границе перехода в будды.
Самма-самадхи можно достичь только в сочетании со второй ступенью – правильное убеждение, шестой ступенью – правильные усилия и седьмой ступенью – правильная внимательность. Этим создается предпосылка для выхода из взаимосвязей и отношений этой жизни.
В состоянии невозмутимости и ясной мысли настроенный таким образом человек достигает первого погружения.
В переводе Ньянатилоки речей Будды мы читаем о самма-самадхи: «Первое погружение освобождено от пяти вещей, взамен которым приходят пять других. Когда ученик, братья мои, вступает в первое погружение, то уже угасли ненависть и вожделение, ушла вялость, угасли беспокойные мечтания, угасло болезненное сомнение, а появились: размышление, раздумье, радость, счастье и концентрация.
А дальше, братья мои, после исчезновения раздумий и размышлений приобретает ученик внутреннее спокойствие, единство души и достигает свободного от размышлений и раздумий, рожденного в самоуглублении, одухотворенного радостью и счастьем второго погружения.
А еще дальше, братья мои, после того, как пройдет радость, пребывает ученик в покое, ясном уме, ясном сознании и внутри его возникает то чувство, о котором святые говорят: «Счастливо живет невозмутимый, пребывающий в ясном уме», – так вступает он в третье погружение.
А потом, братья мои, когда ученик отбросил радость и страдания и отрекся от веселья и печали, то он вступает в безрадостное и беспечальное состояние, в полное покоя и ясного сознания четвертое погружение.
Это, братья мои, называется правильной концентрацией».
Глава XI
Странствия Будды и их следы
Сейчас мы открываем главу, содержание которой могло бы заполнить несколько томов – томов о событиях и учении, которые определяли в дальнейшем жизнь Пробужденного. Эта глава посвящена земным странствиям Будды как учителя и проповедника. Его ученики подробно рассказали об этом периоде, выучили наизусть его речи и позже записали их, при этом бросается в глаза значительное совпадение различных вариантов текста. Мы должны взять за основу очень точный, не изменяющий оригинальные речи и не искажающий их источник, составляющий обширный сборник связанных между собой текстов.
Описания жизни Будды, комментарии к его учению и спекулятивные тексты, посвященные буддизму, во много раз превосходят то, что было сохранено и переведено на многие языки.
Одну из таких книг, из которой мы многократно уже приводили цитаты – «Жизнь Будды»Юлиуса Дутойта, – автор в марте 1906 года начал следующими словами: «В последние десятилетия опубликовано такое множество научных и популярных произведений о Будде и буддизме, что возможно покажется дерзостью приумножать столь богатую литературу еще одной книгой».
Эта фраза без изменений и с еще большим основанием могла бы предшествовать моей книге.
Однако я думаю, что многие появившиеся в последнее столетие публикации, хотя, конечно, не все, имеют более глубокий смысл, который состоит в том, чтобы познакомить с учением Будды тех люден, которые вообще ничего пли недостаточно слышали о нем.
Задачу ознакомления с учением, которую Будда сам поставил перед собой и о которой мы хотим услышать, могут выполнять не только многочисленные переводы, исторические описания и комментарии. Для каждого времени постоянно требуется новая попытка передачи знаний, восстановления связей с настоящим и объяснение учения в духе того времени.
Как мы увидим далее, такие намерения существовали во все времена и в разных местах, но прежде всего в Азии. Они не только служили учению, но расширяли и дополняли его, о чем, естественно, возникало много споров как тогда, так и сегодня.
Возможно кого-то эта глава заставит задуматься о развитии учения, о развитии, о котором бы сам Будда сказал, что его вообще не существует.
Но его учение, и в этом нет сомнения, существует для нас. И есть бесконечно много людей, которые привержены ему тем или иным образом. Кто возьмет на себя смелость судить: «Этот на правильном пути, а этот на ложном?» Это может каждый узнать только на себе и для себя. Но, возможно, взгляд на учителя Будду кому-то сможет помочь в этом.
О пяти аскетах, которые стали его первыми последователями, мы уже слышали. Но уже в первые педели обучения Будда приобрел не только религиозное утешение, но и простых людей, которые занимались своими обычными делами. Это говорит о том, что люди видели в нем не сектанта, погруженного в раздумья, а они тысячами бродили тогда по дорогам Индии.
С момента сто пробуждения от него исходило излучение, которое придавало ему достоинство и выделяло как особенного.
Сразу же после просветления, о котором легенда сообщает как о цепи чудесных событий вокруг Будды, которые якобы уводили Пробужденного в «далекое мировое пространство», произошла первая исцеляющая встреча с мирянами.
Ими были два брата, Трапуза и Бхалика, которые с караваном товаров, состоящим из более чем ста волов, шли с юга на север.
Внезапно, недалеко от дерева бодхи, под которым Будда пребывал в своем просветлении, животные остановились без какой-либо видимой причины. Потребовалось вмешательство одной из богинь дерева, обитающих в этой местности, чтобы заставить волов каравана двинуться дальше. Тут братья и их спутники увидели Будду, отмеченного как солнце тридцатью двумя признаками Какравартина, сияющего как золото.
Купцы подумали, что видят перед собой божественное существо. Но когда Пробужденный приветствовал их, они признали в нем бывшего аскета. Чтобы отдать ему дань уважения, но и чтобы накормить его, они положили к его йогам особенно изысканное кушанье из меда и попросили принять его как милостыню. В тонко украшенной каменной чаше, которую ему протянули боги, он принял дар. Это была его первая еда после просветления. После этого чаша была поднята в мир бога Брахмы и почитается там с тех пор как высшая святыня.
Здесь первая встреча с мирянами как бы развивается в своего рода буддистскую легенду о Граале.
Будда вразумил обоих братьев, на которых он произвел такое сильное впечатление, что они полностью встали на его сторону и стали его первыми последователями из мирян.
Хронологически мы должны поставить это чудесное событие перед речью в Сарнатхе. Но, как мы видим, это легенда. Она, естественно, имеет историческое ядро, как все, что можно рассказать о странствиях и пути обращения Будды, овеянном легендами и сопровождаемом чудесами.
Примечательно, что в первое время его деятельности к нему примкнуло очень много представителей верхнего слоя. Такова история юноши Ясы, который пришел из Варанаси к Будде в Сарнатх и стал его учеником. Он происходил из богатого купеческого дома и ему надоела бессмысленная благополучная жизнь. Его предыстория имеет много общего с юностью самого Будды.
На нем Будда впервые испробовал поэтапное обучение. Он начал с простых вещей, таких, как раздача милостыни, праведный образ жизни и быстротечность чувственной радости. Когда он почувствовал, что Яса воспринимает и жаждет узнать больше, он заговорил о страдании и его происхождении, о том, как страдания постоянно поджидают человека в сансаре, в земном течении жизни, и объяснил ему, что нужно против этого предпринять.
Когда отец Ясы, посланный обеспокоенной матерью, нашел своего сына у ног Будды, то сначала рассердился, но потом был также глубоко поражен наставлениями Будды.
Отец и сын пригласили Просветленного на следующий день в их дом на обед и тот молча принял приглашение. Там он встретился с матерью и другими женщинами семьи Ясы. Всех их глубоко затронули Будда и его учение. После того, как Яса еще в Сарнатхе заявил о своей принадлежности к Будде – он был первым горожанином, который дал монашеский обет Будде, учению (дхарма) и ордену (сангха), – его примеру последовала вся семья.
«Будда, дхарма и сангха» – так с этих пор назывались три священные понятия, к помощи которых прибегали, когда присоединялись к быстро растущей общине Пробужденного.
С семьей Ясы к Будде с самого начала присоединились женщины как приверженцы-миряне. Во вновь образованный орден он принимал сначала только мужчин. Яса при этом был своего рода мультипликатором. Все больше и больше его друзей из Варанаси следовали его примеру, так что вскоре речь уже шла об общине святых.
Особенно примечателен для этого раннего притока приверженцев из влиятельных, богатых кругов из Варанаси тот факт, что они приходили из того города Северной Индии, правящий слой которого считался наиболее консервативным, тяготеющим к старым ведическим обычаям и подозрительно относящимся ко всем новым идеям и в котором господствовала ненависть к аскетам и недоброжелательность к нищим монахам.
Все чужое не воспринималось в этом городе на Ганге (сегодняшнем Бенаресе), который считался святым и, что следует отметить особо, черпал свои богатства из ритуалов и культа старой религии. Именно здесь превратили жертвоприношение в источник дохода, из этого источника жила также и семья Ясы, и это занятие уже давно было противно сыну семейства.
Это сопротивление, все больше распространявшееся среди населения, прежде всего относилось к ведическим кровавым жертвам.
Но брахманы все еще господствовали в городе, который уже тогда был переполнен паломниками, прежде всего теми, которые приходили сюда умереть. И это тоже было выгодным занятием, как и сегодня. Потому что индиец должен быть сожжен, по возможности, на Ганге, чтобы он мог быть уверен в лучшем перерождении.
Даже купание в священной реке было целью устремлений и означало религиозное очищение. И все это было связано с жертвоприношением, которое разоряло некоторые семьи и делало брахманов еще богаче.
В этой связи история Ясы проливает свет на обстановку того времени. Она позволяет также увидеть страстное желание человека выйти из этого закостеневшего порядка, который был губителен для людей, приводя их к обнищанию.
С этой исторической точки зрения учение Будды было частичкой критики существующих условий и вызовом, помощью в изменении неудавшейся жизни. При этом Будда приобретал не только друзей.
Брахманы и производители всех священных предметов, необходимых паломникам, а также изготовители ритуальной утвари и торговцы наблюдали за ним с недоверием и даже с презрением.
Ведь это он отвергал кровавые жертвы, не придавал значения священным омовениям в реке и разоблачал всю эту хлопотливую деловитость, называя ее тем, чем она была на самом деле: очковтирательством.
Но все это неприятие и враждебность никак не повлияли на успехи Будды. Орден – сангха – уже на занятиях с первыми последователями назван учреждением, возникшим из обещания Будды Брахме обучать своим знаниям.
Он с самого начала явился значительным противовесом существующему непрочному брахманскому порядку. И этим объясняется его значительный рост уже в первые месяцы его существования.
Очень скоро, читаем мы в «Махавагге»,великой книге дисциплины ордена, обучал Будда устремившихся к нему людей не один, а посылал своих монахов в различные части страны, чтобы проповедовать учение.
Мара, дух зла, вновь попытался воспрепятствовать этому. Но напрасно: колесо учения продолжает непрерывно вращаться. Это колесо направлено также против зла. Те, кто понял и увидел это, стали последователями Будды.
Создается впечатление, что и сегодня в таких же условиях развивается то же самое: новый всплеск свободной независимой мысли против ослепления времени – против «брахманов» нашего времени не зависимо от того, сидят ли они в правительственных креслах или на этаже руководства промышленным концерном. Даже если некоторые из них занимаются медитацией дзэн, они никогда не смогут освободиться от стечения обстоятельств сансары. Не может быть буддизма на время, буддизма на досуге или терапии буддизма. Такие действия неправильны и ложны, как и многое другое, на что сегодня навешивается ярлык буддизма. Это должен знать каждый, кто в какой-либо форме сталкивается с учением – здесь или в Азии, где буддизм также во многих местах стал источником дохода, как тогда ведическое жертвоприношение в Варанаси.
Во времена Пробужденного было сломлено высокомерие жрецов кровавых жертвоприношений, которое грозило привести страну к катастрофе. Так, царь Цасенади из Кошалы, впоследствии ставший верным последователем Будды, велел согнать вместе сотни животных, не возмещая ущерба их владельцам, чтобы исполнить требование брахманов и принести большую кровавую жертву для примирения с якобы рассерженными богами. Будда выступил против жертвоприношения и назвал его совершенно бесполезным, чем, естественно, вновь вызвал гнев брахманов.
Одно из крупнейших жертвоприношений того времени с тысячью животными Просветленный смог предотвратить благодаря мудрой аргументации. Он убедил решившегося на жертвоприношение брахмана, что было бы лучше раздать милостыню, поддержать монахов и построить им приют на период дождей.
Здесь впервые прозвучала идея закрытых домов общины, воплотившаяся уже во времена Будды в образовании монастырей.
Только один период дождей 528 года до н. э. провел Будда в Сарнатхе перед воротами Варанаси и в течение всех своих странствий никогда больше туда не возвращался.
Из Сарнатха он еще раз вернулся к месту своего пробуждения, чтобы провозгласить свое учение людям, с которыми он был близок в период своего аскетизма. Это было проявление сострадания, которое постоянно присуще Будде, особенно после его пробуждения. В сравнении с другими религиями, возможно, это является величайшим и прекраснейшим в учении Будды. Чем бы оно было при преодолении всего человеческого, сансары, без этого сочувствия человеку?
По дороге в Бодхгаю Будда встретил веселое общество, состоящее из тридцати мужчин с их женами. Один из них был неженатым. Для него в качестве участницы праздника наняли девицу легкого поведения, которая незаметно украла дорогие вещи и убежала. Мужчины бросились преследовать ее и встретили Будду. Они спросили у него, не видел ли он убегающую женщину. Он же задал им встречный вопрос, что они хотят от сбежавшей женщины. И они рассказали историю кражи. Для Будды это был благоприятный момент для того, чтобы повлиять на возбужденных мужчин в другом направлении. Он спросил их, что было бы лучше для них, искать женщину или самих себя. Спонтанно они ответили, что искать самих себя для них было бы лучше. Тогда Будда попросил их сесть рядом и объяснил им низшую ступень своего учения, наглядно показав им бессмысленность дешевых наслаждений и таящиеся в них опасности, которым они себя подвергают при этом, как та, что они только пережили.
Он говорил о неизбежной расплате за дурные поступки, которые накапливают плохую карму, и объяснил им Четыре Благородные Истины. При этом он отчетливо показал им различие между чувственными наслаждениями и счастьем правильного познания.
Все тридцать глубоко прониклись поучениями Будды и спонтанно вступили в орден.
Спонтанность таких решении, с которыми мы постоянно сталкиваемся в течение жизни Будды как учителя, может показаться страшной современному читателю. Но так как вся история Будды овеяна легендами, то мы можем предположить, что и история обращения в веру была [впоследствии стилизована.
Если рассматривать всю просветительскую деятельность Будды в целом, то четко просматриваются две экстремальные формы оказания влияния и обращения в его учение. Наряду со случаями спонтанного принятия решения встречаются длительные процессы, которые часто в какой-то момент, подобно взрыву, приводят к пониманию.
Примером этого может служить история Кассапо из Урувелы, начавшаяся непосредственно после возвращения Будды в область Урувелы, где столетний Кассапо, один из известнейших ученых-брахманов своего времени, содержал школу мудрости, которую посещали пятьсот избранных учеников. Он считал, что намного превосходит всех: других учителей, в том числе и Будду.
Чтобы разоблачить это превосходство как иллюзию, Будда, живший у Кассапо, становится магом, творящим чудеса. Здесь мы снова подгружаемся в атмосферу легенды. Будда побеждает поселившегося в его жилище духа змей. Кассапо наблюдает, как хижина наполняется сиянием Будды и к ней приближаются божественные существа, чтобы послушать его наставления. Когда Kaccaпo подготавливает большой жертвенный костер, Будда парализует работу дровосеков.
Четверть года длится это вновь и вновь развязываемое Кассапой соперничество, в котором он постоянно остается побежденным, не признавая этого.
Однажды, когда Кассапо опять пытается внушить свое превосходство, Будда раскрывает ему всю бесплодность и самообман подобных намерений. Наконец, Кассапо сдается. Он падает перед Буддой на колени и приобщается к его учению.
Все пятьсот учеников, уже давно наблюдавшие за конфликтом между ними, присоединяются к решению своего учителя. Они бросили предметы жертвенных ритуалов в реку, отрезали свои косы брахманов и трижды присягнули: Будде, ордену и учению.
Брат Кассапо также содержал школу, которая насчитывала триста брахманов и находилась на той же реке, ниже Урувелы. Когда они увидели ритуальные предметы, плывущие по реке, то испугались и подумали, что с Кассапо и его школой случилось что-то ужасное. Они отправились в Урувелу, где встретили вновь обращенных, узнали от них о чудесах, свершенных Буддой, и также примкнули к его учению. Также и третий брат Кассапо, переубежденный Буддой, перешел в орден Будды с двумястами учениками.
Теперь с Буддой была тысяча новых монахов, вместе с которыми он переселился к горе недалеко от места его просветления. Там он, учитывая серьезное отношение к жертвоприношению огню в этой стране, которое сам считал абсолютно бесполезным, прочитал знаменитую огненную проповедь. Все его слушатели были бывшими жрецами огня.
Избрав огонь своей исходной точкой, он объяснил сансару. Как огонь постоянно пожирает себя, учит Будда, так и проходит жизнь беспокойного, не нашедшего себя человека, придерживающегося бессмысленных обычаев. В тот день состоялось самое большое массовое обращение в учение Будды.
После огненной проповеди, о которой много рассказывали, к Пробужденному устремились новые толпы, основную часть которых составляли брахманы. Так пошатнулось духовное господство консервативных, цепляющихся за старые религиозные обычаи проповедников жертвоприношения.
Постепенно начал изменяться наследованный, критикуемый многими порядок в городе и деревне, а картина внешнего мира и формы жизни приобрели другие очертания.
Более чем с тысячью монахов странствовал Будда по стране, постоянно отсылая в отдаленные земли группы приверженцев, которые проповедовали там его учение. Эта фаланга безнасильственной демонстрации за правильное мышление и правильную жизнь представляла меж тем мощное движение, перед которым мало кто мог устоять.
В отличие от прошлого, когда аскетов и нищенствующих монахов считали обременительными, теперь многие почитали за честь наполнить чашу для подаяния ученикам Будды.
Подобно войску проходили мирные, излучающие добро толпы монахов по дорогам Северной Индии. Их невозможно было не заметить, их деятельность невозможно уже было подавить.
Главные силы отправились из Бодхгаи на северо-восток, в Раяджаху, где Будда хотел провозгласить свое учение царю Магадхи Бимбисаре.
Бимбисара, который уже при первой встрече испытал большую симпатию к Сиддхартхе Гаутаме, был очень рад посещению Будды и принял его со всеми почестями. После обстоятельных наставлений, которые дал ему Просветленный, Бимбисара попросил принять его в мирскую общину Пробужденного. В знак своей радости от посещения Будды он подарил ему и монахам парк Велувана, большую бамбуковую рощу, для проживания и медитации.
Так орден получил свое первое землевладение, которое вскоре было увеличено, так как все больше князей и помещиков проявляли симпатию к Будде и не скупились на щедрые подарки, прежде всего на земельные угодья. Из них возникли первые монастыри, которые предоставляли убежище монахам, особенно в сезон дождей с муссонными ливнями.
Сезон дождей 527 года до н. э. тридцатишестилетний Будда провел в парке Велувана, где к тому времени уже возникли приюты для монахов.
Концентрация такого количества монахов на окраине города, население которого составляло в то время не более пятидесяти тысяч человек, естественно, тяжким бременем ложилась на жителей, тем более, что за толпой монахов Будды, что само по себе было первоклассным аттракционом, следовали многочисленные аскеты и нищие, которые подобно потоку выливались на улицы Раяджахи, прося милостыню.
Со стороны населения раздавалась критика и были справедливые возмущения, на которые Будда отвечал в свойственной ему спокойной манере.
Ему была прежде всего важна строгая дисциплина монахов не только в обхождении друг с другом, но и с окружающим миром. Так появился первый указ о правилах в ордене.
По окончании сезона дождей Будда, помня о своей клятве, отправился с несколькими сведущими учениками в путь на Капилавасту. Об этом посещении родительского дома сохранились самые различные сообщения.
Большого успеха, которого последователи Будды ожидали именно здесь, не было. По прибытии в родной город он переночевал сначала в роще Нигродха, которую с юности помнил по своей первой встрече с аскетами.
О его прибытии радже Шуддходане сообщили только на следующий день, после того как Будда вышел в город, прося милостыню. То, что сын просил милостыню в родном городе, раджа воспринял как невыносимый позор и поэтому грубо упрекнул его.
Особенно безрадостной, видимо, была встреча с женой Яшодхарой, которая не могла простить ему тайного побега из дома.
Однако посещение Капилавасту не стало для Будды удачной миссией.
Самая своеобразная история его пребывания в Капилавасту связана, однако, с восьмилетиям сыном Будды Рахулой, который бежал якобы за Просветленным, когда тот покинул дом, и кричал ему вслед слова, внушенные ему матерью: «Дай мне мою часть наследства». В ответ на это Будда направил его, толкуя его слова как просьбу о помощи, к одному из своих умнейших последователей Шарипутте послушником. Возможно сегодняшнее законодательство расценило бы этот случай как похищение ребенка. Легенда же Будды представляет и это двусмысленное событие как чудо.
Второй случай сомнительного обращения рассказывает о сводном брате Будды Нанде Гаутаме, который явно против воли, из уважения младшего к старшему, уступил настояниям Будды и вступил в орден. Однако хорошо известно, что Нанда был гурманом и любителем красивых женщин. То, что легенда в конечном счете преподносит как успех Будды, а именно, будто он все-таки убедил Нанду в том, что учение приносит большее счастье, мало правдоподобно.
Несмотря на некоторых новых последователей, приобретенных им в Капилавасту, все-таки остается впечатление, что там он потерпел неудачу. Здесь сами собой напрашиваются слова о том, что нет пророка в своем отечестве.
Понятно, что после таких переживаний тянуло назад в Раджагаху, где находился монастырь, готовый всегда принять под защиту его и сподвижников.
Там постепенно вырабатывался ежедневный уклад монашеского бытия, который был особенно важен в монотонный сезон дождей. Наряду с ежедневными походами за милостыней основное время прежде всего было посвящено обучению и медитации.
Так, параллельно шли речи, стимулирующие пробуждение у посторонних, проходило и дальнейшее обучение монахов, охватывающее все сферы жизни.
С Дживакой, лейб-медиком царя Бимбисары, Будда беседует о еде монахов, прежде всего по вопросу потребления мяса. Будда не отклоняет мясо полностью, но настаивает на том, чтобы хозяева не забивали животных специально для монахов. И если монаха приглашают в дом на обед, то это не должно стать привычкой.
Тут обнаруживается тот факт, что наряду с вербовкой в орден на передний план все больше и больше выдвигается повседневная жизнь монахов и ее организация. Для Будды все это первостепенные вопросы. Он хорошо знает, что существование и будущее ордена в равной степени зависят от этого, а также от привлечения новых последователей.
Для одновременной стабилизации и дальнейшего расширения ордена парк Джетавана с его постройками был для Будды и его общины учеников идеальным местом, где он и провел следующие сезоны дождей.
Во время муссона 524 года до н. э. к Будде пришел посыльный из Весали, столицы Ликкхави, расположенной севернее Ганга. Там не было дождей. Засуха господствовала в стране. Многие стали жертвами голода. К тому же разразилась холера, имевшая опустошающие последствия. Будду попросили о помощи.
Эта просьба показывает, что Просветленного давно считали способным не только на обращение людей в свое учение, но и на чудеса.
Будда действительно отправился в трудный путь. Когда он перешел Ганг, внезапно начались ливни, которые обеспечили стране с нетерпением ожидаемый урожай.
Естественно, Будду чествовали как великого спасителя, и его слава чудотворца быстро распространилась по всей стране. Мы не знаем, действительно ли он видел себя чудотворцем, призвавшим воду, и как он относился к почитанию, которым его окружили.
И здесь, как почти всегда в его жизни, переплетаются снова исторически доказуемое событие и легенда, которой стала его жизнь в последующие десятилетия, хотя в ней явно прослеживаются его действительные дела.
Мы знаем масштабы его дальних странствий в последующие десятилетия и мы знаем о его успехах. Многие остановки во время этих странствий подтверждены знаменитыми речами.
Но легенда на ставит границ на дорогах Будды. Она ведет его не только через всю Индию (что является большим преувеличением), но и – в более поздних, ничем не удостоверенных текстах – в Шри-Ланку, Бирму и Таиланд, где до сих пор почитаются следы его ног. Это огромные так называемые отпечатки ног в скалах длиной до трех метров доказывают, по буддийским поверьям, пребывание Пробужденного в этих странах.
Мы же хотим совершить с ним сначала воздушное путешествие, которому, однако, есть и исторический аналог.