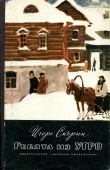Текст книги "Повесть об уголовном розыске [Рожденная революцией]"
Автор книги: Гелий Рябов
Соавторы: Алексей Нагорный
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц)
Сергеев закрутил головой и рассмеялся. Чушь! Программа, которую предложил Владимир Ильич на десятом съезде, – истина, это не вызывает сомнений! Только индустриально крепкая страна выстоит в далекой исторической перспективе – это бесспорно! Что лучшего смогли предложить оппозиционеры и полуоппозиционеры всех мастей? Ничего! А раз так – мы не только имеем моральное право бороться с ними – мы обязаны, мы не имеем права поступать иначе, потому что идущие на смену нам поколения не простят этого…
Несколько дней Пантелеев отсиживался в своей конспиративной квартире на Лиговке. Он и два его сообщника пили без просыпу – на кухне и в ванной скопилось огромное количество бутылок из-под водки. Сообщники рвались на дело, им надоело отсиживаться. А бандит метался по ночам, вскакивал с дикими воплями, а один раз едва не пристрелил своих дружков – померещилось, что в комнату ворвались агенты УГРО… Каждый раз, когда сообщники просили его выйти на улицу, Пантелеев покрывался липким потом и начинал хрипеть, бешено закусывая губы. Дружки отставали, но через час-другой все начиналось сначала. И Ленька понял, что от судьбы ему не уйти. Вечером знакомый извозчик подогнал пролетку. Решили для начала проехаться по городу просто так, без дела, присмотреться и, если все будет тихо, взять на гоп-стоп пару-другую прохожих – размяться.
…С набережной Фонтанки свернули на Сергиевскую. Вдоль обшарпанного здания прачечной шли двое – мужчина и женщина. Начинались белые ночи, и, несмотря на поздний час, хорошо было видно, как нежно склонилась молодая, красивая женщина к плечу высокого мужчины.
Пантелеев толкнул кучера, тот осадил лошадей рядом с парочкой.
– Добрый вечер, – обратился Пантелеев к мужчине. – Далеко ли путь держите?
– Нет, недалеко, – сказал мужчина, присматриваясь. – Чему обязан, собственно?
– Деньги, часы, документы, – спокойно приказал Пантелеев.
Женщину колотило от испуга. Мужчина заметил в руке одного из бандитов револьвер и послушно кивнул:
– Не бойся, Аня. Сними серьги, отдай им кольцо. Вот мой бумажник и часы… Все?
– Все, – кивнул Пантелеев. – Проваливайте.
Мужчина бросил бумажник и все остальное на тротуар, взял женщину под руку, и они медленно двинулись в сторону Фонтанки.
– Что же не спросите, с кем поцеловаться пришлось? – в спину им усмехнулся Пантелеев.
Мужчина обернулся:
– Вы – Пантелеев, я это сразу понял. Моя фамилия – Студенцов, а это моя жена. – Студенцов презрительно усмехнулся: – На что рассчитываете, гражданин Пантелеев? Ведь у вас в запасе день – два – три. Идем, Аня.
– Никто не знает, когда умрет, – вздохнул Пантелеев. – И вы не знаете. Идите с богом.
– Мне страшно, Сергей, – сказала женщина.
– Пустяки. – Студенцов обнял ее. – Бояться нужно не нам…
Они пошли. Пантелеев оскалил зубы, захрипел.
– Обидели нас, – сказал кучер. – Гордые.
Пантелеев дважды выстрелил в спину Студенцову и его жене. Оба рухнули.
– Барахло возьми. – Пантелеев спрятал маузер. Кучер подобрал деньги и драгоценности. Ленька протянул руку: – Дай-ка.
Пантелеев покачал на ладони часы и бумажник, посмотрел на свет камни в серьгах и равнодушно швырнул все в сток у кромки тротуара.
– Трехнулся, – охнул кучер.
Ленька взглянул на него пустыми глазами:
– Все суета сует и томление духа. Он, Филя, прав. Чует сердце – настают мои последние денечки.
…Это были кровавые «денечки». Понимая, что расплата неминуема, Пантелеев совершенно озверел. Преступление следовало за преступлением, одно страшнее другого. Не проходило дня, чтобы в сводке происшествий Петроградского УГРО не появилась бы фамилия: Пантелеев. Оперативные группы ОГПУ и милиции шли буквально по пятам бандита, но он в последний момент ускользал.
На одном из очередных совещаний первой бригады УГРО неожиданно появился начальник петроградской милиции. Он прекрасно понимал, что и Бушмакин, и его сотрудники – опытные, преданные своему делу люди, из кожи вон лезут, чтобы обезвредить Пантелеева и его банду. Он знал, что никакими словами и призывами сейчас не поможешь, но наступил тот последний, крайний момент, когда нужно было что-то сделать, сказать, чтобы сдвинуть с мертвой точки затянувшийся розыск бандита. Собственно, никакой «мертвой» точки не было. Шла напряженнейшая круглосуточная работа, и только непосвященному человеку могло показаться, что дело не двигается. Оно двигалось, происходило то незаметное накопление мероприятий, которое вот-вот должно было дать качественный результат. Теперь уже не могло быть никаких случайностей. То, что на первый взгляд даже и выглядело случайностью, на самом деле было подготовлено всем ходом событий.
– Объективно всех нас нужно судить, – сказал начальник управления. – И это произойдет, если в ближайшие часы Пантелеев не будет взят. Я не призываю вас соревноваться с товарищами из ГПУ – мы работаем вместе, но я напоминаю вам, что дело нашей чести – обезвредить Пантелеева. Мы его породили, мы его и убьем. Это не шутка в данном случае, а повод для глубоких раздумий. Бушмакин, доложите обстановку.
– Вчера убиты супруги Студенцовы, – сказал Бушмакин. – Сегодня утром – муж и жена Романченко, их квартира разгромлена. Эти два случая имели место в течение последних двадцати четырех часов.
– А мы снова заседаем, – сказал начальник. – И каждый думает: вот сейчас, сию минуту зазвонит телефон и мы узнаем: кто-то убит, ограблен. Бушмакин, у вас есть план, который реально гарантирует уничтожение банды?
– «Закрыты» притоны, малины, хазы… Там наши люди. «Закрыт» ресторан «Донон». Кондратьев сумел убедить швейцара, и тот согласился нам помочь. Вообще-то он человек сомнительный, но у нас нет другого выхода. Будем надеяться, что он сообщит, если Пантелеев появится в ресторане. Арестованы тридцать пять человек, которые проходили как прямые связи Пантелеева. Их допрашивают. На учете все без исключения скупщики краденого. Около них – наши люди… Улицы усиленно патрулируются нарядами милиции… На вокзалах установлено круглосуточное дежурство. Считаю, день-два – и конец, – закончил Бушмакин.
– Многим за эти день-два сколотят гробы… – вздохнула Маруська. – Зря я его тогда не пристрелила. Пару лет отсидела бы, зато сколько людей в живых осталось бы.
– Глупость говоришь, – перебил Коля. – Публично расстрелять бандита, самосуд устроить – сегодня этот политический вред ничем не окупится.
– Верно, – поддержал начальник. – Работайте. Докладывать мне каждые два часа. Кстати. Почему я не вижу товарища Колычева? Он что, у вас в кабинете скрывается, Бушмакин?
Бушмакин покраснел, словно мальчишка, которого застали во время кражи сахара из буфета.
– Ладно, – улыбнулся начальник. – Мне Кондратьев осветил его роль в этом деле. Пусть работает. На мою ответственность.
Начальник ушел.
– Ай да ты… – Бушмакин посмотрел на Колю так, словно впервые его увидел. – Я, понимаешь, тяну с увольнением Колычева. Не то чтобы боюсь, – откладываю, понимаешь? А ты – раз и квас! Смел!
– Да чего там, – смутился Коля. – Я случайно.
– Не прибедняйся, – усмехнулся Бушмакин. – Ты любишь людей, Коля. А в нашем деле, я считаю, это главное.
Маша никогда не вспоминала о Смольном. Он канул в Лету, он навсегда остался в прошлой, выдуманной, вычитанной в романах жизни, той жизни, которая закончилась 25 октября 1917 года и о которой, конечно же, следовало забыть. Маша забыла. И вдруг спустя пять лет на заплеванной трамвайной остановке, где Маша стояла, сгибаясь под тяжестью огромной кошелки с картошкой, эта вроде бы безвозвратно опочившая жизнь дала о себе знать. За спиной процокали подковы, чей-то удивительно знакомый голос спросил:
– Ба! Да это же Вентулова! Чтоб я сдохла!
Маша обернулась. В шикарной лакированной коляске, запряженной парой серых в яблоках коней, стояла расфуфыренная девица и махала рукой.
– Ну конечно же! – продолжала девица. – У кого еще может быть такой красивый нос, губы и глаза, как не у Вентуловой, чтоб я сдохла!
– Лицкая! – удивилась и обрадовалась Маша. – Ты ли это? – Маша подошла к коляске. – Нет. Тебе я не могу отплатить той же монетой. Ты постарела и подурнела, уж извини.
– Ты пока что садись и говори, куда тебя везти, – кисло сказала Лицкая, но тут же снова заулыбалась: – Не могу на тебя сердиться! Нахлынули воспоминания, черт с тобой, я не сержусь, садись!
Маша с сомнением оглядела свое изрядно потрепанное пальто.
– Не знаю, удобно ли.
– Я не стесняюсь, – гордо заявила Лицкая. – Я человек широких взглядов.
– Это я стесняюсь, – улыбнулась Маша. – Меня могут увидеть в твоем обществе, у мужа будут неприятности. Кстати, поздравь меня: я теперь Кондратьева.
– Вентулова! – Лицкая всплеснула руками. – Где мои глаза? Что за метаморфоза? Можно подумать, что твой муж – мусорщик какой-нибудь!
– Он служит в уголовном розыске, – угрюмо сообщила Маша. – А что делает твой муж?
– А черт его знает, что он делает! – весело крикнула Лицкая. – Я ведь не замужем. Садись, не трусь, ты ведь у нас в отчаянных ходила! Тряхнем стариной!
Маша махнула рукой, что, вероятно, должно было означать – «пропадай, моя телега!», и села рядом с Лицкой.
– Гони, милый, – велела Лицкая кучеру. – Значит, в уголовке твой муженек? Коммунист?
– Само собой разумеется, – сухо сказала Маша. – А ты что, против коммунистов?
– Чтоб я сдохла! – расхохоталась Лицкая. – Ты разговариваешь, как следователь ГПУ! – Она вдруг погрустнела: – Знаешь, врать не стану. Отец торгует колбасой, я стою за прилавком. Вам полфунта? Пардон, самая свежая-с! Вам? Извольте-с. Хамство…
– Позволь, – изумилась Маша. – Если я не запамятовала, батюшка твой был камергером высочайшего двора?
– Тсс… – Лицкая шутливо приложила палец к губам. – Камергер дал дуба, а родился советский торгаш товарищ Лицкий. Папа отрекся от ключей, мундира и орденов. Он такой. Бал выпускной помнишь?
– Еще бы! – оживилась Маша.
– В тебя был влюблен Яковлев, помнишь?
– Яковлев… – Маша наморщила лоб. – Ну как же! Из царскосельского гусарского, да?
– Да, – Лицкая вздохнула. – Он убит, Вентулова. Под Перекопом.
«Ах, мадемуазель, – восторженно восклицал тогда Яковлев. – Вы такая… Вы такая… Слов нет, какая вы… А я, знаете, решил бросить военную службу. И знаете почему? Потому что я вижу – вы не любите военных!»
Маша закрыла глаза. Что он еще говорил? Не вспомнить… А она хохотала. До изнеможения. А почему ей было смешно? Не вспомнить… Ментик у него был красный. Ну, конечно же, – по форме полка, у них у всех красные. Убит. Возможно, кем-нибудь из товарищей Коли. Или нет? Впрочем, это уже все равно. А лицо? Да, какое у Яковлева было лицо? Не вспомнить…
– А потом, мы пошли к «Донону», помнишь? – щебетала Лицкая. – В блузках, эмансипе, помнишь? Ничего-то ты не помнишь, Вентулова. На тебя дурно влияет твой наверняка некрасивый муж, чтоб я сдохла!
– Где ты взяла эту дурацкую присказку? – раздраженно спросила Маша. – А муж мой – красавец! Глазищи… а цвет – как купол мечети, ясно тебе, Лицкая?
– Да все, все мне ясно! – счастливо улыбалась Лицкая. – А вот «Донон», видишь?
Они свернули с набережной Мойки и въехали на мост. Слева, в глубине двора, маячила вывеска ресторана.
– Зайдем? – подмигнула Лицкая.
– Ты с ума сошла! – Маша провела ладонью по своему пальто. – «Донон» теперь не для меня.
– Ну, положим, он и раньше был не для тебя, – высокомерно сказала Лицкая. – Ты, я знаю, выше «Астории» никогда не поднималась. – И, увидев, как нахмурилась Маша, заторопилась: – Я пошлая дура, прости меня, плюнь, – и за мной! Я угощаю! Все сметено могучим ураганом!
Она спрыгнула на тротуар и подала Маше руку:
– Сегодня я буду твоим кавалером, Вентулова. Вспомним молодость, чтоб я сдохла!
Они пошли в ресторан. У гардероба стоял величественный, как монумент, швейцар – весь в галунах, с раздвоенной адмиральской бородой.
– Чего изволят барышни? – осведомился он. У него были небольшие, близко друг к другу посаженные глаза, как у мыши, взгляд пристальный, цепкий.
– Ты, папаша, на полицейского осведомителя похож, – съязвила Лицкая. – Противный ты, прямо тебе скажу.
– Всякое дыхание да хвалит господа, – смиренно отозвался швейцар. – И осведомитель человек, барышня… Вы в залу пойдете или, может, отдельный кабинет желаете?
– Давай с большой ноги, – подмигнула Лицкая. – Займем кабинет.
– Чем промышлять изволите? – дружелюбно продолжал швейцар. – И велик ли нынче доход от вашего рукомесла?
Лицкая смерила его долгим взглядом и рассмеялась:
– Отомстил, черт с тобой. Квиты.
– Еще нет, – улыбнулся швейцар. – Латыняне говорят: возмездие впереди.
…Они заняли выгородку, отделенную от остального зала портьерой. Подошел сам метрдотель, подал прейскурант.
– Дорогуша, – сказала Лицкая. – Все самое вкусное в расчете на нашу комплекцию. И сухого шампанского. Спроворь! – Она весело потерла ладонь о ладонь и, перехватив изумленный взгляд Маши, сказала: – Все в прошлом, дорогая. Манеры – тоже.
Оркестр сыграл вступление, развязный конферансье с белым, словно обсыпанным мукой лицом томно сказал:
– Господа! И, конечно же, товарищи. Жизнь мимолетна, как взмах крыльев мухи. А муха, как известно, в секунду делает сто тысяч взмахов – ученые жуки это подсчитали, им все равно делать нечего. – Он подождал – не будет ли смеха? Но никто не засмеялся, и тогда конферансье продолжал: – Вечна в этом мире только любовь. И я предлагаю вам прослушать романс на эту вечную тему. Исполняет всем вам хорошо известный Изольд Анощенко!
На эстраду вышел певец – маленький, в кургузом пиджачке, с длинными, до плеч, волосами. Он поклонился публике и кивнул аккомпаниатору. Тот взял первый аккорд, певец сказал:
– Исполняется в который раз и все – по просьбе публики.
Он сложил руки у живота – ладонь в ладонь.
О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной, —
глуховатым, но неожиданно сильным голосом запел он.
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальной…
Маша переглянулась с Лицкой. Та вдруг погрустнела, опустила голову на сжатый кулак, сказала:
– Иногда мне кажется, что жизнь моя уже прошла, Вентулова. И все в прошлом… А разве она начиналась когда-нибудь, моя жизнь?
Я помню голос милых слов, —
с чувством пел Изольд.
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов…
– Небось теперь и ты не скажешь, чьи это стихи, – горько заметила Лицкая. – Все в прошлом, Вентулова. Все в прошлом.
– Стихи Батюшкова, – сказала Маша. – А музыку я не знаю. Ты не кисни, Лицкая. Все правильно – была одна жизнь, началась другая. Нам нужно не просто приспособиться. Нужно войти в эту новую жизнь. Войти! Ты постарайся это понять.
Маша обвела глазами зал. Нэпманы, буржуйчики с остатками капитала, просто случайные люди со случайными деньгами. Рвут зубами куриные ножки, с хлюпаньем запивают вином, и нет им никакого дела ни до новой жизни, ни до прекрасного романса. Они и в самом деле, как взмах крылышек обыкновенной мухи – сотая доля секунды – и пустота. А Лицкую жаль. Ей бы надо помочь. А как?
– Слушай, Лицкая, – сказала Маша. – Бросай ты свою колбасу! И фартук бросай – к чертовой матери, а?
– Ты думаешь? – недоверчиво спросила Лицкая. – А что же я стану делать?
– Я познакомлю тебя с мужем, – сказала Маша. – Придумаем что-нибудь. Главное – чтобы ты честно порвала со своей средой.
– А… отец? – спросила Лицкая. – Он прекрасно знает историю! Он хотел идти преподавать в университет, но его не взяли. Брали швейцаром, но он, естественно, не пошел. А торговля наша – тьфу! В конце месяца все равно лавочку прикроют – за долги!
– А как же лошади твои? – удивилась Маша.
– А-а… – Лицкая махнула рукой. – Да наняла я этого извозчика, а тебе пыль в глаза пустила, уж извини.
– Значит, договорились! – улыбнулась Маша. – И ты поверь мне, Лицкая, жизнь у нас с тобой только начинается!
В зал вошли четверо: двое мужчин и две девицы с ними. Метрдотель почтительно повел их к столику. Они сели напротив выгородки, которую занимали Лицкая и Маша.
Маша смотрела на вошедших с тревогой и любопытством. Вот этот, который сел рядом с брюнеткой в неприлично декольтированном платье. Неужели? Так… Ошибки быть не может. Это – Пантелеев. Слишком много фотографий пересмотрено – Коля часто их показывал.
– Знакомые? – спросила Лицкая.
– Подожди, я сейчас вернусь, – тихо сказала Маша.
– Поторопись, бифштекс остынет! – крикнула ей вслед Лицкая.
Маша вышла в вестибюль.
– Откуда можно позвонить? – спросила она у швейцара.
Он пристально посмотрел на нее, сделал приглашающий жест: – Извольте, я провожу. – Любезно открыл дверь и повел Машу по коридору.
Она шла рядом с ним, лихорадочно соображая, как и куда позвонить и что сказать, и ей даже в голову не приходило, что сбоку неторопливо шагает человек, который ровно неделю назад пообещал ее мужу, Николаю Кондратьеву, немедленно сообщить, если в ресторане появится Пантелеев. При этом швейцар внимательно изучил многочисленные фотографии Леньки и даже заметил вслух, что бандит, хотя и нервен на всех этих фотографиях, но все равно – красив. Маша не знала этого. Иначе у нее сразу же возникли бы сомнения: разве швейцар не видел входящего в ресторан бандита? Или видел, но не узнал?
Но у Маши не было никаких сомнений. И хотя у Николая Кондратьева сомнения были, он вынужден был ждать звонка. Он не знал, что швейцар – крупный наводчик, оставшийся в свое время вне поля зрения сыскной полиции, а впоследствии УГРО, являлся одним из самых опытных агентов Пантелеева.
Швейцар открыл дверь:
– Пожалуйте.
– Спасибо вам, дедушка, – ласково сказала Маша. – Вы идите.
Она сняла трубку.
Швейцар поклонился и закрыл дверь. Мгновение он стоял в раздумье, а потом приник ухом к дверной филенке.
– Коммутатор милиции? – услышал он взволнованный голос Маши. – Девушка, дайте мне первую бригаду УГРО! Кто это? Ты, Маруся? Плохо слышно! Пулей летите к «Донону»! Да не к Гужону, а к «До-но-ну!» Поняла? Здесь он! Он, говорю, догадаться должна! Бегом!
Швейцар отскочил от двери и помчался по коридору. У входа в зал он взял себя в руки, снял фуражку и неторопливо подошел к столику Пантелеева:
– Можно-с вас?
– Я сейчас, – кивнул Ленька сообщникам. – Что у тебя, Лаврентий?
– Там барышня одна в УГРО звонит, – сказал швейцар. – Вон из-за того столика. Вон ее подружка сидит. А мусора через пять минут будут здесь. Рви когти, Леня.
– Бабы, на выход, – приказал Ленька. – А вы, ребята, по углам. Как войдут – возьмем их крест-накрест… Ну, попомнят они Леню.
Швейцар подошел к Лицкой. Она все слышала и сидела белая, как стенка.
– Вот оно и возмездие, барышня, – улыбнулся швейцар. – А вы сидите себе тихо, и вас не тронут. Понятно объяснил?
Лицкая кивнула, не в силах удержать прыгающие губы.
– Водички попейте, – посоветовал швейцар и двинулся навстречу Маше – она уже шла к выгородке. Она была спокойна, сдержанна и только несколько побледневшее лицо выдавало ее состояние.
Лицкая смотрела на нее, не отрываясь. Внезапно, боковым зрением, она увидела, как Пантелеев что-то шепнул своему сообщнику, и тот, спрятав нож в рукав, направился Маше наперерез.
Лицкая хотела встать и не смогла – ноги сделались ватными, лицо покрыла испарина. Бандит и Маша шли навстречу друг другу. «Сейчас… – мысленно произносила Лицкая, – сейчас они сойдутся и…»
Она выскочила из-за стола и с диким воплем бросилась навстречу Маше.
– Беги! Спасайся, Вентулова, тебя убьют!
– А-а, – с ненавистью сказал Пантелеев.
Ударил маузер. Лицкая выгнулась и рухнула на чей-то столик. Посыпалась посуда. Нэпманы закричали, опрокидывая столы и стулья, бросились врассыпную. Кто-то сбил Машу с ног, и это ее спасло. Пули бандитских маузеров колотили фарфор, дырявили стены и мебель, валили бегущих, но достать Машу уже не могли.
В зал ворвались агенты УГРО. Впереди – Бушмакин, Коля и Маруська. Началась перестрелка. Пантелеев понял, что на этот раз перебить оперативников не удастся, их было слишком много, и крикнул:
– Прикройте меня!
Отстреливаясь, он бросился к окну.
Маша подползла к Лицкой. Та лежала лицом вниз, в крови.
– Лицкая, очнись, – заплакала Маша. – Наши здесь, все позади.
Лицкая открыла глаза, сказала с трудом:
– Ты… прости… затащила тебя сюда. Прости ради бога…
– Ты, ты меня прости, – зарыдала Маша. – Дура я.
Гремели выстрелы. Пантелеев видел, как агенты бросились на одного из его сообщников. Воспользовавшись секундной заминкой, он прыгнул на подоконник и, враз расстреляв всю обойму, выбил раму, но прыгнуть вниз не успел. Грянули револьверы сотрудников УГРО. Пантелеев закачался, теряя сознание, попытался схватиться за подоконник, но не удержался и рухнул вниз.
Оставшиеся в живых бандиты сразу же сдались. Их по одному вывели из ресторана, они шли, держа руки на затылке, шли сквозь молчаливый коридор невесть откуда собравшейся толпы.
– В сторону, граждане, в сторону! – покрикивали милиционеры.
Вышел Коля. Он поддерживал Машу под руку. Она двигалась с окаменевшим лицом, словно в полусне. Около трупа Пантелеева она остановилась. Бандит лежал, запрокинув голову, скосив остекляневшие глаза. Маша тронула Колю за рукав:
– Идем.
Подошли к автомобилю УГРО.
– Как звали твою подружку? – спросил Бушмакнн.
– Звали? – Маша снова заплакала.
Бушмакин и Коля переглянулись.
– Ты успокойся, – сказал Бушмакин. – Что уж теперь.
– Лицкая, – с трудом сказала Маша. – Лицкая.
– А имя? Имя у нее какое? – настаивал Бушмакин.
– Имя? Не знаю. – Она с недоумением взглянула на Бушмакина. – Тогда… там… мы все называли друг друга только по фамилии…
– Жаль, – сказал Бушмакин. – Ты не огорчайся. Имя мы, конечно, установим. Только я хотел сразу знать, кому мы все обязаны жизнью. Поехали, товарищи.
– Коля, – вдруг обратилась к мужу Маша. – Я прошу тебя: уйди ты с этой работы.
Коля виновато посмотрел на Бушмакина.
– Ты успокойся, Маша, – сказал тот. – Все образуется, все пройдет. Вот увидишь.
– А люди? – с болью крикнула Маша. – Они были живыми, эти люди, наши друзья, где они теперь?
– Идет борьба, – тихо сказал Бушмакин. – И кто-то должен отдать свою жизнь ради других. Иначе не бывает, Маша.
Автомобиль скрылся за поворотом улицы.
…А через несколько дней фотографии убитого бандита были развешаны по всему городу, а его труп выставлен в морге на всеобщее обозрение. Тысячи петроградцев пришли взглянуть на того, кто так долго держал в страхе огромный город, сеял смерть. С Пантелеевым и легендами о нем было покончено раз и навсегда.
Пантелеевских сообщников – их было около пятидесяти – суд приговорил к высшей мере социальной защиты.
Все они были расстреляны.