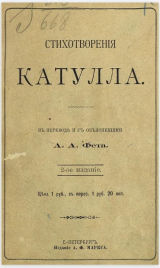
Текст книги "Стихотворения Катулла в переводе А. А. Фета"
Автор книги: Гай Валерий Катулл
Жанр:
Античная литература
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Annotation
Стихотворения Катулла
Владимиру Сергеевичу Соловьеву
Предисловие
Жизнь Катулла
№1. К Корнелию Непоту[2]
№2. К воробью Лезбии[6]
№3. Плач о смерти воробья[8]
№4. К галере[12]
№5. К Лезбии[18]
№6. К Флавию[19]
№7. К Лезбии[21]
№8. К самому себе[25]
№9. К Веринию[27]
№10. О возлюбленной Вара[29]
№11. К Фурию и Аврелию[36]
№12. К Азинию[40]
№13. К Фабуллу[45]
№14а. К Лицинию Кальву[49]
№14 b. Отрывок[54]
№16. К Аврелию и Фурию[55]
№17. К Колонии[56]
№22.[62] К Вару[63]
№23. К Фурию[67]
№24. К Ювенцию[70]
№25. К Фаллу[74]
№26. К Фурию[78]
№27. К мальчику-прислужнику[82]
№28. К Веранию и Фебуллу[86]
№29. К Цезарю[91]
№30. К Алфену[100]
№31. К полуострову Сирмиону[102]
№32. К Ипсифилле[106]
№34. К Диане[107]
№35. Приглашение Цэцилию[113]
№36. К Анналам Волюзия[118]
№38. К Коринфицию[125]
№39. К Эгнатию[127]
№40. К Равиду[133]
№41. К возлюбленной Мамурры[135]
№42. К неизвестной[137]
№43. К подруге Мамурры[141]
№44. К своему поместью[143]
№45. Об Акме и Септимии[150]
№46. К самому себе о приходе весны[155]
№47. К Порцию и Сократиону[160]
№48. К Ювенцию[164]
№49. К М. Туллию[165]
№50. К Лицинию[167]
№51. К Лезбии[170]
№52. К самому себе о Струме и Ватинии[172]
№53. О ком-то и Кальве[177]
№54. К Цезарю[178]
№55. К Камерию[182]
№58. К Целию и Лезбии[189]
№58b.[191]
№59. О Руфе и Руфуле[195]
№60. К Немилосердому[200]
№61. На бракосочетание Винии и Манлия[203]
№62. Брачная песнь[232]
№63. Аттис[241]
№64. Свадьба Пелея и Фетиды[266]
№65. К Орталу[315]
№66. Коса Береники[321]
№67. К двери[348]
№68a. К Аллию[359]
№68b.[366]
№68с.[384]
№69. К Руфу[389]
№70. О непостоянстве женской любви[391]
№71. Неизвестному
№72. К Лезбии[392]
№73. Неблагодарному[394]
№74. К Геллию[395]
№75+87. К Лезбии[398]
№76. К самому себе[400]
№77. К Руфу[401]
№78. О Галле[403]
№78b.[405]
№79. К Лезбию[406]
№81. К Ювенцию[409]
№82. К Квинтию[411]
№83. К мужу Лезбии[414]
№84. Об Аррии[416]
№85. О своей любви[417]
№86. О Квинтии и Лезбии[418]
№89. К Геллию[421]
№90. К Геллию[424]
№91. К Геллию[427]
№92. О Лезбии[429]
№93. К Цезарю[430]
№94. К хлыщу[432]
№95. «Смирна», стихотворение Цинны[433]
№96. Кальву о Квинтилии[439]
№98. К Виктию[440]
№99. К Ювенцию[441]
№100. К Цэлию и Квинтию[443]
№101. У могилы брата[445]
№102. К Корнелию[446]
№103. К Силону[448]
№104. К Неизвестному о Лезбии[450]
№105. К хлыщу[452]
№107. К Лезбии[455]
№108. К Коминию[457]
№109. К Лезбии[458]
№110. К Ауфилене[459]
№111. К Ауфилене[460]
№113. К Цинне[462]
№114. К хлыщу[465]
№115. К нему же[468]
№116. К Геллию[469]
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
Стихотворения Катулла
В переводе и с объяснениями А.А. Фета
Владимиру Сергеевичу Соловьеву
Пусть не забудутся и пусть
Те дни в лицо глядят нам сами,
Когда Катулл мне наизусть
Твоими говорил устами.
Прости! Лавровому венцу
Я скромной ивой подражаю,
И вот веронскому певцу
Катуллом русским отвечаю.
Боюсь, всю прелесть в нем убью
Я при такой перекочевки, —
Но как Катулла воробью
Не расплодиться в Воробьевке!
1885 года, 17-го мая
Предисловие
Применяясь к словам немецкого переводчика Ф. Гейзе, посвятившего многие годы на изучение и перевод Катулла, мы можем сказать: мы поставим этого римско-русского поэта, как двуликую герму в преддверие нашей словесности. Во внутренние покои проникают лишь редкие шаги; лишь на пороге желает он стоять в качестве привратника, возбраняя излишний прилив непосвященным и ободряя истинных учеников. Вы же, юноши, на которых, как на носителях грядущего, лежит между прочим и обязанность дальнейшего развития искусства, благодушно приступите. Полюбите небольшую книжку, если успеете, и если можно чему-либо из нее научиться, то пусть это будет то самое, чему старались над нею научиться и мы чтению поэтов.
Если всякий человек только при помощи постепенного опыта и взаимной проверки одних чувств другими приобретает знакомство с окружающим его видимым миром, в котором начинает различать добро и зло, то и в мире искусства невозможно ожидать, чтобы разумение приходило к нам при первом взгляде. Этот общий закон дает себя чувствовать всего более в том случае, когда мы имеем дело с произведениями, возникшими за тысячелетия среди жизни нам чуждой и неизвестной. Тут самый добросовестный переводчик помочь не в силах даже благосклонному читателю независимо от самостоятельной его работы. Истинное понимание столь отдаленных писателей никому не давалось разом и непосредственно. Изучение их всегда представляло ряд умственных трудов, из которых последующие опирались на предыдущие. И так переводчик, передавши читателю тот общий духовный портрет древнего поэта, который невольно возник в его душе, обязан приложить к тексту перевода благонадежную ариаднину нить объяснений, предоставляя будущему Тезею на собственный страх пускаться в лабиринт.
Самого переводчика можно уподобить дерзновенному водолазу, ищущему на дне морском сокрытых драгоценностей. Он приносит лишь то, что в данном случае нашел: редкостные украшения, перемешанные с изумительною дрянью, драгоценности, затонувшие при древних кораблекрушениях, огнецветные, фантастически изветвленные кораллы, истинные жемчужины в неприглядных раковинах; пусть другие разбирают, очищают и употребляют в дело. Лично ему остается надежда, что он исполнил нечто более долговечное, чем он сам. Если бы наша литература, подобно иностранным, обладала одним или многими буквальными переводами классиков, то и тогда явился бы вопрос: согласились ли бы мы в угоду известной гладкости современного языка перефразировать (читай искажать) древнего поэта. Но в настоящем случае нас нимало не смущают упреки в шероховатости, например, нашего перевода Ювенала. Такой упрек был бы совершенно уместен, если бы мы, подобно величайшему стилисту Пушкину, брались за подражание Катуллу, а не за перевод. Подражают, как хотят, а переводят как могут.
Равным образом не смущает нас и уныние знатоков при виде точно воспроизведенного русского лица нашей гермы, не имеющего бархатного налета, придаваемого мрамору крылами веков, налета, которым красуется каждая черта латинского лица того же Януса. Вообще, чем самобытнее и народнее поэт, тем менее поддается он художественному переводу.
Возможно ли переводить Пушкина, у которого и телятина и яичница, и даже ревматизм и паралич овеяны невыразимой прелестью? Не верите? Попробуйте сами написать или перевести пушкинскую телятину, и тогда только вы поймете, почему Маколей каждый раз плакал от умиления, читая 8 и 76 Песни Катулла. Но из невозможности воспроизводить впечатление оригинала никак не следует, что его переводить не должно или надлежит искажать. А нам, как нарочно, пришлось иметь дело с римским Пушкиным. Лучше мы не можем очертить личного и художественного характера нашего поэта. Тот и другой – светские юноши, ищущие жизненных наслаждений и умеющие находить их во всех предметах. Чистые и честные натуры, они не опирались на какую-либо сознательную этику, а руководствовались одним преемственным чувством. Оба, несмотря на небольшие наследственные имения, по врожденной беспечности, постоянно нуждались в деньгах, и Катулл, не стесняясь, бранит претора, в вифинской свите которого ему не пришлось ничем поживиться; а Пушкин добродушно сознается, что:
меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Оба они сознают и называют себя поэтами, но не считают себя записными поэтами, какими, например, были Гораций, Вергилий или Овидий. Не они искали поэзии, а она сама налетала на них, безразлично откуда, вырывая у них то сладостно-нежные и задумчивые, то игриво-забавные, то злонасмешливые стихи. С каким изумительным разнообразием придется встретиться читателю небольшой книги юноши Катулла! Но, при известном внимании, он заметит, что все это разнородное написано одною и той же мастерскою рукою. Нибур говорит (Vorträge über Röm. Gesch. III 8. S. 27): «Величайший поэт, каким обладал Рим, был Катулл. Он не ищет слов или форм: поэзия изливается из него самого; она у него тот язык, то выражение, которое приносится потребностью: каждое слово у него – выражение естественного чувства. Он вполне владеет совершенством греческих лирических поэтов и стоит на одной с ними высоте». О. Гейзе говорит, что Катулл – «свободная душа, горячее, живое сердце, открытое всякому, впечатляют, и отзывающееся на него быстро и с избытком; он самозабвенно и безгранично увлекается ближайшим, как будто бы оно было всем, до такой степени он неисчерпаем и в любви, и в ненависти. Безумный, заносчивый, но честный, он во всех колебаниях страсти внутренне сдерживается якорем чувства правоты, требуемой богами; при этом любимец музы, выше всего ей преданный, безусловно в нее верующий, во имя ее играющий, борющийся, преступный и успокаивающий ее силою свои самому себе причиненные страдания». Наконец, Моммсен следующим образом изображает Катулла (Röm. Gesch. III S. 579–581. zweite Ausgabe): «И Катулл по содержанию и форме зависит от александрийцев. Мы находим в его собрании переводы произведений Каллимаха, и притом вовсе не самых лучших, а скорее самых трудных. И между оригинальными стихотворениями встречаются искусственные, модные пьесы, как, например, изысканные галлиямбы в честь фрикийской богини; и даже столь прекрасное вообще стихотворение о свадьбе Фетиды испорчено чисто александрийской вставкой „жалобы Ариадны“ в главную тему. Но рядом с этими ученическими произведениями стоит мелодическая жалоба настоящей элегии, стоит торжественная песнь в полном убранстве индивидуального и почти драматического движения, стоит прежде всего мастерская миниатюра образованного общежития, веселые, весьма непринужденные похождения с девами, в которых половину удовольствия составляет разбалтывание и поэтизирование любовных тайн, отрадная жизнь юности при полных кубках и пустых кошельках, любовь к странствиям и к поэзии, римский и еще чаще веронский городской анекдот и причудливая шутка в знакомом кругу друзей.
Но не одни струны сотрясает Аполлон нашего поэта, а берется и за лук; оперенная стрела насмешки не щадит ни скучного стихоплета, ни коверкающего язык провинциала, но никого не поражает она чаще и язвительней, чем сильных, угрожавших народной свободе.
Краткострочные и веселые размеры, оживляемые нередко припевами (refrains), исполнены с совершенством искусства и все-таки без приторной фабричной гладкости. Эти стихотворения приводят нас попеременно в долину Нила или По, но последняя нашему поэту несравненно более по душе. Его произведения, хотя и основаны на александрийском искусстве, но в то же время и на чувстве гражданской, так сказать, провинциальной самостоятельности, на противопоставлении скромного муниципала высокородным господам из сената, обыкновенно плохо относящимся к своим менее знатным друзьям; как это на родине Катулла, в цветущей и сравнительно свежей Цизальпинской Галлии, могло быть ощущаемо живее, чем где-либо. В прелестнейших из его песен возникают сладостные картины Гардского озера, и едва ли в то время столичный житель был бы в состоянии написать стихотворение, подобное глубоко прочувствованному на смерть брата или прекрасной, истинно гражданской, торжественной песни на бракосочетание Манлия и Аврункулеи. Хотя Катулл и находился в зависимости от александрийских мастеров и держался в кругу модной поэзии современных ему кружков, но он был не только хорошим учеником среди многих посредственных и дурных, но и сам настолько превосходил своих учителей, насколько гражданин свободной итальянской общины был выше космополитического эллинского литератора.
Выдающейся творческой силы и высоких поэтических стремлений искать в нем, конечно, нельзя; он богато одаренный и прелестный, но не великий поэт и его стихотворения, как он сам их называет, только „шутки и глупости“. Но если не только современники были электризованы этими летучими песенками, но и художественные критики времени Августа ставили его рядом с Лукрецием и считали за значительнейшего поэта этой эпохи, то и современники и позднейшиее были вполне правы. Латинская нация не произвела второго поэта, в котором художественное содержание и художественная форма появились бы в таком оконченном равновесии, как у Катулла; и в этом смысле собрание стихотворений Катулла, без сомнения, самое совершенное, что в состоянии выставить латинская поэзия».
Не решаемся прибавить ни одного слова к этому мастерскому очерку поэтической деятельности Катулла, написанному рукою Моммсена. Мы слишком хорошо знаем, что только прирожденный поэт может учиться писать стихи, но в этом случае важнее всего, у кого он будет учиться. Можно последовать и за такими наставниками, которые погубят и несомненное дарование. Мы переживаем эпоху самую неблагоприятную не только для всякого искусства, но и для всякого серьезного начинания. Вырвавшись на волю, мы сразу предались упоению собственными силами. Пользуясь неизбежно плодами преемственных трудов прежних деятелей, мы не только сочли эти последние плоды за самые совершенные, хотя бы, по воле судеб, они в нынешний урожай явились недозрелыми и с червоточинами, но готовы всех тех, кто насадил и вывел самое дерево, считать неумелыми глупцами. Нам нипочем Соломона, Платона или Гомера обозвать дураками. На наши глаза все они были дураки; умны и умелы одни мы. Конечно, не таких современных умников приглашаем мы, посредством нашего перевода, к знакомству с Катуллом. По примеру Ф. Гейзе учиться читать Катулла мы приглашаем людей, действительно способных с эстетическою пользою читать поэтов, и смиренно признаемся, что сами многому научились у Катулла. Что же касается до немногих песен, пройденных нами в молчании, то, к счастью, отличаясь лишь слишком ярким и непривычным для нас известным античным содержанием, они не в состоянии ни увеличить, ни уменьшить неувядаемого венца нашего поэта.
Касательно самой формы нашего перевода, считаем нужным присовокупить, что держались нумерации и текста Александра Ризе (Лейпциг, 1884 года).
Полагая, что наши невольные эстетические замечания будут гораздо нагляднее в объяснениях под самым текстом, ограничим нашу речь, обращенную к благосклонному читателю, кратким очерком недолголетней жизни нашего поэта.
Легко говорить о жизни исторического деятеля, основываясь на жизнеописании, составленном современником или позднейшим писателем, хорошо знакомым с делом. В подобном случае достаточно повторить историческое свидетельство и указать, в случае надобности, на места, почему-либо возбуждающие сомнения; но там, где приходится воспроизводить жизнь поэта из его же собственных стихов (где художественная правда далеко не совпадает с действительной) и из отрывочных свидетельств других писателей, имевших нередко в виду лишь соименника, дело становится чрезвычайно сложно и затруднительно. Проследить всю последовательную критику догадок и соображений, основанных на подобных данных, значило бы представлять читателю скорее историю жизнеописания поэта, чем самое жизнеописание. Поэтому в данном случае мы предлагаем в главнейших чертах жизнь Катулла, как принимает ее позднейший его толкователь Ризе, ограничиваясь с нашей стороны весьма немногими заметками.
Жизнь Катулла
Цизальпинская Галлия вскоре после своего покорения стала сопричастна римскому образованию и литературе. Особенно в последнее столетие Римской республики происходили частые передвижения ученых римлян в Галлию Тогату и выдающихся галльских писателей в столицу. Достаточно указать на Корнелия Непота с берегов По, мантуанца Вергилия и Ливия патавинца (падуанца). Единовременно с римским образованием возникали и римские имена. Так, сотни раз встречается в надписях Вероны род Валериев, и фамилия Валериев Катуллов занимала, вероятно, в Вероне почетное положение. Отец поэта состоял с Цезарем в отношениях гостеприимства. Он владел виллой на Сирмионском полуострове близ Гардского озера и, как кажется, не забывал своего сына в столице денежною поддержкой. Если признать, что поэт наш родился в консульство Л. Корнелия Цинны, то, так как Цинна был в первый раз консулом в 87 г., а во второй в 84 г. до P. X., то нужно признать и один из этих годов за год рождения поэта. А как есть свидетельство, что поэт немногим пережил тридцатилетий возраст и в его произведениях нет указаний на события позднее 54 г. до P. X., то с известной уверенностью можно сказать, что поэт умер в 55 г. до P. X., 32 лет от рождения. Имя Квинт приписано ему Плинием (в Нат. Ист.) ошибочно от смешения с Квинтом Лутацием Катуллом, тогда как Гаем называет его Апулей, согласно с хроникой Гиеронима.
Кроме собственных явных намеков поэта, Овидий и Марциал прямо называют Верону родиной Катулла. Рано, однако, покинул Катулл свою галльскую отчизну для всемирной столицы: живу в Риме я больше: там дом, там и оседлость моя, там я провожу свои годы, говорит он в одном из ранних стихотворений (68а, I, ст. 34) и при этом упоминает о множестве любовных стихотворений, написанных раньше. В те времена, как впервой получил я белую тогу (ст. 15), – следовательно, приблизительно на шестнадцатом или семнадцатом году своей жизни, – много я песен пропел. Понятно, что предавшись в Риме поэзии, дружбе и любви, он сначала вступил в круг своих земляков, как о том свидетельствуют его стихотворения к Корнелию Непоту (1, Тогда уже ст. 5), к Целию и Квинтию, – между веронскою всей вы молодежью цветки (100, ст. 2) и др. Но при достаточности Катулла ему было легко вступить и в высшие круги римского общества, где при поэтическом таланте и живости характера он мог нравиться женщинам. В пользу его достаточности свидетельствующие вилла и поместье, которыми он обладал близ Тибура (44), равно как и случайно приводимые суммы его расходов и обращенных к нему просьб (10 000 сестерций 41, ст. 2; 103, ст. и; 100,000 сестерций 23, ст. 26).
Насчет богатства Катулла мы не можем согласиться с Ризе, принимающим выражение: «вид у Катулла явно в кармане водят одни лишь пауки» (13, ст. 8) только за временное состояние кармана поэта. Мы думаем, что он нуждался, так как самая его вилла (26) в залоге и нимало не ручается за денежную состоятельность поэта, да и куплена на чужие деньги, как на то в своем месте указывает Вестфаль.
Зажив столичным жителем, он скоро научился смотреть сверху вниз на деревенщину, мужиконенавистника и провинцию (22, 14. 36, 19. 43, 6) и запутался в любовные похождения, какими переполнено было римское общество. Самою сильною страстью воспылал он к непоименованной женщине; чтобы способствовать свиданиям с нею, друг поэта Малий, позднее, по усыновлению, прозванный Аллием, отворил влюбленным свой дом. Из довольно раннего стихотворения (68b) мы знакомимся как с могуществом первоначальной страсти поэта, так и с позднейшим его успокоением и даже утомлением. (Слич. 68, 51–135–160 ст.)
Эта страсть или по крайней мере закипевший из нее поток любовных песен подверглись резкому перерыву (68, 15) по случаю горестной вести, что единственный и горячо любимый брат Катулла умер в отдаленной Трое (68, 19–90 ст.), куда знатный молодой человек, быть может, отправился в свите какого-либо претора. Эта горестная весть сильно опечалила поэта. Вполне вероятно, что с этим связано его грустное настроение, высказавшееся (68а) в Вероне, куда он мог отправиться, чтобы утешить отца и привести в порядок дела покойного брата. Он не только отказывает Малию в просьбе о веселых стихотворениях, но и с знатным оратором Гортензием поступает так же, ссылаясь на смерть брата (65, 5), и только с трудом собирает силы для перевода стихотворения Каллимаха (66). Но уже следующее вскоре за 68 а), 68 b) показывает, как любовь понемногу занимает прежнее место в душе поэта.
О любви Катулла к Лезбии, наполняющей следующую эпоху жизни поэта и возвысившей его до высочайших степеней лиризма, написано много всяких предположений. Если допустим, что поэт, выражавший свое душевное волнение, вовсе не желал оставить потомкам каких-либо положительных данных, что его стихотворения, подобно душе каждого человека, исполнены противоречий, то мы не возьмемся составлять точную картину этой любви, всего меньше станем пускаться в математическое разделение этого времени на периоды (в роде счастье – подозрение – разрыв). Все эти перемены способны волновать человека, а тем более впечатлительного поэта в один и тот же день.
Напрасно ссылаться на слова самого поэта о долгой любви (76, 13) и долгом благочестии (76, 5), стараясь объяснить их течением многих лет. А что если в этом случае часы казались ему годами? Поэтому мы можем излагать лишь то, что не стояло бы в явном противоречии с поэтом и его произведениями. Его тоскливое стремление к Лезбии уже слышно во 2, а 51, – 13, – 16 выражает не только упоение ее лицезрением, но и полнейшее ему подчинение до болезненности. При ее благосклонности он (5, 7) исполняется восторгом, он прославляет ее красоту (86) и позднее (43), и песнь его воспевает то, что ей нравится (3, 13, 11). Мы слышим поддразнивание там, где она любезно к нему обращается, или где он полагает, что под ее злобой скрывается любовь (92, 70, 72, и 83 и 36). Но раздаются и другие звуки. Он заставил Лезбию изменить ее супругу, над которым он (83) грубо издевается: как же было ему при этом надеяться, что она останется ему верна! И если он, по-видимому, относился в прежней любви к такому заслуженному жребию гораздо хладнокровнее (68, 135[1]), то в настоящем случае справедливая кара за его увлечение скоро губит его счастье и самую жизнь. В этот период его духовных колебаний никакое хронологическое распределение его песен невозможно. Он видит себя обманутым и разражается поносительными стихами против возлюбленной и, тем не менее, при новой ее благосклонности, он снова блаженствует (107, 109 и в особенности прелест. стих. 36): тут истребляются прежние насмешливые стихотворения, и он стыдится своих нападок (104), и только в 109 в нем возникает по-прежнему легкое сомнение насчет будущего.
Хотя он старается (в смысле прежних стихов 51, 13–16) приободриться и, когда она его оставляет в стороне, отстать от нее в свою очередь (8); но такое намерение лишь наполовину искренно. Как он при этом страдает, чувствуя притом собственную верность, свидетельствуют 87, 75, и в особенности 76; что при этом страдает и его нравственное достоинство, видим мы по тону многих стихотворений против его соперников, к которым Лезбия обращается с постепенно возрастающей необузданностью, как, например, против Руфа (77), Геллия (91), Квинтия (82), неизвестного (78 b), против Лезбия (79) и, наконец, даже против Эгнатия и подобных (37). Пламя любви все более и более превращалось в пламя ревности, даже ненависти, или как Катулл сам говорит, в нем осталась страсть, но уважение и благожелательство исчезли (72, 87, 75, 85).
Ни у одного поэта мы не встречали такого яркого, а между тем психологически верного, разделения в одной и той же душе неудержимого страстного влечения от уважения и благожелательства, хотя вопрос этот можно назвать самым жизненным во всех дружеских, а тем более супружеских отношениях, в которых первое, как мимолетное не может служить прочной основою союза, а вторые скрепляют его даже и после периода лихорадочной страсти. Но и утратив уважение и благожелательство к любимой женщине, Катулл не в силах был надолго сохранить самую непосредственную страсть, когда Лезбия стала открыто предаваться разврату, как о том свидетельствуют пропущенная нами 37 и затем 58, 76, 24. Тогда он силится в трогательном 76 дать себе отчет в своем несчастии, в котором он признает себя невинным. Это стихотворение по нежности и задушевности ярко выдается в древней поэзии, подходя тоном скорее к Байрону или к Тютчеву. Наконец, поэт освободился от своей страсти. Когда в 55 году до P. X. по прошествии долгого времени Лезбия неловко пыталась возобновить прерванную связь, Катулл уже нашел силу спокойно высказать ей (11), что подобные вещи не возобновляются. Какая меткость и прелесть в последнем куплете этого стихотворения:
«Прежней любви ей моей не дождаться
Той, что́ убита ее же недугом
Словно цветок на окраине поля
Срезанный плугом».
Апулей говорит, что Катуллова Лезбия только псевдоним Клодии. Этим именем поэт в первый раз обзывает возлюбленную Клодию в саффической оде 51, быть может, вследствие бывшего между ними разговора о Саффо, уроженке Лесбоса. Выражение Марциала: Лезбия диктовала тебе, вдохновенный Катулл — едва ли можно понимать в буквальном смысле, а не в смысле «вдохновляла тебя!». В прежнее время критика мало занималась вопросом, кто собственно была Клодия, носившая у Катулла имя Лезбии. Самый блеск ее и образование заставляли в ней предполагать женщину свободную, одну из либертин, в противоположность скромным и домовитым матронам, но в последнее время утвердилось мнение, что Клодия была прелестной младшею сестрой пресловутого народного трибуна П. Клодия Пульхера. Она родилась приблизительно в 95 или 94 г. до P. X. и, следовательно, была старше Катулла. Замуж вышла она за своего двоюродного брата, дельного, но несколько грубого К. Метелла Целера, бывшего в 60 году консулом. Будучи несчастна в замужестве, она старалась от него освободиться, чтобы, по словам Плутарха, выйти за Цицерона, который, понося ее в 60-м году, а равно и поносимый ею, заставляет, таким образом, сомневаться в показаниях Плутарха. Когда Метелл в 59 году внезапно скончался, распространился слух, что он был отравлен своею женою. Хотя образованная Клодия интересовалась между прочим и политикой, но более всего славилась своим распущенным поведением, подобно сестре своей, супруге Лукулла. Когда она по смерти мужа перебралась на Палатин в дом брата своего Публия, то распространился слух о ее преступной связи с братом, про которую, между прочим, мы знаем из речи Цицерона «За Цэлия» в 56 г. до P. X. Но мы уже видели, что Цицерон был ее врагом, а проверить точность его указаний мы не имеем возможности. По его свидетельству, она, в качестве богатой и вполне разнузданной женщины, проживала то на Палатине, то в своих садах на Тибре и в Бае в кругу самом свободном, отличаясь, между прочим, танцами и бросаясь от одной любовной связи к другой. Из этой же речи мы узнаем о ее связи с безнравственным юношей-оратором М. Цэлием Руфом (рожденным около 85 или 87 г. до P. X.). Правда, что сам Цицерон, возненавидевший ее позднее, называл ее когда-то за ее блестящие глаза βοϖπισ, волоокою. Нам известно только, что она жила еще в 49 году. В этой страстной, порочной, но живой, остроумной и в высшей степени грациозной женщине желают признать Лезбию Катулла и действительно многие черты указывают на это тождество. У Лезбии (83, 1) был муж, Клодия была супруга Метелла; та и другая своими частыми увлечениями заслужили дурную славу. Замечательно, что в 60 году, когда Катуллу было лет двадцать пять от роду, он был под обаянием Клодии, старшей его летами, что не помешало ей позднее избрать более юного Цэлия Руфа своим любовником, а когда в 59 г. умер Метелл, то (70, 1)
«Милая мне говорит, что ничьей бы не стала женою кроме меня…» —
становится совершенно понятным в применении к Клодии.
Самым лучшим подтверждением тождества Лезбии с Клодией, состоявшей с братом своим Публием Клодием Пульхером в преступной связи, может служить 79, 1:
«Лезбий красив. Ну, так что ж? Он Лезбии нравится боле».
Если Лезбия – Клодия, то, очевидно, Лезбий – псевдоним Клодия, который по игривости Катулла, не чуждающегося игры слов, потому и назван красивым, чтобы указать, что он pulcher, т. е. Pulcher. Что касается до низкой степени безнравственности, на которой мы у Катулла под конец находим Лезбию, то, с одной стороны, это может быть поэтическое преувеличение, а с другой – такие примеры все чаще и чаще выступали среди римских дам (Мессалина), да и самую Клодию Цицерон недаром обзывал proterva meretrix и amica omnium.
Наконец страсть Катулла к Лезбии остыла, мало-помалу он, вероятно, и сам пожелал удалиться от римской праздности, а быть может, и отец его побуждал к тому, и он решился предаться служебной карьере, поступивши в свиту провинциального претора. Состоящим в этой свите независимо от содержания предоставлялись случаи и к наживе и даже вымогательствами. Быть может, Катулл сам выбрал местом служения Вифинию, чтобы посетить могилу своего брата. Здесь пропретором был К. Меммий, за которым последовал Катулл в 57 г. до P. X. Меммий, будучи политиком и оратором, был в то же время эротическим поэтом, и Лукреций почтил его посвящением своего стихотворения de rerum natura: таким образом, понятно и его желание прежде всего посетить Трою. Там, или, лучше сказать, на возвратном пути, Катулл написал свою прекрасную эпитафию к погребенному там брату. Во время своего, быть может, двухлетнего, пребывания в Вифинии, он нимало не отстал от своих товарищей в желании наживы, чтобы вознаградить себя за расходы столичной жизни. Но обманувшись в расчетах, он с восторгом одновременно с своими товарищами в 56 году отправился в обратный путь, хотя все возвращались отдельно (46, 11). В прекрасном 46 ст. он живо описывает радость путешествия. Вернувшись домой морем, поэтически описанным им в 4, он, наконец, достиг до прозрачного озера Бенака (4, 24) и вернулся в свою родную виллу на Сирмионе, которую он радостно приветствует в 31.








