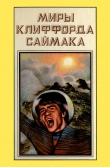Текст книги "БСФ. Том 25. Антология"
Автор книги: Гарри Гаррисон
Соавторы: Айзек Азимов,Иван Ефремов,Станислав Лем,Роберт Шекли,Альфред Бестер,Кобо Абэ,Пьер Буль,Владимир Савченко,Джон Уиндем,Рэй Брэдбери
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
Цветочки кончились, пошли ягодки. Теперь самое главное для нас полнейшее спокойствие. Торопиться некуда, ветра нет, видимость хорошая, все как на ладони. Вон канава проходит, где Слизняк гробанулся, – пестрое там что-то виднеется, может, тряпье его. Паршивый был парень, упокой господи его душу, жадный, глупый, грязный, только такие вот со Стервятником и связываются, таких Стервятник Барбридж за версту видит и под себя подгребает… А вообще-то Зона не спрашивает, плохой ты или хороший, и спасибо тебе, выходит, Слизняк: дурак ты был, даже имени настоящего твоего никто не помнит, а умным людям показал, куда ступать нельзя… Так. Конечно, лучше всего добраться бы нам теперь до асфальта. Асфальт ровный, на нем все виднее, и трещина там эта знакомая. Только вот не нравятся мне эти бугорочки! Если по прямой к асфальту идти, проходить придется как раз между ними. Ишь стоят, будто ухмыляются, ожидают. Нет, промежду вами я не пойду. Вторая заповедь сталкера: либо справа, либо слева все должно быть чисто на сто шагов. А вот через левый бугорочек перевалить можно… Правда, не знаю я, что там за ним. На карте как будто ничего не было, но кто же картам верит?…
– Слушай, Рэд, – шепчет мне Кирилл. – Давай прыгнем, а? На двадцать метров вверх и сразу вниз, вот мы и у гаража, а?
– Молчи, дурак, – говорю я. – Не мешай, молчи.
Вверх ему. А долбанет тебя там на двадцати метрах? Костей ведь не соберешь. Или комариная плешь где-нибудь здесь объявится, тут не то что костей, мокрого места не останется. Ох уж эти мне рисковые, не терпится ему, видишь ты: давай прыгнем… В общем, как до бугра идти – ясно, а там постоим, посмотрим. Сунул я руку в карман, вытащил горсть гаек. Показал их Кириллу на ладони и говорю:
– Мальчика с пальчик помнишь? Проходили в школе? Так вот сейчас будет все наоборот. Смотри! – И бросил я первую гаечку. Недалеко бросил, как положено. Метров на десять. Гаечка прошла нормально. – Видел?
– Ну? – говорит.
– Не «ну», а видел, я спрашиваю?
– Видел.
– Теперь самым малым веди «галошу» к этой гаечке и в двух метрах до нее не доходя остановись. Понял?
– Понял. Гравиконцентраты ищешь?
– Что надо, то и ищу. Подожди, я еще одну брошу. Следи, куда упадет, и глаз с нее больше не спускай.
Бросил я еще одну гайку. Само собой, тоже прошла нормально и легла рядом с первой.
– Давай, – говорю.
Тронул он «галошу». Лицо у него спокойное и ясное. Сделалось: видно, все понял. Они ведь все, Очкарики, такие. Им главное название придумать. Пока не придумал, смотреть на него жалко, дурак дураком. Ну а как придумал какой-нибудь гравиконцентратор, тут ему словно все понятно становится, и сразу ему жить легче.
Прошли мы первую гайку, прошли вторую, третью. Тендер вздыхает, с ноги на ногу переминается и то и дело зевает от нервности с этаким собачьим прискуливанием, томно ему, бедняге. Ничего, это ему на пользу. Пяток кило он сегодня скинет, это лучше всякой диеты… Бросил я четвертую гаечку. Как-то она не так прошла. Не могу объяснить, в чем дело, но чувствую – не так, и сразу хвать Кирилла за руку.
– Стой, – говорю. – Ни с места…
А сам взял пятую и кинул повыше и подальше. Вот она, «плешь комариная»! Гаечка вверх полетела нормально, вниз тоже вроде нормально было пошла, но на полпути ее словно кто-то вбок дернул, да так дернул, что она в глину ушла и с глаз исчезла.
– Видал? – говорю я шепотом.
– В кино только видел, – говорит, а сам весь вперед подался, того и гляди с «галоши» сверзится. – Брось еще одну, а?
Смех и грех. Одну! Да разве здесь одной обойдешься? Эх, наука!.. Ладно, разбросал я еще восемь гаек, пока «плешь» не обозначил. Честно говоря, и семи хватило бы, но одну я специально для него бросил, в самую середку, пусть полюбуется на свой концентрат. Ахнула она в глину, словно это не гаечка упала, а пятипудовая гиря. Ахнула и только дырка в глине. Он даже крякнул от удовольствия.
– Ну ладно, – говорю. – Побаловались, и хватит. Сюда смотри. Кидаю проходную, глаз с нее не спускай.
Короче, обошли мы «комариную плешь» и поднялись на бугорочек. Бугорочек этот как кот нагадил, я его до сегодняшнего дня вообще не примечал. Да… Ну, зависли мы над бугорочком, до асфальта рукой подать, шагов двадцать. Место чистейшее, каждую травинку видно, каждую трещинку. Казалось бы, ну что? Кидай гайку, и с богом.
Не могу кинуть гайку.
Сам не понимаю, что со мной делается, но гайку кинуть никак не решусь.
– Ты что, – говорит Кирилл, – чего мы стоим?
– Подожди, – говорю. – Замолчи, ради бога.
Сейчас, думаю, кину гаечку, спокойненько пройдем, как по маслу проплывем, травинка не шелохнется, – полминуты, а там и асфальт… И тут вдруг потом меня как прошибет! Даже глаза залило, и уже знаю я, что гаечку туда кидать не буду. Влево пожалуйста, хоть две. И дорога туда длиннее, и камушки какие-то я там вижу не шибко приятные, но туда я гаечку кинуть берусь, а прямо ни за что. И кинул я гаечку влево. Кирилл ничего не сказал, повернул «галошу», подвел к гайке и только тогда на меня посмотрел. И вид у меня, должно быть, был очень нехорош, потому что он тут же отвел глаза.
– Ничего, – я ему говорю. – Кривой дорогой ближе. – И кинул последнюю гаечку на асфальт.
Дальше дело пошло проще. Нашел я свою трещинку, чистая она оказалась, милая моя, никакой дрянью не заросла, цвет не переменила, смотрел я на нее и тихо радовался. И довела она нас до самых ворот гаража лучше всяких вешек.
Я приказал Кириллу снизиться до полутора метров, лег на брюхо и стал смотреть в раскрытые ворота. Сначала с солнца, ничего не было видно, черно и черно, потом глаза привыкли, и вижу я, что в гараже с тех пор ничего вроде бы не переменилось. Тот самосвал как стоял на яме, так и стоит, целехонький стоит, без дыр, без пятен, и на цементном полу вокруг все как прежде потому, наверное, что «ведьмина студня» в яме мало скопилось, не выплескивался он с тех пор ни разу. Одно мне только не понравилось: в самой глубине гаража, где канистры стоят, серебрится что-то. Раньше этого не было. Ну ладно, серебрится так серебрится, не возвращаться же теперь из-за этого! Ведь не как-нибудь особенно серебрится, а чуть-чуть, самую малость, и спокойно так, вроде бы даже ласково… Поднялся я, отряхнул брюхо и поглядел по сторонам. Вон грузовики на площадке стоят, действительно, как новенькие, с тех пор, как я последний раз здесь был, они, по-моему, еще новее стали, а бензовоз – тот совсем, бедняга, проржавел, скоро разваливаться начнет. Вон и покрышка валяется, которая у них на карте…
Не понравилась мне эта покрышка. Тень от нее какая-то ненормальная. Солнце нам в спину, а тень к нам протянулась. Ну да ладно, до нее далеко. В общем, ничего, работать можно. Только что это там все-таки серебрится? Или это мерещится мне? Сейчас бы закурить, присесть тихонечко и поразмыслить, почему над канистрами серебрится, почему рядом не серебрится… тень почему такая от покрышки… Стервятник Барбридж про тени что-то рассказывал, диковинное что-то, но безопасное… С тенями здесь бывает. А вот что это там все-таки серебрится? Ну прямо как паутина в лесу на деревьях. Какой же это паучок ее там сплел? Ох, ни разу я еще жучков-паучков в Зоне не видел. И хуже всего, что «пустышка» моя как раз там, шагах в двух от канистр, валяется. Надо мне было тогда же ее и упереть, никаких бы забот сейчас не было. Но уж больно тяжелая, стерва, полная ведь, поднять-то я ее мог, но на горбу тащить, да еще ночью, да на карачках… а кто пустышек ни разу не таскал, пусть попробует: это все равно что пуд воды без ведер нести… Так идти, что ли? Надо идти. Хлебнуть бы сейчас… Повернулся я к Тендеру и говорю:
– Сейчас мы с Кириллом пойдем в гараж. Ты останешься здесь за водителя. К управлению без моего приказа не притрагивайся, что бы ни случилось, хоть земля под тобой загорится. Если струсишь, на том свете найду.
Он серьезно мне покивал: не струшу, мол. Нос у него что твоя слива, здорово я ему врезал… Ну, спустил я тихонечко аварийные блок-тросы, посмотрел еще раз на это серебрение, махнул Кириллу и стал спускаться. Встал на асфальт, жду, пока он спустится по другому тросу.
– Не торопись, – говорю ему. – Не спеши. Меньше пыли.
Стоим мы на асфальте, «галоша» рядом с нами покачивается, тросы под ногами ерзают. Тендер башку через перила выставил, на нас смотрит, и в глазах у него отчаяние. Надо идти. Я говорю Кириллу:
– Иди за мной шаг в шаг, в двух шагах позади, смотри мне в спину, не зевай.
И пошел. На пороге остановился, огляделся. Все-таки до чего же проще работать днем, чем ночью! Помню я, как лежал вот на этом самом пороге. Темно, как у негра в ухе, из ямы «ведьмин студень» языки высовывает, голубые, как спиртовое пламя, и ведь что обидно – ничего, сволочь, не освещает, даже темнее из-за этих языков кажется. А сейчас что! Глаза к сумраку привыкли, все как на ладони, даже в самых темных углах пыль видна. И действительно, серебрится там, нити какие-то серебристые тянутся от канистр к потолку, очень на паутину похоже. Может, паутина и есть, но лучше от нее подальше. Вот тут-то я и напортачил. Мне бы Кирилла рядом с собой поставить, подождать, пока и у него глаза к полутьме привыкнут, и показать ему эту паутину, пальцем в нее ткнуть. А я привык один работать, у самого глаза пригляделись, а про Кирилла я и не подумал.
Шагнул это я внутрь, и прямо к канистрам. Присел над «пустышкой» на корточки, к ней паутина вроде бы не пристала. Взялся я за один конец и говорю Кириллу:
– Ну берись, да не урони – тяжелая…
Поднял я на него глаза, и горло у меня перехватило: ни слова не могу сказать. Хочу крикнуть: стой, мол, замри! – и не могу. Да и не успел бы, наверное, слишком уж быстро все получилось. Кирилл шагает через «пустышку», поворачивается задом к канистрам и всей спиной в это серебрение. Я только глаза закрыл. Все во мне обмерло, ничего не слышу, слышу только, как эта паутина рвется. Со слабым таким сухим треском, словно обыкновенная паутина лопается, но, конечно, погромче. Сижу я с закрытыми глазами, ни рук, ни ног не чувствую, а Кирилл говорит:
– Ну, что? – говорит. – Взяли?
– Взяли, – говорю.
Подняли мы «пустышку» и понесли к выходу, боком идем. Тяжеленная, стерва, даже вдвоем ее тащить нелегко. Вышли мы на солнышко, остановились у «галоши», Тендер к нам уже лапы протянул.
– Ну, – говорит Кирилл, – раз, два…
– Нет, – говорю, – погоди. Поставим сначала.
Поставили.
– Повернись, – говорю, – спиной.
Он без единого слова повернулся. Смотрю я – ничего у него на спине нет. Я и так и этак – нет ничего. Тогда я поворачиваюсь и смотрю на канистры. И там ничего нет.
– Слушай, – говорю я Кириллу, а сам все на канистры смотрю. – Ты паутину видел?
– Какую паутину? Где?
– Ладно, – говорю. – Счастлив наш бог. – А сам про себя думаю: сие, впрочем, пока неизвестно. – Давай, – говорю, – берись.
Взвалили мы «пустышку» на «галошу» и поставили ее на попа, чтобы не каталась. Стоит она, голубушка, новенькая, чистенькая, на меди солнышко играет, и синяя начинка между медными дисками туманно так переливается, струйчато. И видно теперь, что не «пустышка» это, а именно вроде сосуда, вроде стеклянной банки с синим сиропом. Полюбовались мы на нее, вскарабкались на «галошу» сами и без лишних слов – в обратный путь.
Лафа этим ученым! Во-первых, днем работают. А во-вторых, ходить им тяжело только в Зону, а из Зоны «галоша» сама везет, есть у нее такое устройство, курсограф, что ли, которое ведет «галошу» точно по тому же курсу, по какому она сюда шла. Плывем мы обратно, все маневры повторяем, останавливаемся, повисим немного и дальше, и над всеми моими гайками проходим, хоть собирай их обратно в мешок.
Спутники мои, конечно, сразу воспрянули духом. Головами вертят вовсю, страха у них почти не осталось, одно любопытство да радость, что все благополучно обошлось. Принялись болтать. Тендер руками замахал и грозится, что вот сейчас пообедает и сразу обратно в Зону, дорогу к гаражу провешивать, а Кирилл взял меня за рукав и принялся мне объяснять про этот свой гравиконцентрат, про «комариную плешь» то есть. Ну, я их не сразу, правда, но укротил. Спокойненько так рассказал им, сколько дураков гробанулись на радостях на обратном пути. Молчите, говорю, и глядите как следует по сторонам, а то будет с вами как с Линдоном-Коротышкой. Подействовало. Даже не спросили, что случилось с Линдоном-Коротышкой. Плывем в тишине, а я об одном думаю: как буду свинчивать крышечку. Так и этак представляю себе, как первый глоток сделаю, а перед глазами нет-нет да паутинка и блеснет.
Короче говоря, выбрались мы из Зоны, загнали нас с «галошей» вместе в вошебойку, или, говоря по-научному, в санитарный ангар. Мыли нас там в трех кипятках и трех щелочах, облучали какой-то ерундой, обсыпали чем-то и снова мыли, потом высушили и сказали: «Валяйте, ребята, свободны!». Тендер с Кириллом поволокли «пустышку». Народу набежало смотреть – не протолкнешься, и ведь что характерно: все только смотрят и издают приветственные возгласы, а взяться и помочь усталым людям тащить ни одного смельчака не нашлось… Ладно, меня это все не касается. Меня теперь ничто не касается…
Стянул я с себя спецкостюм, бросил его прямо на пол, холуи-сержанты подберут, – а сам двинул в душевую, потому что мокрый я был весь с головы до ног. Заперся я в кабинке, вытащил флягу, отвинтил крышечку и присосался к ней, как клоп. Сижу на лавочке, в коленках пусто, в голове пусто, в душе пусто, знай себе глотаю крепкое, как воду. Живой. Отпустила Зона. Отпустила, поганка. Подлая. Живой. Очкарикам этого не понять. Никому, кроме сталкера, этого не понять. И текут у меня по щекам слезы то ли от крепкого, то ли сам не знаю отчего. Высосал флягу досуха, сам мокрый, фляга сухая. Одного последнего глотка, конечно, не хватило. Ну ладно, это поправимо. Теперь все поправимо. Живой. Закурил сигарету, сижу. Чувствую, отходить начал. Премиальные в голову пришли. Это у нас в институте поставлено здорово. Прямо хоть сейчас иди и получай конвертик. А может, и сюда принесут, прямо в душевую.
Стал я потихоньку раздеваться. Снял часы, смотрю – а в Зоне-то мы пробыли пять часов с минутами, господа мои! Пять часов. Меня аж передернуло. Да, господа мои, в Зоне времени нет. Пять часов… А если разобраться, что такое для сталкера пять часов? Плюнуть и растереть. А двенадцать часов не хочешь? А двое суток не хочешь? Когда за ночь не успел, целый день в Зоне лежишь рылом в землю и уже не молишься даже, а вроде бы бредишь, и сам не знаешь, живой ты или мертвый… А во вторую ночь дело сделал, подобрался с хабаром к кордону, а там патрули-пулеметчики, жабы, они же тебя ненавидят, им же тебя арестовывать никакого удовольствия нет, они тебя боятся до смерти, что ты заразный, они тебя шлепнуть стремятся, и все козыри у них на руках, иди потом, доказывай, что шлепнули тебя незаконно… И значит, снова рылом в землю молиться до рассвета и опять до темноты, а хабар рядом лежит, и ты даже не знаешь, то ли он просто лежит, то ли он тебя тихонько убивает. Или как Мослатый Исхак застрял на рассвете на открытом месте, застрял между двумя канавами, ни вправо, ни влево. Два часа по нему стреляли, попасть не могли. Два часа он мертвым притворялся. Слава богу, поверили, ушли наконец. Я его потом увидел – не узнал, сломали его, как не было человека…
Отер я слезы и включил воду. Долго мылся. Горячей мылся, холодной мылся, снова горячей. Мыла целый кусок извел. Потом надоело. Выключил душ и слышу: барабанят в дверь, и Кирилл весело орет:
– Эй, сталкер, вылезай! Зелененькими пахнет!
Зелененькие – это хорошо. Открыл я дверь, стоит Кирилл в одних трусах, веселый, без никакой меланхолии и конверт мне протягивает.
– Держи, – говорит, – от благодарного человечества.
– Кашлял я на твое человечество! Сколько здесь?
– В виде исключения и за геройское поведение в опасных обстоятельствах – два оклада!
Да. Так жить можно. Если бы мне здесь за каждую «пустышку» по два оклада платили, я бы Эрнеста давным-давно подальше послал.
– Ну как, доволен? – спрашивает Кирилл, а сам сияет – рот до ушей.
– Ничего, – говорю. – А ты?
Он ничего не сказал. Обхватил меня за шею, прижал к потной своей груди, притиснул, оттолкнул и скрылся в соседней кабине.
– Эй! – кричу я ему вслед. – А Тендер что? Подштанники небось стирает?
– Что ты! Тендера там корреспонденты окружили, ты бы на него посмотрел, какой он важный… Он им так компетентно излагает…
– Как, – говорю, – излагает?
– Компетентно.
– Ладно, – говорю, – сэр. В следующий раз захвачу словарь, сэр. – И тут меня словно током ударило. – Подожди, Кирилл, – говорю. – Ну-ка выйди сюда.
– Да я уже голый, – говорит.
– Выйди, я не баба!
Ну, он вышел. Взял я его за плечи, повернул спиной. Нет. Показалось. Чистая спина. Струйки пота засохли.
– Чего тебе моя спина далась? – спрашивает он.
Отвесил я ему пинка по голому телу, нырнул к себе в душевую и заперся. Нервы, черт бы их подрал. Там мерещилось, здесь мерещится… К дьяволу все это! Напьюсь сегодня как лошадь. Ричарда бы ободрать, вот что! Надо же, стервец, как играет… Ни с какой картой его не возьмешь. Я уж и передергивать пробовал, и карты под столом крестил, и по-всякому…
– Кирилл! – кричу. – В «Боржч» сегодня придешь?
– Не в «Боржч», а в «Борщ», сколько раз тебе говорить…
– Брось! Написано «Боржч». Ты к нам со своими порядками не суйся. Так придешь или нет? Ричарда бы ободрать…
– Ох, не знаю, Рэд. Ты ведь, простая твоя душа, и не понимаешь, какую мы штуку притащили…
– А ты-то понимаешь?
– Я, впрочем, тоже не понимаю. Это верно. Но теперь, во-первых, понятно, для чего эти «пустышки» служили, а во-вторых, если одна моя идейка пройдет… Напишу статью, и тебе ее персонально посвящу: Рэдрику Шухарту, почетному сталкеру, с благоговением и благодарностью посвящаю.
– Тут-то меня и упекут на два года, – говорю я.
– Зато в науку войдешь. Так эту штуку и будут называть – «банка Шухарта». Звучит?
Пока мы так трепались, я оделся. Сунул пустую флягу в карман, пересчитал зелененькие и пошел себе.
– Счастливо тебе оставаться, сложная твоя душа…
Он не ответил – вода сильно шумела.
Смотрю: в коридоре господин Тендер собственной персоной, красный весь и надутый, что твой индюк. Вокруг него толпа, тут и сотрудники, и корреспонденты, и пара сержантов затесалась (только что с обеда, в зубах ковыряют), а он знай себе болбочет: «Та техника, которой мы располагаем, болбочет, – дает почти стопроцентную гарантию успеха и безопасности…» Тут он меня увидал и сразу несколько усох, улыбается, ручкой делает. Ну, думаю, надо удирать. Рванул я, однако не успел. Слышу: топочут позади.
– Господин Шухарт! Господин Шухарт! Два слова о гараже!
– Комментариев не имею, – отвечаю я и перехожу на бег. Но черта с два от них оторвешься: один, с микрофоном, – справа, другой, с фотоаппаратом, – слева.
– Видели вы в гараже что-нибудь необычное? Буквально два слова!
– Нет у меня комментариев! – говорю я, стараясь держаться к объективу затылком. – Гараж как гараж…
– Благодарю вас. Какого вы мнения о турбоплатформах?
– Прекрасного, – говорю я, а сам нацеливаюсь точнехонько в сортир.
– Что вы думаете о целях Посещения?
– Обратитесь к ученым, – говорю. И раз – за дверь.
Слышу: скребутся. Тогда я им через дверь говорю:
– Настоятельно рекомендую, – говорю, – расспросите господина Тендера, почему у него нос как свекла. Он по скромности замалчивает, а это было наше самое увлекательное приключение.
Как они двинут по коридору! Как лошади, ей-богу. Я выждал минуту: тихо. Высунулся: никого. И пошел себе, посвистывая. Спустился в проходную, предъявил дылде пропуск, смотрю, он мне честь отдает. Герою дня, значит.
– Вольно, – говорю. – Я вами доволен.
Он осклабился, как будто я ему бог весть как польстил.
– Ну, ты, Рыжий, молодец, – говорит. – Горжусь, – говорит, – таким знакомством.
– Что, – говорю, – будет тебе в твоей Швеции о чем девкам рассказывать?
– Спрашиваешь! – говорит. – Они ж у меня будут таять, как свечки!
Нет, ничего он парень. Я, если честно, таких рослых и румяных не люблю. Девки от них без памяти, а чего, спрашивается? Не в росте ведь дело… Иду это я по улице и размышляю, в чем же тут дело. Солнышко светит, безлюдно вокруг.
Миновал я автомобильную стоянку, а там и кордон. Стоят две патрульные машины во всей своей красе, широкие, желтые, прожекторами и пулеметами, жабы, ощетинились, ну и, конечно, голубые каски всю улицу загородили, не протолкнешься. Я иду, глаза опустил, лучше мне сейчас на них не смотреть, днем на них мне лучше не смотреть совсем: есть там два-три типчика, так я боюсь их узнать, скандал большой получится, если я их узнаю. Повезло им, ей-богу, что Кирилл меня в институт сманил, я их, гадов, искал тогда, пришил бы и не дрогнул…
Прохожу я через эту толпу плечом вперед, совсем прошел уже, и тут слышу: «Эй, сталкер!» Ну, это меня не касается, иду дальше, волоку из пачки сигаретку. Догоняет сзади кто-то, берет за рукав. Я эту руку с себя стряхнул и вполоборота вежливенько так спрашиваю:
– Какого дьявола цепляешься, мистер?
– Постой, сталкер, – говорит он. – Два вопроса.
Поднял я на него глаза – капитан Квотерблад. Старый знакомый. Совсем ссохся, желтый стал какой-то.
– А, – говорю, – здравия желаю, капитан. Как ваша печень?
– Ты, сталкер, мне зубы не заговаривай, – говорит он сердито, а сам так и сверлит меня глазами. – Ты мне лучше скажи, почему сразу не останавливаешься, когда тебя зовут?
И уже тут как тут две голубые каски у него за спиной, лапы на кобурах, глаз не видно, только челюсти под касками шевелятся. И где у них в Канаде таких набирают? На племя их нам прислали, что ли?… Днем я патрулей вообще-то не боюсь, но вот обыскать, жабы, могут, а это мне в данный момент ни к чему.
– Да разве вы меня звали, капитан? – говорю. – Вы же какого-то сталкера…
– А ты, значит, уже и не сталкер?
– Как по вашей милости отсидел – бросил, – говорю. – Завязал. Спасибо вам, капитан, глаза у меня тогда открылись. Если бы не вы…
– Что в предзоннике делал?
– Как что? Я там работаю. Два года уже.
И чтобы закончить этот неприятный разговор, вынимаю я свое удостоверение и предъявляю его капитану Квотербладу. Он взял мою книжечку, перелистал, каждую страничку, каждую печать просто-таки обнюхал, чуть ли не облизал. Возвращает мне книжечку, а сам доволен, глаза разгорелись, и даже зарумянился.
– Извини, – говорит, – Шухарт. Не ожидал. Значит, – говорит, – не прошли для тебя мои советы даром. Что ж, это прекрасно. Хочешь верь, хочешь не верь, а я еще тогда предполагал, что из тебя толк должен получиться. Не допускал я, чтобы такой парень…
И пошел, и пошел. Ну, думаю, вылечил я еще одного меланхолика себе на голову, а сам, конечно, слушаю, глаза смущенно опускаю, поддакиваю, руками развожу и даже, помнится, ножкой застенчиво этак панель ковыряю. Эти громилы у капитана за спиной послушали-послушали, замутило их, видно, гляжу потопали прочь, где веселее. А капитан знай мне о перспективах излагает: ученье, мол, свет, неученье тьма кромешная, господь, мол, честный труд любит и ценит, – в общем, несет он эту разнузданную тягомотину, которой нас священник в тюрьме каждое воскресенье травил. А мне выпить хочется, никакого терпежу нет. Ничего, думаю, Рэд, это ты, браток, тоже выдержишь. Надо, Рэд, терпи! Не сможет он долго в таком же темпе, вот уже и задыхаться начал… Тут, на мое счастье, одна из патрульных машин принялась сигналить. Капитан Квотерблад оглянулся, крякнул с досадой и протягивает мне руку.
– Ну что ж, – говорит. – Рад был с тобой познакомиться, честный человек Шухарт. С удовольствием бы опрокинул с тобой стаканчик в честь такого знакомства. Крепкого, правда, мне нельзя, доктора не велят, но пивка бы я с тобой выпил. Да вот видишь – служба! Ну, еще встретимся, говорит.
Не приведи господь, думаю. Но ручку ему пожимаю и продолжаю краснеть и делать ножкой, – все, как ему хочется. Потом он ушел наконец, а я чуть ли не стрелой в «Боржч».
В «Боржче» в это время пусто. Эрнест стоит за стойкой, бокалы протирает и смотрит их на свет. Удивительная, между прочим, вещь: как ни придешь, вечно эти бармены бокалы протирают, словно у них от этого зависит спасение души. Вот так и будет стоять хоть целый день, возьмет бокал, прищурится, посмотрит на свет, подышит на него и давай тереть: потрет-потрет, опять посмотрит, теперь уже через донышко, и опять тереть…
– Здорово, Эрни! – говорю. – Хватит тебе его мучить, дыру протрешь!
Поглядел он на меня через бокал, пробурчал что-то, будто животом, и, не говоря лишнего слова, наливает мне на четыре пальца крепкого. Я взгромоздился на табурет, глотнул, зажмурился, головой помотал и опять глотнул. Холодильник пощелкивает, из музыкального автомата доносится какое-то тихое пиликанье. Эрнест сопит в очередной бокал, хорошо, спокойно… Я допил, поставил бокал на стойку, и Эрнест без задержки наливает мне еще на четыре пальца прозрачного.
– Ну что, полегче стало? – бурчит. – Оттаял, сталкер?
– Ты знай себе три, – говорю. – Знаешь, один тер-тер и злого духа вызвал. Жил потом в свое удовольствие.
– Это кто же такой? – спрашивает Эрни с недоверием.
– Да был такой бармен здесь, – отвечаю. – Еще до тебя.
– Ну и что?
– Да ничего. Ты думаешь, почему Посещение было? Тер он, тер… Ты думаешь, кто нас посетил, а?
– Трепло ты, – говорит Эрни с одобрением.
Вышел он на кухню и вернулся с тарелкой, жареных сосисок принес. Тарелку поставил передо мной, пододвинул кетчуп, а сам снова за бокалы. Эрнест свое дело знает. Глаз у него наметанный, сразу видит, что сталкер из Зоны, что хабар будет, и знает Эрни, чего сталкеру после Зоны надо. Свой человек Эрни! Благодетель.
Доевши сосиски, я закурил и стал прикидывать, сколько же Эрнест на нашем брате зарабатывает. Какие цены на хабар в Европе, я не знаю, но краем уха слышал, что «пустышка», например, идет там чуть ли не за две с половиной тысячи, а Эрни дает нам всего четыреста. «Батарейки» там стоят не меньше ста, а мы получаем от силы по двадцать. Наверное, и все прочее в том же духе. Правда, переправить хабар в Европу тоже, конечно, денег стоит. Тому на лапу, этому на лапу, начальник станции наверняка у них на содержании… В общем, если подумать, не так уж много Эрнест и заколачивает, процентов пятнадцать-двадцать, не больше, а если попадется, десять лет каторги ему обеспечено…
Тут мои благочестивые размышления прерывает какой-то вежливый тип. Я даже не слыхал, как он вошел. Объявляется он возле моего правого локтя и спрашивает:
– Разрешите?
– О чем речь! – говорю. – Прошу.
Маленький такой, худенький, с востреньким носиком и при галстуке бабочкой. Фотокарточка его вроде мне знакома, где-то я его уже видел, но где – не помню. Залез он на табурет рядом и говорит Эрнесту:
– «Бурбон», пожалуйста! – и сразу же ко мне: – Простите, кажется, я вас знаю. Вы в Международном институте работаете, так?
– Да, – говорю. – А вы?
Он ловко выхватывает из кармашка визитку и кладет передо мной. Читаю: «Алоиз Макно, полномочный агент Бюро эмиграции». Ну, конечно, знаю я его. Пристает к людям, чтобы они из города уехали. Кому-то очень надо, чтобы мы все из города уехали. Нас, понимаешь, в Хармонте и так едва половина осталась от прежнего, так им нужно совсем место от нас очистить. Отодвинул я карточку ногтем и говорю ему:
– Нет, – говорю, – спасибо. Не интересуюсь. Мечтаю, знаете ли, умереть на родине.
– А почему? – живо спрашивает он. – Простите за нескромность, но что вас здесь удерживает?
Так ему прямо и скажи, что меня здесь держит.
– А как же! – говорю. – Сладкие воспоминания детства. Первый поцелуй в городском саду. Маменька, папенька. Как в первый раз пьян надрался в этом вот баре. Милый сердцу полицейский участок… – Тут я достаю из кармана свой засморканный носовой платок и прикладываю к глазам. – Нет, говорю. – Ни за что!
Он посмотрел, лизнул свой «бурбон» и задумчиво так говорит:
– Никак я вас, хармонтцев, не могу понять. Жизнь в городе тяжелая. Власть принадлежит военным организациям. Снабжение неважное. Под боком Зона, живете как на вулкане. В любой момент может либо эпидемия какая-нибудь разразиться, либо что-нибудь похуже… Я понимаю, старики. Им трудно сняться с насиженного места. Но вот вы… Сколько вам лет? Года двадцать два – двадцать три, не больше… Вы поймите, наше Бюро организация благотворительная, никакой корысти мы не извлекаем. Просто хочется, чтобы люди ушли с этого дьявольского места и включились бы в настоящую жизнь. Ведь мы обеспечиваем подъемные, трудоустройство на новом месте… молодым, таким, как вы, – обеспечиваем возможность учиться… Нет, не понимаю!
– А что, – говорю я, – никто не хочет уезжать?
– Да нет, не то чтобы никто… Некоторые соглашаются, особенно люди с семьями. Но вот молодежь, старики… Ну что вам в этом городе? Это же дыра, провинция…
И тут я ему выдал.
– Господин Алоиз Макно! – говорю. – Все правильно. Городишко наш дыра. Всегда дырой был и сейчас дыра. Только сейчас, – говорю, – это дыра в будущее. Через эту дыру мы такое в ваш паршивый мир накачаем, что все переменится. Жизнь будет другая, правильная, у каждого будет все, что надо. Вот вам и дыра. Через эту дыру знания идут. А когда знание будет, мы и богатыми всех сделаем, и к звездам полетим, и куда хочешь доберемся. Вот такая у нас здесь дыра…
На этом месте я оборвал, потому что заметил, что Эрнест смотрит на меня с огромным удивлением, и стало мне неловко. Я вообще не люблю чужие слова повторять, даже если эти слова мне, скажем, нравятся. Тем более что у меня это как-то коряво выходит. Когда Кирилл говорит, заслушаться можно, рот забываешь закрывать. А я вроде бы то же самое излагаю, но получается как-то не так. Может быть, потому, что Кирилл никогда Эрнесту под прилавок хабар не складывал. Ну ладно…
Тут мой Эрни спохватился и торопливо налил мне сразу пальцев на шесть: очухайся, мол, парень, что это с тобой сегодня? А востроносый господин Макно снова лизнул свой «бурбон» и говорит:
– Да, конечно… Вечные аккумуляторы, «синяя панацея»… Но вы и в самом деле верите, что будет так, как вы сказали?
– Это не ваша забота, во что я там на самом деле верю, – говорю я. Это я про город говорил. А про себя я так скажу: чего я у вас там, в Европе, не видел? Скуки вашей не видел? День вкалываешь, вечер телевизор смотришь, ночь пришла – к постылой бабе под одеяло, ублюдков плодить. Стачки ваши, демонстрации, политика раздолбанная… В гробу я вашу Европу видел, – говорю, – занюханную.
– Ну почему же обязательно Европа?…
– А, – говорю, – везде одно и то же, а в Антарктиде еще вдобавок холодно.
И ведь что удивительно: говорил я ему и всеми печенками верил в то, что говорил. И Зона наша, гадина, стервозная, убийца, во сто раз милее мне в этот момент была, чем все ихние Европы и Африки. И ведь пьян еще не был, а просто представилось мне на мгновение, как я, весь измочаленный, с работы возвращаюсь в стаде таких же кретинов, как меня в ихнем метро давят со всех сторон и как все мне обрыдло, и ничего мне не хочется.