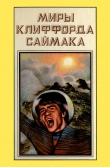Текст книги "БСФ. Том 25. Антология"
Автор книги: Гарри Гаррисон
Соавторы: Айзек Азимов,Иван Ефремов,Станислав Лем,Роберт Шекли,Альфред Бестер,Кобо Абэ,Пьер Буль,Владимир Савченко,Джон Уиндем,Рэй Брэдбери
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
3
К обеду они переоделись.
Так было заведено. Они всегда переодевались к обеду.
Это, как Спектакль, входило в постепенно сложившийся ритуал, который они строго соблюдали, чтобы не сойти с ума, не забыть, что они цивилизованные люди, а не только беспощадные охотники за знаниями, пытающиеся решить проблему, которую любой из них с радостью предпочел бы не решить.
Они отложили в сторону скальпели и прочие инструменты, зачехлили микроскопы; они аккуратно расставили по местам пробирки с культурами, убрали в шкафы сосуды с физиологическим раствором, в котором хранились препараты. Они сняли передники, вышли из лабораторий и закрыли за собой двери. И на несколько часов забыли – или постарались забыть – кто они и над чем работают.
Они переоделись к обеду и собрались в так называемой гостиной, где для них были приготовлены коктейли, а потом перешли в столовую, делая вид, что они самые обыкновенные человеческие существа, не более… и не менее.
На столе – посуда из изысканного фарфора и тончайшего стекла, цветы, горящие свечи. Они начали с легкой закуски, за которой последовали разнообразные блюда, подававшиеся в строгой очередности специально запрограммированными роботами с безупречными манерами; на десерт были сыр, фрукты и коньяк, а для любителей – еще и сигары.
Сидя во главе стола, Лодж перебегал взглядом с одного обладавшего на другого и в какой-то момент встретился глазами с Сью Лоуренс, и его заинтересовало, в самом ли деле она так сердито насупилась или ее лицо казалось угрюмым из-за переменчивой игры теней и света.
Они беседовали, как беседовали за каждым обедом, – пустая светская болтовня беззаботных, легкомысленных людей. То был час, когда они глушили в себе чувство вины, смывая с души ее кровавые следы.
Лодж про себя отметил, что сегодня они не в силах выбросить из сознания то, что произошло днем, потому что говорили они о Генри Грифисе и его внезапной смерти, а на их напряженных лицах застыло выражение деланного спокойствия. Генри был человеком своеобразным, его обуревали слишком сильные страсти, и никто из них так до конца и не понял его. Но они были о нем высокого мнения, и, хотя роботы постарались расставить приборы с таким расчетом, чтобы его отсутствие за столом прошло незамеченным, всех ни на минуту не покидало острое ощущение утраты.
– Мы отправим Генри домой? – спросил Лоджа Честер Сиффорд.
Лодж кивнул.
– Попросим один из патрульных кораблей забрать его и доставить на Землю. Здесь же состоится только краткая панихида.
– А кто выступит с речью?
– Скорей всего Крейвен. Он сблизился с Генри больше, чем остальные. Я уже говорил с ним. Он скажет в его память несколько слов.
– У Генри остались на Земле родственники? Он ведь не любил о себе распространяться.
– Какие-то племянники и племянницы. А может, еще брат или сестра. Вот, пожалуй, и все.
Тут подал голос Хью Мэйтленд:
– Как я понимаю, Спектакль мы не прервем.
– Верно, – подтвердил Лодж. – Так советует Кент, и я с ним согласен. Уж Кент-то знает, что для нас лучше.
– Да, это по его части. Он на своем деле собаку съел, – вставил Сиффорд.
– Безусловно, – сказал Мэйтленд. – Обычно психологи держатся особняком. Строят из себя этакую воплощенную совесть. А у Кента другая система.
– Он ведет себя как священник, – заявил Сиффорд. – Самый натуральный священник, черт его побери!
Слева от Лоджа сидела Элен Грей, и он видел, что она ни с кем не разговаривает, вперив неподвижный взгляд в вазу с розами, которая сегодня украшала центр стола.
Ей нелегко, подумал Лодж. Ведь она первая увидела мертвого Генри и, считая, что он заснул, потрясла его за плечо, чтобы разбудить.
На противоположном конце стола, рядом с Форестером, сидела Элис Пейдж. В этот вечер на нее напала не свойственная ей болтливость; она была женщиной несколько странной, замкнутой, а в ее неброской красоте было что-то неуловимо печальное. Сейчас она придвинулась к Форестеру и возбужденно что-то доказывала ему, понизив голос, чтобы не услышали остальные, а Форестер терпеливо внимал ей, скрывая под маской спокойствия тревогу.
Они расстроены, подумал Лодж, причем гораздо глубже, чем я предполагал. Расстроены, взбудоражены и в любой момент могут потерять самоконтроль.
Смерть Генри потрясла их гораздо сильней, чем ему казалось.
Пусть Генри и не отличался личным обаянием, он все же был одним из членов их маленькой группы. Одним из них, подумал Лодж. А почему не одним из нас? Но так сложилось с самого начала: не в пример Форестеру, самое большое достижение которого заключалось в том, что он сумел стать одним из них, Лодж должен был избегать панибратства, проявлять сдержанность, соблюдая при общении с ними едва заметную дистанцию холодного отчуждения единственное в этих условиях средство поддержать авторитет власти и предотвратить возможное неповиновение, а это для его работы было весьма важно.
– Генри был близок к какому-то открытию, произнес Сиффорд.
– Я уже слышал об этом от Сью.
– Он умер в тот момент, когда записывал что-то в блокнот, – продолжал Сиффорд. – А вдруг это…
– Мы посмотрим его записи, – пообещал Лодж. – Все вместе. Завтра или послезавтра.
Мэйтленд покачал головой.
– Нам никогда не сделать это открытие, Бэйярд. Мы пользуемся не той методикой, работаем не в том направлении. Нам необходимо подойти к этой проблеме по-новому.
– А как? – взвился Сиффорд.
– Не знаю, – сказал Мэйтленд. – Если б я знал…
– Джентльмены, – вмешался Лодж.
– Виноват, – извинился Сиффорд. – У меня что-то пошаливают нервы.
Лодж вспомнил, как Сьюзен Лоуренс, стоя рядом с ним у окна и глядя на безжизненную и унылую поверхность кувыркающегося в пространстве обломка скалы, на котором они ютились, произнесла: «Он не захотел больше жить. Он боялся жить».
Что она имела в виду? То, что Генри Грифис умер от страха? Что он умер, потому что боялся жить?
Возможно ли, чтобы психосоматический синдром послужил причиной смерти?
4
Когда они перешли в театральный зал, атмосфера не разрядилась, хотя все, проявляя незаурядную силу воли, вроде бы держались легко и свободно. Они разговаривали о пустяках и притворялись, будто их ничто не тревожит, а Мэйтленд даже сделал попытку пошутить, но его шутка пришлась не к месту и в корчах испустила дух, раздавленная фальшивым хохотом, которым на нее отреагировали остальные.
Кент ошибся, подумал Лодж, чувствуя, как его захлестывает ужас. В этой затее – смертельный заряд психологической взрывчатки. Достаточно незначительного толчка, и начнется цепная реакция, которая может привести к распаду их группы. А если группа распадется, перестанет существовать как единое целое, пойдут прахом все труды, на которые было потрачено столько лет: долгие годы обучения, месяцы, понадобившиеся для выработки привычки к совместной работе, не говоря уже о постоянной, ни на миг не прекращающейся борьбе за то, чтобы они пребывали в хорошем настроении и не перегрызли друг другу глотки. Исчезнет сплачивающая их вера в коллектив, которая за эти месяцы постепенно пришла на смену индивидуализму; сломается отлично налаженный механизм спокойного сотрудничества и согласованности действий; обесценится значительная часть уже проделанной ими работы, ибо никакие другие ученые, пусть самые что ни на есть квалифицированные, не смогут с ходу принять эстафету своих предшественников, даже если в их распоряжении будут все материалы с результатами исследований, проведенных теми, кто работал до них.
Одну из стен помещения занимал вогнутый экран, перед которым тянулись узкие, ярко освещенные подмостки.
А за экраном, скрытые от глаз, причудливо переплетались трубки, стояли генераторы, находились звуковоспроизводящее устройство и компьютеры – чудо техники, воплощающее мысли и волю людей в зримые, движущиеся образы, которые сейчас возникнут на экране и заживут своей жизнью. Марионетки, подумал Лодж, но марионетки, созданные человеческой мыслью и обладающие странной, пугающей человечностью, которой всегда недостает вырезанным из дерева фигуркам.
Когда-то Человек творил только руками, раскалывал и обтесывал куски кремня, делал луки, стрелы, предметы обихода; позже он изобрел машины, ставшие как бы придатками его рук, и эти машины начали выпускать изделия, создавать которые вручную было невозможно; теперь же Человек творил не руками и не машинами, а мыслью, хотя ему и приходилось пользоваться разнообразной сложной аппаратурой, с помощью которой материализовалась деятельность его мозг.
Наступит день, подумал Лодж, когда единственным созидателем станет человеческая мысль – без посредничества рук и машин.
Экран замерцал, и на нем появилось дерево, скамья, пруд с утками; на втором плане какая-то статуя, а вдалеке, полускрытые ветвями деревьев, проступили неясные контуры высоченных городских зданий.
Как раз на этой сцене они вчера вечером прервали представление. Персонажи Спектакля решили устроить пикник в городском парке, пикник, который почти наверняка просуществует считанные мгновения, пока кому-нибудь не взбредет в голову превратить его во что-то другое.
Но, быть может, сегодня пикник останется пикником, с надеждой подумал Лодж, и они доведут эту сцену до конца, будут разыгрывать Спектакль с прохладцей, без обычного азарта, обуздают свою фантазию. Именно сегодня недопустимы никакие неожиданные повороты действия, никакие потрясения, ведь для того, чтобы помочь персонажу выбраться из лабиринта нелепейших ситуаций, которые возникают при внезапном изменении сюжета, необходимо значительное умственное напряжение, а это может в такой обстановке привести к тяжелым психическим нарушениям.
Так получилось, что сегодня будет одним персонажем меньше, и многое зависит от того, какой из них будет отсутствовать.
Пока что сцена пустовала, напоминая тщательно выписанный маслом пейзаж в блеклых тонах, с изображением уголка весеннего парка.
Почему они не начинают? Чего ждут?
Они ведь позаботились оформить сцену. Так чего же они ждут?
Кто-то из зрителей надумал ветер – послышался шелест ветвей, и поверхность прудика подернулась рябью.
Лодж создал в своем воображении образ своего персонажа и вывел его на экран, сконцентрировав мысли на его неуклюжей походке, соломинке, торчащей изо рта, на заросшем курчавыми волосами затылке.
Должен же кто-нибудь начать. Неважно кто…
Деревенский Щеголь засуетился и бросился назад, исчезнув с экрана. Через секунду он появился снова, неся большую плетеную корзину с крышкой.
– А про корзину-то я и забыл, – сообщил он с глуповатой застенчивостью сельского жителя.
В темноте зала кто-то хихикнул.
Слава богу! Кажется, все идет нормально. Ну выходите же, кто там еще остался!
На экране появился Нищий Философ – в высшей степени респектабельный мужчина без единой положительной черточки в характере; его импозантная внешность, гордая осанка сенатора, пестрый жилет и длинные седые локоны были ширмой, за которой скрывался попрошайка, бездельник и редкостный враль.
– Друг мой, – произнес он. – Мой добрый друг.
– Никакой я те не друг, – заявил Деревенский Щеголь. – Вот отдашь мне триста долларов, тогда поглядим.
Да выходите же, наконец, кто там еще остался!
Появились Красивая Стерва и Приличный Молодой Человек, которого с минуты на минуту должно было постичь ужасное разочарование.
Деревенский Щеголь, присев на корточки посреди лужайки и открыв корзину, начал извлекать из нее еду: окорок, индейку, сыр, блюдо фруктового желе, банку маринованной сельди, термос.
Красивая Стерва кокетливо сделала ему глазки и заиграла бедрами. Деревенский Щеголь вспыхнул и, быстро пригнув голову, спрятал лицо.
Кент крикнул из зрительного зала:
– Так держать! Сгуби его!
Все расхохотались.
Это обязательно должно войти в привычную колею. Все образуется.
Если зрители начнут перебрасываться шутками с действующими лицами Спектакля, дело непременно пойдет на лад.
– А это ты недурственно придумал, лапуня, – отозвалась Красивая Стерва. – Заметано.
Она направилась к Щеголю.
Щеголь, все еще не поднимая головы, продолжал вынимать из корзины всевозможную снедь – в таком количестве, что она едва ли уместилась бы в десяти подобных корзинах.
Круги копченой колбасы, три шницелей, холмы конфет… И под конец он вытащил из корзины бриллиантовое ожерелье.
Красивая Стерва, взвизгнув от восторга, коршуном набросилась на ожерелье.
Между тем, Нищий Философ оторвал от индейки ножку и то откусывал от нее куски, то размахивал ею в воздухе, чтобы усилить впечатление от высокопарных цветистых фраз, которые неудержимым потоком лились из его уст.
– Друзья мои, – ораторствовал он, уписывая индейку. – Друзья мои, как это уместно и естественно… Я повторяю, сэр, как это уместно и естественно, когда задушевные друзья встречаются в такой поистине дивный весенний день, чтобы в обществе друг друга насладиться общением с ликующей природой, найдя для своей встречи даже в самом сердце этот бессердечного города столь уединенный и тихий уголок…
Дай ему волю, и он мог бы тянуть резину до бесконечности. Но сейчас, учитывая напряженность обстановки, необходимо было любым способом остановить это словоблудие.
Кто-то выпустил в пруд миниатюрного, но весьма резвого кита, своими повадками больше напоминавшего дельфина; этот кит то и дело выпрыгивал из воды, описывая в воздухе изящную дугу, и, распугав плававших на пруду уток, ненадолго скрывался в воде.
Тихо, стараясь не привлекать к себе внимания, на экран выползло Инопланетное Чудовище и спряталось за дерево. Сразу было видно, что это не к добру.
– Берегитесь! – крикнул кто-то из зрителей, но актеры и ухом не повели. Иногда они проявляли невероятную тупость.
На экран под руку с Усатым Злодеем вышла Беззащитная Сиротка (и это тоже не предвещало ничего хорошего), а следом за ними шествовал Представитель Внеземной Дружественной Цивилизации.
– Где же наша Прелестная Девушка? – спросил Усатый Злодей. – Все вроде уже в сборе, только ее и не хватает.
– Еще заявится, – сказал Деревенский Щеголь. Давеча видал я, как она на углу в салуне джин хлестала…
Философ прервал свою витиеватую речь на полуфразе, индюшачья ножка замерла в воздухе. Его серебристые волосы эффектно стали дыбом, и он круто повернулся к Деревенскому Щеголю.
– Вы хам, сэр! – возгласил он. – Сказать такое может только самый последний хам!
– А мне все едино, – заявил Щеголь. – Мели себе, что хошь, ведь правда-то моя, а не твоя.
– Отвяжись от него, – заверещала Красивая Стерва, лаская пальцами бриллиантовое ожерелье. – Не смей обзывать моего дружка хамом.
– Полноте, К. С., – вмешался Приличный Молодой Человек. – Советую вам держаться от них подальше.
– Заткни пасть! – быстро обернувшись к нему, отрезала она. – Ты, лицемерное трепло. Не тебе меня учить. По-твоему, я недостойна, чтобы меня моим законным именем называли? Хватит с меня одних инвалидов, так? Шут гороховый, шантажист хрипатый! А ну отваливай, да поживей!
Философ не спеша выступил вперед, нагнулся и взмахнул рукой. Полуобъеденная индюшачья ножка заехала Щеголю в челюсть.
Схватив жареного гуся, Щеголь медленно поднялся во весь рост.
– Ах вот ты как… – процедил он.
И запустил в Философа гусем. Гусь ударился о пестрый жилет, забрызгав его жиром.
О господи, подумал Лодж. Теперь наверняка быть беде! Почему Философ так странно повел себя? Почему они хотя бы сегодня, один-единственный раз, не смогли удержаться от того, чтобы не превратить простой дружеский пикник черт знает во что? Почему тот, кто создал Философа и руководит всеми его поступками, заставил его замахнуться этой индюшачьей ножкой?
И почему он, Бэйярд Лодж, внушил Щеголю, чтобы тот швырнул гуся.
И, уже задавая себе этот вопрос, Лодж похолодел, а когда в его сознании оформился ответ, у него возникло чувство, будто чья-то рука сдавила ему внутренности.
Он понял, что вообще этого не делал.
Он не заставлял Щеголя бросать гусем. И, хотя в тот момент, когда Щеголь получил пощечину, в нем вспыхнуло возмущение и злоба, он мысленно не приказал своему персонажу нанести ответный удар.
Он уже не так внимательно следил за действием: сознание его раздвоилось, и половина мыслей, одна другую опровергая, была поглощена поисками объяснения того, что сейчас произошло.
Фокусы аппаратуры. Это она заставила Щеголя швырнуть гуся – ведь сложнейшие механизмы, установленные за экраном, не хуже человека знали, какую реакцию может вызвать удар в лицо. Машина сработала автоматически, не дожидаясь, пока получит соответствующий мысленный приказ… по-видимому, не сомневаясь, каково будет его содержание.
Это же естественно, доказывала одна часть его сознания другой, что машине известно, как реагирует человек на тот или иной раздражитель, и еще более естественно, что, зная это, она срабатывает автоматически.
Философ, ударив Щеголя, осторожно отступил назад и вытянулся по стойке «смирно», держа на караул обгрызенную и замусоленную индюшачью ножку.
Красивая Стерва захлопала в ладоши и воскликнула:
– Теперь вы должны драться на дуэли!
– Вы попали в самую точку, мисс, – сказал Философ, не меняя позы. Для этого-то я его и ударил.
Капли жира медленно стекали с его нарядного жилета, но по выражению его лица и осанке никто бы не усомнился в том, что он считает себя одетым безупречно.
– Надо было бросить перчатку, – назидательным тоном сказал Приличный Молодой Человек.
– У меня нет перчаток, сэр, – честно признался Философ в том, что было очевидно каждому.
– Но ведь это ужасно неприлично, – гнул свое Приличный Молодой Человек.
Усатый Злодей откинул полы пиджака и из задних карманов брюк вытащил два пистолета.
– Я их всегда ношу с собой, – с плотоядной ухмылкой сообщил он. – На такой вот случай.
Мы должны как-то разрядить обстановку, подумал Лодж. Необходимо умерить их агрессивность. Нельзя допустить, чтобы они распалились еще больше.
И он вложил в уста Щеголя следующую реплику:
– Я те скажу вот что. Не по душе мне это баловство с огнестрельным оружием. Ненароком кого и подстрелить можно.
– От дуэли тебе не отвертеться, – заявил кровожадный Злодей, держа оба пистолета в одной руке, а другой теребя усы.
– Право выбора оружия принадлежит Щеголю, вмешался Приличный Молодой Человек. – Как лицу, которому было нанесено оскорбление…
Красивая Стерва перестала хлопать в ладоши.
– А ты не лезь не в свое дело! – завизжала она. – Мозгляк несчастный, маменькин сынок. Да ты просто не хочешь, чтобы они дрались.
Злодей отвесил поклон.
– Право выбора оружия принадлежит Щеголю, – объявил он.
– Вот смехотура! – прочирикал Представитель Внеземной Дружественной Цивилизации. – До чего же все люди забавные!
Из-за дерева выглянула голова Инопланетного Чудовища.
– Оставь их в покое, – проревело оно своим противным акцентом. – Если им захотелось подраться, пусть дерутся. – Засунув в пасть кончик хвоста, оно запросто свернулось в колесо и покатилось. С бешеной скоростью оно промчалось вокруг пруда, не переставая бубнить: – Пусть дерутся, пусть дерутся, пусть дерутся… – И снова быстро спряталось за дерево.
– А мне-то казалось, что это пикник, – жалобно проговорила Беззащитная Сиротка.
Мы все так считали, подумал Лодж.
Хотя еще до начала представления можно было голову дать на отсечение, что пикник долго не продержится.
– Будьте добры, выберите оружие, – с преувеличенной любезностью обратился Злодей к Щеголю. Пистолеты, ножи, мечи, боевые топоры…
Что-нибудь смешное, подумал Лодж. Нужно предложить что-нибудь смешное и несуразное.
И он заставил Щеголя произнести:
– Вилы. На расстоянии трех шагов.
На экран, мурлыкая застольную песню, выпорхнула Прелестная Девушка. Судя по ее возбужденному виду, она уже успела прилично нагрузиться.
Но, увидев Философа, с жилета которого стекал гусиный жир, Злодея, сжимавшего в каждой руке по пистолету, и Красивую Стерву, позванивавшую бриллиантовым ожерельем, она остановилась как вкопанная и спросила:
– Что здесь происходит?
Нищий Философ наконец расстался со стойкой «смирно» и с самодовольной улыбкой удовлетворенно потер руки.
– Какая приятная душевная обстановка! – радостно воскликнул он, источая братскую любовь к окружающим. – Наконец-то мы, все девять, в сборе…
Сидевшая в зрительном зале Элис Пейдж вскочила с места, схватилась руками за голову, сжала ладонями виски и, зажмурившись, истерически вскрикнула…
5
На экране было не восемь персонажей, а девять.
Персонаж Генри Грифиса участвовал в представлении наравне с остальными.
– Вы сошли с ума, Бэйярд, – сказал Форестер. – Если человек умер, значит, он мертв. Не берусь судить, полностью ли прекращается со смертью его существование, но, если, умерев, человек все-таки продолжает существовать, то уже на другом уровне, в другой плоскости, в другом состоянии, в другом измерении. Пусть теологи или там спиритуалисты пользуются какой угодно терминологией, ответ на этот вопрос у всех один.
Лодж кивнул в знак согласия.
– Я хватался за соломинки. Перебирал все возможные варианты. Я знаю, что Генри умер. Я знаю, что мертвые не оживают. И тем не менее вы должны согласиться, что это естественно, если при таких обстоятельствах в голову лезут самые невероятные мысли. Нелегко нам до конца избавиться от суеверий – очень уж они живучи.
– Если мы сейчас пустим дело на самотек, неминуем взрыв, – сказал Форестер. – Ведь к тому моменту, когда это произошло, они уже находились в состоянии крайнего нервного напряжения: тут и сомнения в целесообразности и возможности решения проблемы, над которой они давно и безуспешно бьются, и разного рода конфликты и неурядицы, неизбежные в условиях, когда девять человек на протяжении долгих месяцев живут и работают бок о бок, да плюс ко всему еще невроз типа клаустрофобии.[8]8
Клаустрофобия – болезненный страх находиться в закрытом помещении. (Прим. перев.)
[Закрыть] И все это день ото дня нарастало и обострялось. Я наблюдал этот разрушительный процесс, затаив дыхание.
– Предположим, что среди них нашелся какой-то шутник, который подменил Генри, – проговорил Лодж. – Что вы на это скажете? Вдруг кто-то из них управлял не только своим персонажем, но и персонажем Генри, а?
– Человек не способен управлять более чем одним персонажем, возразил Форестер.
– Но кто-то же выпустил в пруд кита.
– Правильно. Однако этот кит быстро исчез. Подпрыгнул разок-другой, и его не стало. Тому, кто его создал, было не под силу продержать его на экране подольше.
– Декорации и реквизит мы придумываем сообща. Почему же кто-нибудь из нас не может незаметно для других уклониться от оформления Спектакля и сконцентрировать все свои мысли на двух персонажах?
На лице Форестера отразилось сомнение.
– Пожалуй, в принципе такое возможно. Но тогда второй персонаж почти обязательно получился бы дефектным. А вы заметили хоть малейшую странность в каком-нибудь из персонажей?
– Не знаю насчет странности, – ответил Лодж, – но Инопланетное Чудовище пряталось…
– Это не персонаж Генри.
– Откуда у вас такая уверенность?
– Генри был человеком не того склада, чтобы сделать своим персонажем Инопланетное Чудовище.
– Хорошо, допустим. Какой же тогда персонаж принадлежал ему?
Форестер раздраженно хлопнул ладонью по подлокотнику кресла.
– Ведь я уже говорил вам, Бэйярд, что не знаю, кто из них стоит за тем или иным действующим лицом Спектакля. Я пытался каждому подобрать под пару определенный персонаж, но безуспешно.
– Если б мы знали, насколько легче было бы решить эту загадку. В особенности…
– В особенности, если б нам было известно, какой из персонажей принадлежал Генри, – докончил Форестер.
Он встал с кресла и зашагал по кабинету.
– Ваше предположение относительно какого-то шутника, который якобы вывел на экран персонаж Генри, имеет одно слабое место, – сказал он. – Ну посудите сами, откуда этот мифический шутник мог знать, какой ему нужно создать персонаж.
– Прелестная Девушка! – вскричал Лодж.
– Что?
– Прелестная Девушка. Она ведь появилась на экране последней. Неужели не помните? Усатый Злодей спросил, где она, а Деревенский Щеголь ответил, что видел ее в салуне…
– Господи! – выдохнул Форестер. – А Нищий Философ поспешил объявить, что все наконец в сборе. Причем с явной издевкой! Будто хотел над нами поглумиться!
– Вы считаете, что это работа того, кто стоит за Философом? Если так, то он – тот самый предполагаемый шутник. Он и вывел на экран девятого члена труппы – Прелестную Девушку. Но если на экране собралось восемь действующих лиц, ясно, что отсутствующее – девятое – и есть персонаж Генри.
– Либо это и вправду чья-то проделка, – сказал Форестер, – либо персонажи по неизвестной нам причине стали в какой-то степени чувствовать и мыслить самостоятельно, частично ожили.
Лодж нахмурился.
– Такая версия не для меня, Кент. Персонажи – это образы, которые мы создаем в своем воображении, проверяем, насколько они соответствуют своему назначению, оцениваем, а если они нас не устраивают, вытесняем их из сознания, и их как не бывало. Они полностью зависят от нас. Их личности неотделимы от наших. Они не более как плоды нашей фантазии.
– Вы не совсем правильно поняли меня, – возразил Форестер. – Я имел в виду машину. Она вбирает в себя наши мысли и из этого сырья создает зримые образы. Трансформирует игру воображения в кажущуюся реальность…
– А память?…
– Думаю, что такая машина вполне может обладать памятью, – сказал Форестер. – Видит бог, она создана из предостаточного количества разнообразной точной аппаратуры, чтобы быть почти универсальной. Ее роль в создании Спектакля значительней, чем наша; большая часть работы лежит на ней, а не на нас. В конце концов, мы ведь все те же простые смертные, какими были всегда. Только что интеллект у нас выше, чем у наших предков. Мы строим для себя механические придатки, которые расширяют наши возможности. Вроде этой машины.
– Не знаю, что вам на это сказать, – произнес Лодж. – Право, не знаю. Я устал от этого переливания из пустого в порожнее. От бесконечных рассуждений и домыслов.
Но про себя подумал, что на самом-то деле ему есть что сказать. Он знал, что машина способна действовать самостоятельно – заставила же она Щеголя запустить индюшкой в Философа. А впрочем, то была чисто автоматическая реакция, и это ровно ничего не значит.
Или он ошибся?
– Машина могла выпустить на экран персонаж Генри, – убежденно заявил Форестер. – Могла заставить Философа над нами издеваться.
– Но с какой целью? – спросил Лодж. – Если бы у нее появилось такое качество, она держала бы его в тайне. В этом единственная ее защита. Мы ведь можем ее уничтожить. И скорее всего так бы и сделали, если бы нам показалось, что она ожила. Мы бы ее демонтировали, разобрали на составные части, разрушили.
Оба умолкли, и в наступившей тишине Лодж почувствовал, что все вокруг пронизано ужасом, но ужасом необычным. В нем слилось смятение мыслей и чувств, внезапная смерть одного из них, лишний персонаж на экране, жизнь под постоянным надзором, безысходное одиночество…
– У меня больше голова не варит, – произнес он. – Поговорим завтра. Утро вечера мудренее.
– Хорошо, – согласился Форестер.
– Хотите что-нибудь выпить?
Форестер отрицательно покачал головой.
Ему тоже больше невмоготу разговаривать, подумал Лодж. Он рад поскорей уйти.
Как раненое животное. Мы все, как раненые животные, расползаемся по своим углам, чтобы остаться в одиночестве; нас тошнит друг от друга, для нас отрава – постоянно видеть за обеденным столом и встречать в коридорах одни и те же лица, смотреть на одни и те же рты, повторяющие одни и те же бессмысленные фразы, так что теперь, столкнувшись с обладателем какого-нибудь определенного рта, уже знаешь заранее, что он скажет.
– Спокойной ночи, Бэйярд.
– Спокойной ночи, Кент. Крепкого вам сна.
– Увидимся завтра.
– Разумеется.
Дверь тихо закрылась.
Спокойной ночи. Крепко спите.
Укусит клоп – его давите.