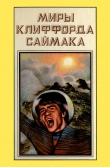Текст книги "БСФ. Том 25. Антология"
Автор книги: Гарри Гаррисон
Соавторы: Айзек Азимов,Иван Ефремов,Станислав Лем,Роберт Шекли,Альфред Бестер,Кобо Абэ,Пьер Буль,Владимир Савченко,Джон Уиндем,Рэй Брэдбери
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
По мере того как ветшает одежда Бертрана, «исчезает» его запасное белье, он облачается в архаичные одежды, предусмотрительно припасенные и при случае подсовываемые ему Виландом, причем сам Виланд одновременно преображается в герцога де Рогана. По мере саго как Вдоавд, явившийся л Барону под именем герра Ганса Карна Мюллера, трансформируется в вооруженного псевдорыцаря герцога де Рогана, аналогичное превращение, по крайней мере внешнее, происходит и с Бертраном.
Бертран ошеломлен и ошарашен. Он ехал к дяде, о котором знает, что эхо хозяин огромных владений: он бросал профессию кельнера, чтобы унаследовать миллионы, а вместо этого ему приходится разыгрывать не то комедию, не то фарс, суть и цель которых он не в состоянии уразуметь. От поучений Виланда-Мюллера-де Рогана сумбур, царящий у него в голове, только возрастает. Ему кажется, что спутник просто смеется, приоткрывая перед ним небольшой фрагмент непонятной аферы, полный объем которой Бертран пока ни охватить, ни понять не может: придет час, когда юноша будет близок к сумасшествию. При этом поучения ничего не говорят «в лоб», не называют вещи по имени: эта инстинктивная мудрость является общим свойством двора.
«Надо, – говорит де Роган, – придерживаться формы, соблюдения которой требует дядя („ваш дядюшка“, потом „его превосходительство“, наконец, „его величество“!), имя его Людовик, а не Зигфрид – последнее запрещено произносить. Он отверг его – быть посему», – заявляет Мюллер, преображаясь в герцога. «Имение» превращается в «латифундию», а «латинфундия» в «государство» – так понемногу, в течение долгих дней верховой езды сквозь джунгли, а потом, в последнее часы, проведенные в золоченом паланкине, который несут восемь нагих мускулистых метисов, видя из-за занавески колонну конных рыцарей в шишаках, Бертран убеждается в правильности слов загадочного спутника. Потом Бертран начинает подозревать в сумасшествии самого Мюллера и уповает уже только на встречу о дядей, которого, кстати, почти не помнит – последний раз он видел его девятилетним мальчонкой. Но встреча оборачивается изумительным, эффектным торжеством, представляющим собой конгломерат церемоний, обрядов и ритуалов, еще в детстве пленивших Таудлица. Поет хор, играют серебрянные фанфары, появляется король в короне, предваряемый лакеями, которые протяжно возглашают: «Король! Король!» – и распахивают перед ним резные двустворчатые двери. Таудлица окружают двенадцать «пэров королевства» которых он по ошибке позаимствовал не там, где следовало), и, наконец, наступает возвышенная минута – Луи XVI крестом осеняет племянника, нарекает его инфантом и дает ему облобызать кольцо, руку и скипетр. Когда же они усаживаются завтракать, обслуживаемые выряженными в ливреи индейцами, Бертран, изумленно глядя на эту роскошь, на далекую полосу дивно зеленых джунглей, окружающих владения «короля», просто не решается спросить дядю о чем-либо и, выслушивая его мягкие поучения, начинает именовать дядю «его превосходительством».
«Так надо… того требуют высшие соображения… в этом заинтересованы и я и ты…» – милостиво обращается к нему группенфюрер СС в короне.
Разумеется, бывшие жандармы, концлагерные надзиратели и врачи, водители и башенные стрелки бронетанковой дивизии СС «Великая Германия», выступающие в качестве придворных, герцогов и духовенства двора Людовика XVI, – это такая кошмарная, такая сумасшедшая мешанина, в такой степени не соответствующая неписаным ролям, в какой это только вообще возможно.
Впрочем, если гитлеровским живодерам и тошно было напяливать на себя кардинальский пурпур, епископские одеяния и золоченые доспехи, то уж с меньшим неудовольствием – ибо это было забавно – они переименовывали проституток, взятых из матросских борделей, в своих графских супруг, когда речь шла о светских вельможах, либо в виконтеес и герцогинек-наложниц, когда дело касалось Духовенства короля Людовика. В конечном итоге выбранные роли пришлись по вкусу; купаясь в фальшивом величии, эти твари любовались, кичились собой и одновременно стремились приблизиться к собственному идеалу блистательной особы. Те страницы романа, где говорится об этих бывших палачах в кардинальских митрах и кружевных жабо, представляют собою изумительную по силе демонстрацию психологического мастерства автора. Эта голь ухитряется выжать из своего положения утехи, чуждые истинному аристократизму, и наслаждения, вдвойне усиленные оттенком узаконенной преступности. Известно, что преступник пожинает плоды зла с наивысшим удовольствием только тогда, когда творит зло с сознанием своей правоты: именно поэтому, творя мерзости, все они уже по собственной воле стремятся к тому, чтобы хотя бы на словах не выйти из епископской или герцогской роли. Самые тупые из них, например Мерер, завидуют герцогу де Рогану, который ловко ухитряется объявить измывательство над индейскими детьми «действом», со всех точек зрения «придворным», в высшей степени приличествующим дворянину (кстати, в полном соответствии с основной идеей индейцев здесь именуют неграми, потому что раб-негр «лучше соответствует стилю»).
Нам понятно, почему Виланд (герцог де Роган) домогается кардинальской митры: только кардинальского сана этому выродку и недостает, чтобы иметь возможность заниматься своими вырожденческими «шалостями» – в качестве одного из наместников самого господа бога на земле. Правда, Таудлиц отказывает ему в посвящении, словно понимает, какая бездна мерзости стоит за мечтой Виланда. Таудлиц хотел бы забыть о своем давнем эсэсовском прошлом – ведь у него был «иной сон, иной миф», он жаждет истинного королевского пурпура. Таудлиц ничуть не лучше Виланда, просто его занимает другое, ибо он стремится к – невозможной, но абсолютной – трансфигурации. Отсюда «пуританизм короля», который так не нравится его ближайшему окружению.
Что касается придворных, то вначале мы видим, как из различных побуждений они старались играть свою роль, а потом, как они вдесятером принялись плести сети заговора против монарха-группенфюрера, стремясь лишить его сундука, набитого долларами, а может быть, и убить. Убийство мотивировано: иначе им пришлось бы расстаться с сенаторскими креслами, титулами, орденами, положением. А это уж никак не входило в их планы. Безвыходный лабиринт. Ловушка. Порой они уже и сами верят в реальность своего немыслимого положения, поскольку немыслимость эта в высшей степени пришлась их по душе. Мешала же им попросту беспощадная жестокость Таудлица как монарха: не лезь из него ежеминутно группенфюрер СС, не давай он им – молча! – чувствовать, что все они зависят от него, от акта воли его и минутной милости, то, вероятно, дольше продержалась бы Франция Андегавенов на территории Аргентины. Итак, актеры уже ставили в вину режиссеру недостаточную аутентичность спектакля; эта банда хотела быть более монархичной, чем допускал сам монарх.
Естественно, все ошибались, потому что не могли сравнить себя в этих ролях с истинной пышностью подлинного блистательного двора. Разумеется, этих тварей немного утомляют спектакли, которые они вынуждены разыгрывать, а уж труднее всех достается тем, кто призван изображать высшее духовенство римско-католической церкви.
Католиков в колонии нет вообще, а о какой-либо религиозности бывших эсэсовцев нечего и говорить; поэтому повелось, что так называемые молебны в дворцовой часовне чрезвычайно коротки и сводятся к пению нескольких псалмов из библии: кое-кто предлагал монарху вообще ликвидировать службу божью, но Таудлиц оказался неумолим; впрочем, оба кардинала, архиепископ Паризии и остальные епископы именно тем и «оправдывают» свои высокие титулы, что несколько минут в неделю посвящают богослужению – чудовищной пародии на мессу. Это дает им основание, прежде всего в собственных глазах, занимать высокие духовные посты: они кое-как ухитряются проторчать за алтарями считанные минуты, чтобы потом часами компенсировать это в попойках и под балдахинами пышных супружеских лож. Сюда же относится и идея с кинопроекционным аппаратом, привезенным (без ведома короля!) из Монтевидео, с помощью которого в дворцовом подземелье показывают порнографические фильмы, причем функции кинооператора выполняет архиепископ Паризии (он же бывший шофер гестапо Ганс Шефферт), а в подручных у него ходит кардинал де Сутерне (экс-интендант); идея эта одновременно дьявольски комична и достоверна, как все остальные элементы трагифарса, который и существовать-то может только потому, что ничто не в состоянии разрушить его изнутри.
У этих людей уже попросту все со всем согласуется, все ко всему подходит, да это и неудивительно: достаточно вспомнить, например, о снах некоторых из них – разве комендант третьего блока из Маутхаузена не владел «самой большой коллекцией канареек во всей Баварии», о которой он теперь с тоской вспоминает, и разве не пробовал он кормить своих пташек так, как советовал один капо, утверждавший, что канарейки лучше всего поют, когда их кормят человеческим мясом? Итак, перед нами преступность, доведенная до такой степени самоневедения, что, собственно, следовало бы говорить о бывших невинных убийцах, если бы только критерий преступности человека основывался исключительно на самодиагнозе, на самостоятельном распознании вины. Быть может, кардинал де Сутерне в некотором смысле знает, что настоящий кардинал ведет себя не так, как он: настоящий – конечно же, верит в бота и скорее всего не глумится над индейскими детьми, прислуживающими в стихарях во время чессы, но, поскольку в радиусе четырехсот миль наверняка нет ни одного другого кардинала, такого рода мысли отнюдь не досаждают Де Сутерне.
Эта Система, поразительно ущербная, функционирует исключительно благодаря своей замкнутости, поскольку любое Проникновение реального мира было бы для нее смертельной угрозой. Именно такую угрозу представляет собою юный Бертран, который, однако, не находит в себе достаточно сил, чтобы вслух назвать вещи своими именами. Бертран боится принять то – самое простое – объяснение, которое все ставит с головы на ноги. Ординарная, тянущаяся годами, систематическая, насмехающаяся над здравым смыслом ложь? Нет, не может быть; уж скорее всеобщая паранойя либо какая-то непонятная таинственная игра с рациональной основой, имеющая реально обоснованные мотивы; все что угодно, только бы не чистая ложь, самоувлеченная, само любующаяся, самораздувшаяся.
И тогда Бертран сразу капитулирует: позволяет вырядить себя в одежды наследника трона, выучить дворцовому этикету, то бишь тому рудиментарному набору поклонов, Жестов, слов, который кажется ему поразительно знакомым, что неудивительно: ведь и он читал те же бульварные романы и псевдоисторические повести, которые выли источником вдохновения короля и его церемониймейстера. Но все же Бертран сопротивляется, хотя я не отдает себе отчета в том, в какой степени его инертность, безразличие, раздражающие не только придворных, но и короля, являются выражением инстинктивного сопротивления ситуации, толкающей его к тихому помешательству. Бертран не хочет захлебнуться во лжи, хотя и сам не Понимает, из каких источников исходит его сопротивление, а потому только зарабатывает насмешки, иронические замечания, величественно-кретинское обращение гостей, особенно во время второго пиршества, когда король, разъяренный подтекстом внешне вялых речей Бертрана, речей, скрытый смысл которых не сразу понимает сам юноша, начинает в припадке истинного гнева кидать в него кусками жаркого, причем половина пирующих одобряет разъяренного монарха поощрительным жестом, бросая в бедолагу жирными костями, которые они хватают с серебряных подносов: другая же половина настороженно молчит, не зная, не пытается ли Таудлиц на свой излюбленный манер расставить на присутствующих какую-нибудь ловушку и не действует ли он в сговоре с инфантом?
Труднее всего нам здесь показать то, что при всей тупости игры, при всей пошлости представления, которое, некогда начавшись «лишь, бы как», обрело такую силу, что никак не желает кончаться, а не желает, потому что не может, а не может, потому что иначе невольных актеров ожидает уже только одно абсолютное ничто (они уже не могут перестать быть епископами, герцогами крови, маркизами, поскольку для них нет возврата на позиции шоферов гестапо, крематорских стражников, комендантов концлагерей, так же, как и король, даже пожелай он того, уже не мог бы вновь превратиться в группенфюрера СС Таудлица), при всей, повторяем, банальности и чудовищной пошлости этого государства и двора в нем одновременно вибрируют единым чутким нервом та беспрестанная хитрость, та взаимная подозрительность, которые только и позволяют разыгрывать в фальшивых декорациях истинные битвы, творить подвохи, подрывать положение фаворитов трона, строчить доносы и молча вырывать для себя милость господина; однако в действительности не сами по себе кардинальские митры, орденские ленты, кружева, жабо, латы являются целью всей этой кротовьей возни, интриг – ведь, в конце концов, какой прок этим участникам сотен битв и вершителям тысяч убийств от внешних знаков фиктивной славы? Нет, именно сами эти подкопы, мошенничества, капканы, само стремление дискредитировать противников в глазах короля, заставить их сбросить натянутые на себя одежды, становится наивеличайшей всеобщей страстью…
Бертран – еще одна заслуга автора! – понемногу превращается в Гамлета этого спятившего двора. Он инстинктивно чувствует себя здесь последним праведником («Гамлета» он не читал никогда), поэтому считает, что должен сойти с ума. Он не обвиняет всех в цинизме – для этого в нем слишком мало интеллектуальной отваги: Бертран, сам того не ведая, хочет лишь одного: говорить то, что постоянно жжет ему язык и просится на уста. И он уже понимает, что для нормального это не сойдет безнаказанно. А вот если он спятит – о, тогда другое дело. И Бертран начинает симулировать сумасшествие с холодным расчетом, словно шекспировский Гамлет; не как простак, наивный, немного истеричный – нет, он пытается сойти с ума, искренне веря в необходимость собственного помешательства! Только тогда он сможет высказывать слова правды, которые его душат… Но герцогиня де Клико, старая проститутка из Рио, у которой слюнки текут при виде молодого человека, затаскивает его в постель и, обучая тонкостям любовной игры, которые она запомнила еще со времен негерцогского прошлого и переняла у некой бордель-маман, сурово предостерегает его, чтобы он не говорил того, что может стоить ему жизни. Она-то ведь отлично знает, что ничего похожего на снисхождение к безответственности душевнобольного здесь не найдешь: по сути дела, как мы видим, старуха желает добра Бертрану. Однако беседа под периной, естественно, не может разрушить планов уже дошедшего до предела Бертрана. Либо он сойдет с ума, либо сбежит: вскрытие подсознания бывших эсэсовцев, вероятно, показало бы, что память о реальном мире с его заочными приговорами, тюрьмами и трибуналами является той невидимой силой, которая заставляет их продолжать игру: но Бертран, у которого такого прошлого нет, этого продолжения не желает.
Меж тем уже упоминавшийся заговор переходит в фазу действия: уже не десять, а четырнадцать придворных, готовых на все, нашедших сообщника в начальнике дворцовой стражи, после полуночи врываются в королевскую опочивальню. И здесь, в кульминационный момент – мина замедленного действия! – оказывается, что настоящие-то доллары давным-давно истрачены, остались только вод прославленным «вторым дном» одни фальшивки. Король отлично знал об этом. Выходит, не за что и копья ломать, но мосты сожжены: заговорщики вынуждены убить короля, связанного и бессильно глядящего со своего ложа, как убийцы перетряхивают извлеченную из-под ложа «сокровищницу». Вначале они собирались его убить, чтобы избежать погони, не допустить расплаты, теперь же убивают из ненависти, за то, что он соблазнил их фальшивыми сокровищами.
Если б это не было так мерзко, я сказал бы, что сцена убийства написана изумительно: по совершенству рисунка виден мастер. Чтобы отыграться на старике, донять его как можно болезненней, они, прежде чем удушить его шнурком, принимаются рычать на него языком концлагерных поваров и гестаповских шоферов, тем самым языком, который был проклят, обречен на вечное изгнание из королевства. И пока тело удушаемого еще бьется в конвульсиях на полу, убийцы, поостыв, возвращаются к придворному языку лишь потому, что у них уже нет иного выхода: доллары фальшивые, не с чем и незачем убегать. Таудлиц спутал их по рукам и ногам и не выпустит никого из своего королевства. Им не остается ничего иного, как продолжать игру в соответствии с изречением: «Король умер. Да здравствует король!» – и тут же сразу над трупом они выбирают нового короля.
Следующая глава (Бертран, укрытый у своей «герцогини») значительно слабее. Лишь последняя глава, описывающая, как разъезд конной аргентинской полиции добирается до дворцовых стен. – эта гигантская немая сцена, заключительная в романе. – представляет собою отличное его завершение. Разводной мост, полицейские в измятых мундирах с кольтами на ремнях, в широкополых шляпах, загнутых с одной стороны, а напротив них стражи в полупанцирях и кольчугах, с алебардами, в изумлении глядящие одни на других, словно два времени, два мира, противоестественно сошедшиеся в одном месте… по двум сторонам решетки, которая начинает медленно, тяжело, с адским скрежетом подниматься… Финал, Достойный произведения! Но своего Гамлета – Бертрана – автор, увы, потерял, не использовав больших возможностей, заложенных в этой фигуре. Я не говорю, что его следовало умертвить – в этом Шекспир не может быть непререкаемым образцом, – но жаль утерянной возможности: неосознанного величия, которое спит в каждом нормальном, доброжелательном человеческом сердце. Очень жаль.
Артур Кларк
КОЛЫБЕЛЬ НА ОРБИТЕ
Прежде чем мы начнем хотелось бы подчеркнуть одну вещь, которую многие, похоже, забывают. Двадцать первый век наступит не завтра – он начнется годом позже 1 января 2001 года. Хотя календари после полуночи будут отсчитывать 2000-й год, старый век продлится еще двенадцать месяцев. Каждые сто лет нам, астрономам, приходится снова и снова объяснять это, но все напрасно. Стоит в счете веков появиться двум нулям, как уже идет пир горой!
Так вы хотите узнать, какое событие больше всего запомнилось мне за полвека космических исследований… Конечно, уже взяли интервью у фон Брауна? Как он поживает? Приятно слышать; я не видел его после симпозиума в Астрограде в честь его восьмидесятилетия, с тех пор он не прилетал с Луны.
Что говорить, я повидал немало великих событий в истории космонавтики, начиная с запуска первого спутника. В двадцать пять лет я был вычислителем в Капустном Яру, недостаточно важная личность, чтобы присутствовать в контрольном центре, когда шел отсчет последних секунд. Но я слышал старт. Только однажды за всю жизнь я слышал звук, который поразил меня еще сильнее. (Что это было? После скажу.) Как только стало известно, что спутник вышел на орбиту, один из ведущих ученых вызвал свой ЗИЛ, и мы покатили в Волгоград отмечать событие. Сто километров одолели за то же время, за какое спутник совершил первый оборот вокруг Земли – неплохая скорость! (Кто-то подсчитал, что выпитой на следующий день водки хватило бы для запуска крошки-спутника, который конструировали американцы, но я в этом не уверен.)
Большинство учебников истории утверждает, что именно тогда, 4 октября 1957 года, начался Космический Век. Я не собираюсь спорить с ними, но, по-моему, самое увлекательное было потом. Что может сравниться по драматизму с тем случаем, когда военные корабли США мчались на выручку Дмитрию Калинину и в последний миг выловили из Южной Атлантики его капсулу? А радиорепортаж Джерри Уингайта, его красочные эпитеты, на которые ни один цензор не посмел покуситься, когда он обогнул Луну и впервые увидел воочию ее обратную сторону! А всего пять лет спустя – телевизионная передача из кабины «Германа Оберта», когда корабль прилунился на плато в Заливе Радуг. Он и сейчас там стоит вечным памятником людям, которых схоронили рядом с ним…
Все это были великие вехи на пути в космос, но вы ошибаетесь, если думаете, что я буду говорить о них. Меня больше всего поразило совсем другое. Я даже не уверен, сумею ли хорошо рассказать, а если в сумею – как вы это подадите? Ведь нового ничего не будет, газеты тогда только об этом и писали. Но большинство из них упустило самую суть, для прессы это была просто выигрышная человечная черточка, только и всего.
Было это через двадцать лет после запуска первого спутника, вместе с другими я находился тогда та Луне. Правда, к тому времени я стал уже слишком важной персоной, чтобы заниматься наукой. Прошло больше десятка лет с тех пор, как я составлял программы для электронной машины; теперь моя задача была несколько сложнее – «программировать» людей, ведь я отвечал за проект АРЕС, готовил первую экспедицию на Марс.
Стартовать, понятно, решили с Луны, там тяготение намного слабее, и для запуска нужно в пятьдесят раз меньше горючего, чем на Земле. Хотели было собирать корабли, на орбите спутника – еще меньше горючего надо для вылета, – но когда продумали все как следует, эта идея отпала. Не так-то просто устраивать в космосе заводы и мастерские; невесомость скорее мешает, чем помогает, когда вам нужно, чтобы все предметы беспрекословно слушались вас. К тому времени, в конце семидесятых годов. Первая Лунная База работала полным ходом. Химические заводы и всякие мелкие предприятия производили все для поселка. И мы решили использовать их, вместо того чтобы ценой огромных усилий и затрат сооружать в космосе новые.
«Альфу», «Бету» и «Гамму» – три корабля экспедиции собирали на дне Платона. Здесь в кольце гор простерлась, пожалуй, самая гладкая равнина этой стороны Луны, и настолько обширная, что наблюдателю, стоящему в ее центре, и не придет в голову, что он находится на дне кратера: горы скрыты далеко за горизонтом. Герметичные купола базы стояли в десяти километрах от стартовой площадки и были связаны с ней канатной дорогой; эти дороги очень нравятся туристам, но, на мой взгляд, сильно уродуют лунный пейзаж.
В первые дни освоения жизнь на Луне была далеко не сладкой, мы не могли и мечтать об удобствах, которые теперь стали обычными. Центральный Купол, с его парками и озерами, тогда существовал только на ватманской бумаге; впрочем, мы все равно не смогли бы им насладиться, проект АРЕС поглощал нас всецело. Человек готовился совершить первый прыжок в большой космос; уже в ту пору мы рассматривали Луну всего лишь как предместье Земли, камень в реке, на который можно опереться и прыгнуть, куда тебе надо. Наши мысли лучше всего выразить словами Циолковского – они висели у меня в кабинете на стене, чтобы каждый мог видеть:
«Земля – колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели».
(Что вы сказали? Нет-нет, я никогда не встречался с Циолковским. В 1935 году, когда он умер, мне было всего четыре года!)
После многих лет секретности было очень приятно работать рука об руку с людьми всех наций над проектом, осуществлять который помогал весь мир. Из моих четырех заместителей один был американец, другой – индиец, третий – китаец, четвертый – русский. И хотя ученые разных стран всячески старались перещеголять друг друга, это было полезное соперничество, оно только шло на благо нашему делу. Посетителям, не забывшим старые недобрые времена, я не раз с гордостью напоминал: «На Луне нет секретов».
Ну так вот, я ошибался: секрет был, притом у меня под носом, в моем собственном управлении. Возможно, я бы и заподозрил что-нибудь, если бы бесчисленные детали проекта АРЕС не заслонили от меня все прочее. Теперь-то, оглядываясь назад, я вижу, что было вдоволь всевозможных намеков и признаков, но тогда я ничего не заметил. Правда, от моего внимания не ускользнуло, что Джим Хатчинс, мой молодой заместитель – американец, становится все более рассеянным, словно его что-то заботило. Раз или два пришлось даже сделать ему выговор за небольшие упущения; он обижался и заверял, что это не повторится. Хатчинс был типичный, ярко выраженный колледж-бой, каких Соединенные Штаты поставляют в изрядных количествах, очень добросовестный, хотя звезд с неба не хватал. Он уже три года был на Луне и едва ли не первым забрал с Земли свою жену, как только отменили ограничения. Я так никогда и не выяснил, каким образом он оказался замешанным в этой истории; видимо, сумел нажать тайные пружины, хотя уж его-то никак нельзя было представить себе главным действующим лицом международного заговора. Да что там международного – тут и Луна участвовала, десяток людей, вплоть до высшего начальства в Управлении Астронавтики.
Мне до сих пор кажется чудом, что они сумели все сохранить в тайне.
Восход солнца начался уже два дня назад по земному времени, но хотя четкие тени заметно укоротились, до лунного полудня было еще пять дней. Мы готовились провести первое статическое испытание двигателей «Альфы»; силовая установка была вся смонтирована, корпус корабля собран. Стоя на равнине, «Альфа» напоминала скорее часть нефтеперегонного комбината, чем космический корабль, но нам она казалась прекрасной, символом будущих завоеваний. Момент ответственный: еще никогда не делали таких мощных термоядерных двигателей, и, несмотря на все старания, полной уверенности не было. Если теперь что-нибудь не сработает, проект АРЕС может быть оттянут не на один год.
Отсчет времени уже начался, когда ко мне подбежал Хатчинс, бледный и озабоченный.
– Мне нужно немедленно доложить на Базу, – выпалил он. Это очень важно!
– Важнее испытания? – язвительно осведомился я, сдерживая досаду.
Он помялся, словно хотел мне что-то объяснить, потом коротко ответил:
– Да, пожалуй.
– Хорошо, – сказал я, он тотчас исчез.
Я мог бы потребовать у него объяснения, но подчиненным надо доверять. Возвращаясь к центральному пульту управления, я раздраженно говорил себе, что сыт по горло этим взбалмошным юнцом, надо будет попросить, чтобы его забрали от меня. И ведь что всего удивительнее: он не меньше других волновался, как пройдет испытание, а сам вдруг умчался по канатной дороге на Базу. Пузатый цилиндр кабины уже был на полпути к следующей опоре, скользя по едва заметным тросам подобно какой-то невиданной птице.
Пять минут спустя я совсем разозлился. Целая группа приборов-самописцев вдруг забастовала, пришлось отложить испытания на три часа. Я метался в контрольном центре, твердя всем и каждому (благо им некуда было от меня спастись), что у нас в Капустином Яру таких вещей не случалось. Наконец, после второй чашки кофе я слегка успокоился; и тут в динамиках прозвучал сигнал «Слушайте все». Только один сигнал считался еще важнее – вой аварийных сирен. За все мои годы в Лунном поселке я дважды слышал его – и надеюсь больше никогда не услышать. Голос, который затем раздался в каждом помещении на Луне и в наушниках каждого рабочего на безмолвных равнинах, принадлежал генералу Моше Стайну, председателю Управления Астронавтики. (Тогда еще существовали всякие почетные титулы, хотя никто уже не придавал им значения.)
– Я говорю из Женевы, – начал генерал Стайн, – на мою долю выпало сделать важное сообщение. Последние девять месяцев проходил ответственейший эксперимент. Мы держали его в секрете, считаясь с непосредственными участниками опыта и не желая пробуждать ненужных надежд или опасений. Вы помните, еще недавно многие специалисты вообще не верили, что человек сможет жить в космосе; и на сей раз нашлись пессимисты, они сомневались, удастся ли сделать следующий шаг в покорении вселенной. Теперь доказано, что они ошибались: разрешите представить вам Джорджа Джонатана Хатчинса, первого Уроженца Космоса.
Последовал щелчок, затем пауза, непонятные шорохи и шепот. И вдруг на всю Луну и половину Земли – звук, о котором я обещал вам рассказать, самый поразительный звук, какой мне довелось слышать за всю свою жизнь.
Это был слабый плач новорожденного младенца, первого в истории человечества, который родился вне Земли! В полной тишине, воцарившейся в контрольном центре, мы поглядели сперва друг на друга, потом на корабли на сияющей равнине. Всего несколько минут назад нам казалось, что на свете нет ничего важнее их. И вот им пришлось отступить перед тем, что произошло в Медицинском Центре – и что будет в грядущих веках происходить миллиарды раз в бесчисленных мирах.
Вот тогда-то, уважаемые друзья, я почувствовал, что человек действительно утвердился в космосе.