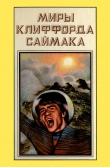Текст книги "БСФ. Том 25. Антология"
Автор книги: Гарри Гаррисон
Соавторы: Айзек Азимов,Иван Ефремов,Станислав Лем,Роберт Шекли,Альфред Бестер,Кобо Абэ,Пьер Буль,Владимир Савченко,Джон Уиндем,Рэй Брэдбери
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
– А вы что скажете? – обращается востроносый к Эрнесту.
– У меня дело, – веско отвечает Эрни. – Я вам не сопляк какой-нибудь! Я все свои деньги в это дело вложил. Ко мне иной раз сам комендант заходит, генерал, понял? Чего же я отсюда поеду?…
Господин Алоиз Макно принялся ему что-то втолковывать с цифрами, но я его уже не слушал. Хлебнул я как следует из бокала, выгреб из кармана кучу мелочи, слез с табуретки и первым делом запустил музыкальный автомат на полную катушку. Есть там одна такая песенка – «Не возвращайся, если не уверен». Очень она на меня хорошо действует после Зоны… Ну, автомат, значит, гремит и завывает, а я забрал свой бокал и пошел в угол к «однорукому бандиту» старые счеты сводить. И полетело время, как птичка… Просаживаю это я последний никель, и тут вваливаются под гостеприимные своды Ричард Нунан с Гуталином. Гуталин уже на бровях, вращает белками и ищет, кому бы дать в ухо, а Ричард Нунан нежно держит его под руку и отвлекает анекдотами. Хороша парочка! Гуталин здоровенный, черный, как офицерский сапог, курчавый, ручищи до колен, а Дик – маленький, кругленький, розовенький весь, благостный, только что не светится.
– А! – кричит Дик, увидев меня. – Вот и Рэд здесь! Иди к нам, Рэд!
– Пр-равильно! – ревет Гуталин. – Во всем городе есть только два человека – Рэд и я! Все остальные – свиньи, дети сатаны. Рэд! Ты тоже служишь сатане, но ты все-таки человек…
Я подхожу к ним со своим бокалом, Гуталин сгребает меня за куртку, сажает за столик и говорит:
– Садись, Рыжий! Садись, слуга сатаны! Люблю тебя. Поплачем о грехах человеческих. Горько восплачем!
– Восплачем, – говорю. – Глотнем слез греха.
– Ибо грядет день, – возвещает Гуталин. – Ибо взнуздан уже конь бледный, и уже вложил ногу в стремя всадник его. И тщетны молитвы продавшихся сатане. И спасутся только ополчившиеся на него. Вы, дети человеческие, сатаною прельщенные, сатанинскими игрушками играющие, сатанинских сокровищ взалкавшие, – вам говорю: слепые! Опомнитесь, сволочи, пока не поздно! Растопчите дьявольские бирюльки! – Тут он вдруг замолчал, словно забыл, как будет дальше. – А выпить мне здесь дадут? Спросил он уже другим голосом. – Или где это я?… Знаешь, Рыжий, опять меня с работы поперли. Агитатор, говорят. Я им объясняю: опомнитесь, сами, слепые, в пропасть валитесь и других слепцов за собой тянете! Смеются. Ну, я дал управляющему по харе и ушел. Посадят теперь. А за что?
Подошел Дик, поставил на стол бутылку.
– Сегодня я плач eq o (у;ґ)! – крикнул я Эрнесту.
Дик на меня скосился.
– Все законно, – говорю. – Премию будем пропивать.
– В Зону ходили? – спрашивает Дик. – Что-нибудь вынесли?
– Полную «пустышку», – говорю я. – На алтарь науки. И полные штаны вдобавок. Ты разливать будешь или нет?
– «Пустышку»!.. – горестно гудит Гуталин. – За какую-то «пустышку» жизнью своей рисковал! Жив остался, но в мир принес еще одно дьявольское изделие… А как ты можешь знать, Рыжий, сколько горя и греха…
– Засохни, Гуталин, – говорю я ему строго. – Пей и веселись, что я живой вернулся. За удачу, ребята!
Хорошо пошло за удачу. Гуталин совсем раскис, сидит, плачет, течет у него из глаз как из водопроводного крана. Ничего, я его знаю. Это у него стадия такая: обливаться слезами и проповедовать, что Зона, мол, есть дьявольский соблазн, выносить из нее ничего нельзя, а что уже вынесли, вернуть обратно и жить так, будто Зоны вовсе нет. Дьяволово, мол, дьяволу.
Я его люблю, Гуталина. Я вообще чудаков люблю. У него когда деньги есть, он у кого попало хабар скупает, не торгуясь, за сколько спросят, а потом ночью прет этот хабар обратно, в Зону, и там закапывает… Во ревет-то, господи! Ну ничего, он еще разойдется.
– А что это такое: полная «пустышка»? – спрашивает Дик. – Просто «пустышку» я знаю, а вот что такое полная? Первый раз слышу.
Я ему объяснил. Он головой покачал, губами почмокал.
– Да, – говорит. – Это интересно. Это, – говорит, – что-то новенькое. А с кем ты ходил? С русским?
– Да, – отвечаю. – С Кириллом и с Тендером. Знаешь, наш лаборант.
– Намучился с ними, наверное…
– Ничего подобного. Вполне прилично держались ребята. Особенно Кирилл. Прирожденный сталкер, – говорю. – Ему бы опыта побольше, торопливость с него эту ребячью сбить, я бы с ним каждый день в Зону ходил.
– И каждую ночь? – спрашивает он с пьяным смешком.
– Ты это брось, – говорю. – Шутки шутками…
– Знаю, – говорит он. – Шутки шутками, а за такое можно и схлопотать. Считай, что я тебе должен две плюхи…
– Кому две плюхи? – встрепенулся Гуталин. – Который здесь?
Схватили мы его за руки, еле усадили. Дик ему сигарету в зубы вставил и зажигалку поднес. Успокоили. А народу тем временем все прибавляется. Стойку уже облепили, многие столики заняты. Эрнест своих девок кликнул, бегают они, разносят кому что: кому пива, кому коктейлей, кому чистого. Я смотрю, последнее время в городе много незнакомых появилось, все больше какие-то молокососы в пестрых шарфах до полу. Я сказал об этом Дику. Дик кивнул.
– А как же, – говорит. – Начинается большое строительство. Институт три новых здания закладывает, а кроме того, Зону собираются стеной огородить от кладбища до старого ранчо. Хорошие времена для сталкеров кончаются…
– А когда они у сталкеров были? – говорю. А сам думаю: «Вот тебе и на, что еще за новости? Значит, теперь не подработаешь. Ну что ж, может, это и к лучшему, соблазна меньше. Буду ходить в Зону днем, как порядочный, – деньги, конечно, не те, но зато куда безопаснее: „галоша“, спецкостюм, то-се, и на патрулей наплевать… Прожить можно и на зарплату, а выпивать буду на премиальные». И такая меня тоска взяла! Опять каждый грош считать: это можно себе позволить, это нельзя себе позволить, Гуте на любую тряпку копи, в бар не ходи, ходи в кино… И серо все, серо. Каждый день серо, и каждый вечер, и каждую ночь.
Сижу я так, думаю, а Дик над ухом гудит:
– Вчера в гостинице зашел я в бар принять ночной колпачок, сидят какие-то новые. Сразу они мне не понравились. Подсаживается один ко мне и заводит разговор издалека, дает понять, что он меня знает, знает, кто я, где работаю, и намекает, что готов хорошо оплачивать разнообразные услуги…
– Шпик, – говорю я. Не очень мне интересно было это, шпиков я здесь навидался и разговоров насчет услуг наслышался.
– Нет, милый мой, не шпик. Ты послушай. Я немножко с ним побеседовал, осторожно, конечно, дурачка такого состроил. Его интересуют кое-какие предметы в Зоне, и при этом предметы серьезные. Аккумуляторы, «зуда», «черные брызги» и прочая бижутерия ему не нужна. А на то, что ему нужно, он только намекал.
– Так что же ему нужно? – спрашиваю я.
– «Ведьмин студень», как я понял, – говорит Дик и странно как-то на меня смотрит.
– Ах, «ведьмин студень» ему нужен! – говорю я. – А «смерть-лампа» ему, случайно, не нужна?
– Я его тоже так спросил.
– Ну?
– Представь себе, нужна.
– Да? – говорю я. – Ну так пусть сам и добывает все это. Это же раз плюнуть! «Ведьмина студня» вон полные подвалы, бери ведро да зачерпывай. Похороны за свой счет.
Дик молчит, смотрит на меня исподлобья и даже не улыбается. Что за черт, нанять он меня хочет, что ли? И тут до меня дошло.
– Подожди, – говорю. – Кто же это такой был? «Студень» запрещено даже в институте изучать…
– Правильно, – говорит Дик неторопливо, а сам все на меня смотрит. Исследования, представляющие потенциальную опасность для человечества. Понял теперь, кто это?
Ничего я не понимал.
– Пришельцы, что ли? – говорю.
Он расхохотался, похлопал меня по руке и говорит:
– Давай-ка лучше выпьем, простая ты душа!
– Давай, – говорю, но злюсь. Тоже мне нашли себе простую душу, сукины дети! – Эй, – говорю, – Гуталин! Хватит спать, давай выпьем.
Нет, спит Гуталин. Положил свою черную ряшку на черный столик и спит, руки до полу свесил. Выпили мы с Диком без Гуталина.
– Ну ладно, – говорю. – Простая я там душа или сложная, а про этого типа я бы тут же донес куда следует. Уж на что я не люблю полицию, а сам бы пошел и донес.
– Угу, – говорит Дик. – А тебя бы в полиции спросили: а почему, собственно, оный тип именно к вам обратился? А?
Я помотал головой:
– Все равно. Ты, толстый боров, в городе третий год, а в Зоне ни разу не был, «ведьмин студень» только в кино видел, а посмотрел бы ты его в натуре, да что он с человеком делает, ты бы тут же и обгадился. Это, милок, страшная штука, ее из Зоны выносить нельзя… Сам знаешь, сталкеры – люди грубые, им только капусту подавай, да побольше, но на такое даже покойный Слизняк не пошел бы. Стервятник Барбридж на такое не пойдет… Я даже представить себе боюсь, кому и для чего «ведьмин студень» может понадобиться…
– Что ж, – говорит Дик. – Все это правильно. Только мне, понимаешь, не хочется, чтобы в одно прекрасное утро нашли меня в постельке покончившего жизнь самоубийством. Я не сталкер, однако человек тоже грубый и деловой, и жить, понимаешь, люблю. Давно живу, привык уже…
Тут Эрнест вдруг заорал из-за стойки:
– Господин Нунан! Вас к телефону!
– Вот дьявол, – говорит Дик злобно. – Опять, наверное, рекламация. Везде найдут. Извини, – говорит, – Рэд.
Встает он и уходит к телефону. А я остаюсь с Гуталином и с бутылкой, и поскольку от Гуталина проку никакого нет, то принимаюсь я за бутылку вплотную. Черт бы побрал эту Зону, нигде от нее спасения нет. Куда ни пойдешь, с кем ни заговоришь – Зона, Зона, Зона… Хорошо, конечно, Кириллу рассуждать, что из Зоны проистечет вечный мир и благорастворение воздухов. Кирилл хороший парень, никто его дураком не назовет, наоборот, умница, но ведь он же о жизни ни черта не знает. Он же представить себе не может, сколько всякой сволочи крутится вокруг Зоны. Вот теперь, пожалуйста: «ведьмин студень» кому-то понадобился. Нет, Гуталин хоть и пропойца, хоть и психованный он на религиозной почве, но иногда подумаешь-подумаешь, да и скажешь: может, действительно оставить дьяволово дьяволу? Не тронь дерьмо…
Тут усаживается на место Дика какой-то сопляк в пестром шарфе.
– Господин Шухарт? – спрашивает.
– Ну? – говорю.
– Меня зовут Креон, – говорит. – Я с Мальты.
– Ну, – говорю. – И как там у вас на Мальте?
– У нас на Мальте неплохо, но я не об этом. Меня к вам направил Эрнест.
Так, думаю. Сволочь все-таки этот Эрнест. Ни жалости в нем нет, ничего. Вот сидит парнишка смугленький, чистенький, красавчик, не брился поди еще ни разу и девку еще ни разу не целовал, а Эрнесту все равно, ему бы только побольше народу в Зону загнать, один из трех с хабаром вернется – уже капуста…
– Ну и как поживает старина Эрнест? – спрашиваю.
Он оглянулся на стойку и говорит:
– По-моему, он неплохо поживает. Я бы с ним поменялся.
– А я бы нет, – говорю. – Выпить хочешь?
– Спасибо, я не пью.
– Ну закури, – говорю.
– Извините, но я и не курю тоже.
– Черт тебя подери! – говорю я ему. – Так зачем тебе тогда деньги?
Он покраснел, перестал улыбаться и негромко так говорит:
– Наверное, – говорит, – это только меня касается, господин Шухарт, правда ведь?
– Что правда, то правда, – говорю я и наливаю себе на четыре пальца. В голове, надо сказать, уже немного шумит и в теле этакая приятная расслабленность: совсем отпустила Зона. – Сейчас я пьян, – говорю. Гуляю, как видишь. Ходил в Зону, вернулся живой и с деньгами. Это не часто бывает, чтобы живой, и уже совсем редко, чтобы с деньгами. Так что давай отложим серьезный разговор…
Тут он вскакивает, говорит «извините», и я вижу, что вернулся Дик. Стоит рядом со своим стулом, и по лицу его я понимаю: что-то случилось.
– Ну, – спрашиваю, – опять твои баллоны вакуум не держат?
– Да, – говорит он. – Опять…
Садится, наливает себе, подливает мне, и вижу я, что не в рекламации дело. На рекламации он, надо сказать, поплевывает, тот еще работничек!
– Давай, – говорит, – выпьем, Рэд. – И, не дожидаясь меня, опрокидывает залпом всю свою порцию и наливает новую. – Ты знаешь, говорит он, – Кирилл Панов умер.
Сквозь хмель я его не сразу понял. Умер там кто-то и умер.
– Что ж, – говорю, – выпьем за упокой души…
Он глянул на меня круглыми глазами, и только тогда я почувствовал, словно все у меня внутри оборвалось. Помнится, я встал, уперся в столешницу и смотрю на него сверху вниз.
– Кирилл?!. – А у самого перед глазами серебряная паутина, и снова я слышу, как она потрескивает, разрываясь. И через это жуткое потрескивание голос Дика доходит до меня как из другой комнаты:
– Разрыв сердца. В душевой его нашли, голого. Никто ничего не понимает. Про тебя спрашивали, я сказал, что ты в полном порядке…
– А чего тут не понимать? – говорю. – Зона…
– Ты сядь, – говорит мне Дик. – Сядь и выпей.
– Зона… – повторяю я и не могу остановиться. – Зона… Зона…
Ничего вокруг не вижу, кроме серебряной паутины. Весь бар запутался в паутине, люди двигаются, а паутина тихонько потрескивает, когда они ее задевают. А в центре Мальтиец стоит, лицо у него удивленное, детское, ничего не понимает.
– Малыш, – говорю я ему ласково. – Сколько тебе денег надо? Тысячи хватит? На! Бери, бери! – сую я ему деньги и уже кричу: – Иди к Эрнесту и скажи ему, что он сволочь и подонок, не бойся, скажи! Он же трус!.. Скажи и сейчас же иди на станцию, купи себе билет и прямиком на свою Мальту! Нигде не задерживайся!..
Не помню, что я там еще кричал. Помню, оказался я перед стойкой, Эрнест поставил передо мной бокал освежающего и спрашивает:
– Ты сегодня вроде при деньгах?
– Да, – говорю, – при деньгах…
– Может, должок отдашь? Мне завтра налог платить.
И тут я вижу: в кулаке у меня пачка денег. Смотрю я на эту капусту зеленую и бормочу:
– Надо же, не взял, значит, Креон Мальтийский… Гордый, значит… Ну, все остальное судьба.
– Что это с тобой? – спрашивает друг Эрни. – Перебрал малость?
– Нет, – говорю. – Я, – говорю, – в полном порядке. Хоть сейчас в душ.
– Шел бы ты домой, – говорит друг Эрни. – Перебрал ты малость.
– Кирилл умер, – говорю я ему.
– Это который Кирилл? Шелудивый, что ли?
– Сам ты шелудивый, сволочь, – говорю я ему. – Из тысячи таких, как ты, одного Кирилла не сделать. Паскуда ты, – говорю. – Торгаш вонючий. Смертью ведь торгуешь, морда. Купил нас всех за зелененькие… Хочешь, сейчас всю твою лавочку разнесу?
И только я замахнулся как следует, вдруг меня хватают и тащат куда-то. А я уже ничего не соображаю и соображать не хочу. Ору чего-то, отбиваюсь, ногами кого-то бью, потом опомнился, сижу в туалетной, весь мокрый, морда разбита. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю, и тик мне какой-то щеку сводит, никогда этого раньше не было. А из зала шум, трещит что-то, посуда бьется, девки визжат, и слышу – Гуталин ревет:
– Покайтесь, паразиты! Где Рыжий? Куда Рыжего дели, чертово семя?…
Полицейская сирена завывает. Как она завыла, тут у меня в мозгу все словно хрустальное сделалось. Все помню, все знаю, все понимаю. И в душе уже больше ничего нет, одна ледяная злоба. «Так, – думаю, – я тебе сейчас устрою вечерочек! Я тебе покажу, что такое сталкер, торгаш вонючий!» Вытащил я из часового карманчика «зуду», новенькую, ни разу не пользованную, пару раз сжал ее между пальцами для разгона, дверь в зал приоткрыл и бросил ее тихонько в плевательницу. А сам окошко в сортире распахнул и на улицу. Очень мне, конечно, хотелось посмотреть, как все это получится, но надо было убираться поскорее. Я эту «зуду» переношу плохо, у меня от нее кровь из носа идет.
Перебежал я через двор и слышу: заработала моя «зуда» на всю катушку. Сначала завыли и залаяли собаки по всему кварталу: они первыми «зуду» чуют. Потом завопил кто-то в кабаке, так что у меня даже уши заложило на расстоянии. Я так и представил себе, как там народишко заметался, – кто в меланхолию впал, кто в дикое буйство, кто от страха не знает, куда деваться… Страшная штука «зуда». Теперь у Эрнеста не скоро полный кабак наберется. Он, конечно, догадается про меня, да только мне наплевать… Все. Нет больше сталкера Рэда. Хватит с меня этого. Хватит мне самому на смерть ходить и других дураков этому делу обучать. Ошибся ты, Кирилл, дружок мой милый. Прости, да только, выходит, не ты прав, а Гуталин прав. Нечего здесь людям делать. Нет в Зоне добра.
Перелез я через забор и побрел потихоньку домой. Губы кусаю, плакать хочется, а не могу. Впереди пустота, ничего нет. Тоска, будни. «Кирилл, дружок мой единственный, как же это мы с тобой? Как же я теперь без тебя? Перспективы мне рисовал, про новый мир, про измененный мир… а теперь что? Заплачет по тебе кто-то в далекой России, а я вот и заплакать не могу. И ведь я во всем виноват, паразит, не кто-нибудь, а я! Как я, скотина, смел его в гараж вести, когда у него глаза к темноте не привыкли? Всю жизнь волком жил, всю жизнь об одном себе думал… И вот в кои-то веки вздумал облагодетельствовать, подарочек поднести. На кой черт я вообще ему про эту „пустышку“ сказал?» И как вспомнил я об этом, взяло меня за глотку, хоть и вправду волком вой. Я, наверное, и завыл – люди от меня что-то шарахаться стали, а потом вдруг словно бы полегчало: смотрю – Гута идет.
Идет она мне навстречу, моя красавица, девочка моя, идет, ножками своими ладными переступает, юбочка над коленками колышется, из всех подворотен на нее глазеют, а она идет как по струночке, ни на кого не глядит, и почему-то я сразу понял, что это она меня ищет.
– Здравствуй, – говорю, – Гута. Куда это ты, – говорю, – направилась?
Она окинула меня взглядом, в момент все увидела, и морду у меня разбитую, и куртку мокрую, и кулаки в ссадинах, но ничего про это не сказала, а говорит только:
– Здравствуй, Рэд. А я как раз тебя ищу.
– Знаю, – говорю. – Пойдем ко мне.
Она молчит, отвернулась и в сторону смотрит. Ах, как у нее головка-то посажена, шейка какая, как у кобылки молоденькой, гордой, но покорной уже своему хозяину. Потом она говорит:
– Не знаю, Рэд. Может, ты со мной больше встречаться не захочешь.
У меня сердце сразу сжалось: что еще? Но я спокойно ей так говорю:
– Что-то я тебя не понимаю, Гута. Ты меня извини, я сегодня маленько того, может, поэтому плохо соображаю… Почему это я вдруг с тобой не захочу встречаться?
Беру я ее под руку, и идем мы не спеша к моему дому, и все, кто только что на нее глазел, теперь торопливо рыла прячут. Я на этой улице всю жизнь живу, Рэда Рыжего здесь все прекрасно знают. А кто не знает, тот у меня быстро узнает, и он это чувствует.
– Мать велит аборт делать, – говорит вдруг Гута. – А я не хочу.
Я еще несколько шагов прошел, прежде чем понял, а Гута продолжает:
– Не хочу я никаких абортов, я ребенка хочу от тебя. А ты как угодно. Можешь на все четыре стороны, я тебя не держу.
Слушаю я ее, как она понемножку накаляется, сама себя заводит, слушаю и потихоньку балдею. Ничего толком сообразить не могу. В голове какая-то глупость вертится: одним человеком меньше – одним человеком больше.
– Она мне толкует, – говорит Гута, – ребенок, мол, от сталкера, чего тебе уродов плодить? Проходимец он, говорит, ни семьи у вас не будет, ничего. Сегодня он на воле, завтра – в тюрьме. А только мне все равно, я на все готова. Я и сама могу. Сама рожу, сама подниму, сама человеком сделаю. И без тебя обойдусь. Только ты ко мне больше не подходи, на порог не пущу…
– Гута, – говорю, – девочка моя! Да подожди ты… – А сам не могу, смех меня разбирает какой-то нервный, идиотский. – Ласточка моя, – говорю, – чего же ты меня гонишь, в самом деле?
Я хохочу как последний дурак, а она остановилась, уткнулась мне в грудь и ревет.
Айзек Азимов
НЕКРОЛОГ
За завтраком мой муж Ланселот всегда читал газету. Я его почти не видела. Длинное, худое, не от мира сего лицо с выражением постоянной досады и утомленной озадаченности возникало ненадолго передо мной, когда он выходил к завтраку, и тут же скрывалось за газетой, заботливо приготовленной для него на столе. И это все. Обычно он не здоровался.
Потом я видела только руку, которая появлялась из-за развернутого листа, чтобы взять вторую чашку кофе, в которую я аккуратно насыпала точное количество сахара – чайную ложку, не с верхом, но полную, ровно столько, сколько надо.
Я давно привыкла к этому и не обижалась. По крайней мере, позавтракать можно было спокойно.
Впрочем, в то утро спокойствие было нарушено: Ланселот неожиданно пролаял:
– Черт возьми! Этот болван Поль Фарберкоммер отдал концы. Удар.
Я с трудом припомнила фамилию. Ланселот как-то упоминал ее, и я поняла, что речь идет еще об одном физике-теоретике. Судя по раздражению моего мужа, он, видимо, пользовался в какой-то мере известностью. Наверное, один из тех, кто все же достиг успеха, всегда ускользавшего от Ланселота.
Он положил газету на стол и гневно уставился на меня.
– Почему, – зло спросил он, – почему в некрологах всегда пишут такую чушь?! Они сделали из него второго Эйнштейна, и это потому лишь, что его хватила кондрашка!..
Некрологи – это тема, которой я всегда стараюсь избегать в разговоре с мужем. Я даже не рискнула кивнуть в ответ.
Он швырнул газету и вышел, оставив недоеденное яйцо. Ко второй чашке кофе он даже не притронулся.
Я вздохнула. Что еще мне оставалось делать? Так было всегда.
Ланселот Стеббинс – вымышленное имя. Я часто теперь меняю фамилию и местожительство. Однако все дело как раз в том, что, назови я настоящее имя моего мужа, вам бы оно все равно ничего не сказало.
У Ланселота был талант в этом отношении – талант оставаться неизвестным. Его открытия неизменно кто-то предвосхищал, или они проходили незамеченными в тени еще большего открытия, которое обязательно случалось одновременно. На научных конференциях его доклады почти никто не слушал, потому что, как правило, в то же самое время на другой секции кто-то делал важное сообщение.
Естественно, все это сказалось на нем.
* * *
Двадцать пять лет назад, когда я выходила за него замуж, он был, конечно, завидный жених. Состоятельный, не нуждающийся ни в чем человек и одновременно хороший физик, честолюбивый и подающий большие надежды. И я тогда, думаю, была довольно хорошенькой. Но все это скоро кончилось. Осталась лишь замкнутость. И полная моя неспособность составить мужу блестящую пару в обществе. А это для жены честолюбивого, молодого и талантливого ученого просто необходимо.
Не исключено, что это сильно способствовало таланту Ланселота оставаться незамеченным. Будь у него жена другого типа, она сумела бы сделать его заметным, по крайней мере, в лучах собственного успеха в обществе.
Понял ли он это через какое-то время и из-за этого отдалился от меня после двух-трех умеренно счастливых лет? Или причина была другая? Порой мне казалось, что все дело во мне, и я горько корила себя.
Потом я поняла, что охладел он ко мне только от жажды славы, которая из-за неутоленности становилась непомерной. Он ушел с факультета и построил собственную лабораторию далеко за городом. «Земля там дешевле плюс уединение», – объяснил он мне.
Денежные проблемы нас не тревожили. В его области науки правительство не скупилось на щедрые ассигнования. И он всегда мог достать нужное количество средств. Кроме того, он тратил и наши деньги, не считаясь…
Я в свое время пыталась противиться. Я сказала:
– Ланселот, но ведь в этом нет необходимости. Разве тебе не хватает казенных денег? Разве тебя гонят с твоего места на факультете? Тебя с удовольствием оставили бы в университете. А все, что мне надо, – дети и нормальная жизнь…
Но в нем поселился сжигавший его бес, который сделал его бесчувственным ко всему на свете. Он рассерженно ответил мне:
– Есть вещи на свете, которые важнее всего этого. Меня должны признать в науке, должны понять, наконец, что я… э-а… настоящий ученый!
Тогда он еще не решался говорить о себе – гений. Все это не помогло. Невезенье продолжалось. Случай постоянно был против него. В лаборатории у него кипела работа. Он нанял себе помощников и отлично платил им. К себе он был безжалостен и работал как вол. И все напрасно.
Я надеялась, что однажды он бросит все, вернется в город, и у нас начнется наконец нормальная спокойная жизнь. Я ждала. Но всякий раз после поражения он начинал новую атаку, безуспешно пытаясь захватить бастионы славы и признания. И всякий раз он надеялся. И всякий раз терпел поражение. И в полном отчаянии отступал. И каждый раз всю злость он срывал на мне. Мир топтал его, он отыгрывался на мне. Я всегда была слишком нерешительной, но и я в конце концов стала думать, что мне надо уйти от него.
И все же…
В том году он готовился к очередной схватке. Последней. Так, во всяком случае, я думала. Он стал напряженней, жестче, суетливее. Таким я его раньше не видела. По временам он начинал вдруг бормотать себе что-то под нос или смеялся без причины коротким смешком. Бывало, по нескольку суток он не ел и не спал. Теперь даже лабораторные тетради он держал у себя в сейфе в спальне, как будто боялся своих собственных помощников.
И эта попытка, думала я обреченно, наверняка провалится. Но если так, то наверняка тогда случится и другое… В его возрасте он наконец поймет (ему придется понять), что последний шанс от него ускользнул. Он просто вынужден будет все бросить.
Я решила ждать, собрав все свое терпение.
Но этот некролог за завтраком свалился как снег на голову.
Дело в том, что как-то по такому же случаю я заметила, что, по крайней мере, в его собственном некрологе он может рассчитывать на какую-то долю признания…
Теперь я понимаю, что мое замечание было не слишком остроумным. Впрочем, мои замечания никогда и не претендовали на исключительно остроумные. Мне просто хотелось как-то развеселить его, вытащить из состояния уныния, когда, я знала это по опыту, он становился невыносим.
А может быть, в этом была и бессознательная насмешка. Не отрицаю этого. Он повернулся ко мне в бешенстве. Все его худое тело затряслось, брови судорожно сошлись над глубоко запавшими глазами, и он закричал:
– Я никогда не смогу прочитать свой собственный некролог. Никогда! Даже этого я лишен! – И в ярости плюнул в меня. Злобно плюнул прямо в меня.
Я убежала к себе.
Он так и не извинился. Но через несколько дней, в течение которых я избегала его, наша неестественная жизнь потекла как прежде. Ни он, ни я больше не вспоминали об этом случае.
И вот сегодня очередной некролог в газете. В одиночестве доканчивая завтрак, я почувствовала, что в длинной цепи его неудач наступает кульминационный момент…
Я чувствовала, что развязка близка, и не знала, то ли бояться, то ли радоваться. В целом, наверно, я все же была рада. Любая перемена была бы теперь к лучшему…
* * *
Он пришел ко мне в комнату до завтрака. Я шила, чтобы занять чем-нибудь руки. Чтобы занять голову, я включила телевизор.
– Мне понадобится твоя помощь, – коротко сказал он.
Последний раз нечто подобное он произнес лет двадцать назад. И невольно у меня потеплело внутри. Он был болезненно возбужден. На обычно бледных щеках горели яркие пятна нездорового румянца.
Я ответила:
– С радостью. Если, конечно, смогу…
– Сможешь. Я отпустил своих помощников на месяц в отпуск. Они уедут в субботу, и в лаборатории останемся только мы с тобой. Я сообщаю тебе об этом заранее, чтобы ты ничем не занимала следующую неделю.
Я вся сжалась.
– Но, Ланселот, ты ведь знаешь, я не смогу тебе помочь в твоей работе. Я ничего в ней не понимаю.
– Я это знаю, – в голосе у него прозвучало бесконечное презрение. – Но тебе и не надо понимать. Все, что от тебя требуется, точно следовать простейшим инструкциям. Но следовать буквально. Дело в том, что я открыл наконец кое-что. И на этот раз…
– О Ланселот! – невольно вырвалось у меня. – Сколько раз я слышала эту фразу!
– Слушай меня, ты, идиотка! И хоть раз попробуй вести себя нормально. На этот раз мне действительно удалось. Никому меня не опередить. Мое открытие настолько необычно, что ни одному из живущих физиков, кроме меня, не хватит мозгов додуматься до него. Да и через тридцать лет не додумаются. Это будет гром среди ясного неба. Я действительно стану самым знаменитым и великим ученым из когда-либо родившихся на земле.
– О Ланселот, я очень рада, рада за тебя!
– Я сказал – стану. Но могу и не стать. Признание в науке самая несправедливая вещь на свете. Мне это известно больше, чем кому-либо. Просто объявить открытие еще далеко не все. Если я так сделаю, они все тут же навалятся на эти проблемы, и не успеешь глазом моргнуть, как твое имя уже превратится в исторический анахронизм. А слава достанется этим бесконечным «последонкам».
Я думаю, что говорил он со мной тогда, за три дня до осуществления своего замысла, только по одной-единственной причине – он не мог больше сдерживать себя. Гордость и тщеславие распирали его, а я была единственная из всего человеческого рода, достаточно незначительная сама по себе, чтобы стать свидетелем этой несдержанности… Он говорил:
– Я так обставлю мое открытие, так дам этому человечеству по мозгам, что никогда никому не удастся сравниться со мной…
Он зашел слишком далеко. И я стала бояться, как бы очередное разочарование не оказалось для него чрезмерным и не свело бы его с ума. Я спросила:
– Ланселот, а скажи на милость, стоит ли так беспокоиться? Почему не оставить все как есть и не поехать отдыхать? Ты слишком долго и слишком много работал, Ланселот. Мы могли бы съездить в Европу. Мне всегда так хотелось…
Он топнул ногой.
– Ты когда-нибудь прекратишь свое идиотское нытье?! В субботу пойдешь со мной в лабораторию…
Три следующие ночи я спала очень плохо. Таким грубым, в такой степени заносчивым он никогда раньше не был. Может быть, он уже сошел с ума?
Сошел с ума от постоянного разочарования. А случай с некрологом послужил поводом. Он отослал своих помощников и звал меня в лабораторию. Но ведь прежде он никогда меня даже не впускал туда. Неужели он хочет что-то сделать со мной? Безумный эксперимент маньяка? Или он просто убьет меня?
Я много раз думала о том, что надо вызвать полицию, убежать, хоть что-нибудь сделать…
Но наступало очередное утро, и я понимала, что он не безумец. И никогда он не сможет причинить мне боль. Даже тот случай, когда он плюнул, был, по существу, далек от идеи насилия в прямом смысле слова. Никогда в нашей жизни, ни разу не было даже попытки с его стороны ударить меня или что-нибудь в этом роде…
И я ждала. В субботу я пошла навстречу тому, что вполне могло быть моей смертью, пошла послушно, как кролик. Молча вдвоем мы шагали по тропинке, что вела от дома к лаборатории.
Уже сама по себе лаборатория показалась мне ужасной. Я неловко озиралась, сторонилась всего, но Ланселот коротко произнес:
– Перестань крутиться, никто тебя не укусит. Делай, что я тебе велю, и смотри туда, куда надо.
Он повел меня в маленькую комнатку, дверь которой была заперта на висячий замок. Комнатку почти до отказа занимали странного вида предметы и огромное количество проводов, которые тянулись во все стороны.