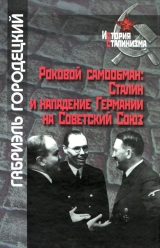
Текст книги "Роковой самообман: Сталин и нападение Германии на Советский Союз"
Автор книги: Габриэль Городецкий
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 45 страниц)
Столкнувшись с непреклонностью Гитлера, Риббентроп повел себя как типичный соглашатель. Он переложил вину за свою неудачу на Вайцзеккера, упрекая того за «негативистскую позицию» в переломные моменты истории. Вайцзеккер, однако, продолжал верить, даже после того, как Гитлер отверг его меморандум, что Риббентроп «в принципе остается противником войны с Россией»{1052}. В действительности перед самой войной Риббентроп, как обнаружил Чиано, примирился с мыслью о ней, хотя «проявлял энтузиазм меньше обычного и имел мужество вспоминать свои восторженные хвалы московскому соглашению и коммунистическим лидерам, которых он сравнивал тогда с лидерами прежней нацистской партии»{1053}.
У Вайцзеккера не осталось сомнений относительно намерений Гитлера и покорности ему Риббентропа. 1 мая человек из окружения Гитлера (возможно, генерал Гайер) сообщил ему, что, как решил фюрер, «Россию можно разгромить как бы мимоходом и это нисколько не повлияет на войну с Англией. Англию разобьют в этом году, будет война с Россией или нет. Потом Британскую империю нужно будет поддержать, но Россию следует обезвредить»{1054}.
Шуленбург, покидавший Берлин в большой спешке, был не в курсе последствий своей беседы с Гитлером{1055}. Выступив с инициативой, он затем попытался прощупать почву в личной телеграмме Вайцзеккеру 7 мая. Желая сделать свои тайные примирительные меры полуофициальными, он намекал, что германское правительство могло бы направить поздравления Сталину. Кроме того, играя на озабоченности Гитлера по поводу отношений с вишистской Францией{1056}, он настаивал на оглашении содержания своих бесед с М.Бержери, открыто выступавшим за Континентальный блок, «в который необходимо включить великий Советский Союз с его сырьевыми богатствами». Шуленбург довольно коварно использовал и кнут. В Берлине он познакомился с мнением, будто молниеносная кампания в России приведет к быстрому захвату Москвы и падению коммунистического режима. Однако, как он узнал от Вайцзеккера, армия считала, что хотя Москву взять будет сравнительно легко, но дальнейшая кампания в сторону Урала встретит серьезные трудности{1057}. Поэтому он добавил постскриптум, в котором в отстраненной манере поведал, что в Москве не проводятся учебные воздушные тревоги и это является подтверждением сведений, будто «Советское правительство уже какое-то время устраивает „где-то“ столицу на время войны, оборудованную всем чем нужно (средствами связи и пр.), куда сможет перебраться за самое короткое время. В любом случае в Москве оно не останется». Это был явный намек на плачевный опыт Наполеона, столкнувшегося с тактикой выжженной земли, проводившейся Александром I в 1812 г. Наконец, пытаясь выяснить, продолжаются ли в Берлине военные приготовления, Шуленбург сослался на необходимость принять соответствующие меры для обеспечения безопасности сотрудников посольства в случае начала боевых действий{1058}.
12 мая Деканозов вновь явился в апартаменты Шуленбурга на их третью встречу за завтраком в течение недели. На этот раз он с ходу захватил инициативу, торжественно объявив о согласии Сталина и Молотова послать личное письмо Гитлеру. О нетерпении Сталина свидетельствовала его просьба, чтобы, ввиду отъезда Деканозова в Берлин в тот же день, Шуленбург и Молотов, не теряя времени, совместно набросали текст письма{1059}. Однако примерно за час до прихода Деканозова Шуленбург получил с курьером из Берлина два неожиданных сообщения{1060}, казалось, сводивших на нет все его усилия. Одно – короткое – от Вайцзеккера слишком ясно показывало, куда дует ветер. Единственным местом в послании Шуленбурга, которое вызвало какой-то отклик, оказался вопрос насчет организации эвакуации персонала посольства в случае начала военных действий: «в надлежащий момент, – ответили ему, – эта сторона дела будет разъяснена». Затем ему лаконично, но предельно ясно сообщали, что остальные его предложения не были показаны Риббентропу, так как «дело того не стоило». Второе письмо, от Эрнста Верманна, директора Политического департамента Министерства иностранных дел, продемонстрировало, что за действиями Шуленбурга после его конфронтации с Гитлером пристально наблюдали. Ему сделали выговор за разглашение в Москве содержания его бесед в Берлине и за явный пессимизм, отразившийся в слухах, будто бы Шуленбург «пакует чемоданы»{1061}.
Восстанавливая ход беседы, Деканозов сообщал, что с самого начала встречи Шуленбург «не проявлял инициативы и не начинал разговора о предмете наших последних бесед. Он только упомянул о том, что получил из Берлина с курьером, прибывшим сегодня, пачку почты, в которой были также письма от Вайцзеккера и Вермана. Но ничего нового или интересного в этих письмах нет». Шуленбург «довольно бесстрастно» выслушал предложения Деканозова, которые тот явно считал большим шагом вперед, и ответил, что последние несколько дней вел переговоры «в частном порядке и сделал свои предложения, не имея на то никаких полномочий». Никто не уполномочивал его вести переговоры с Молотовым, и он «сомневается даже, получит ли он такое поручение». Он казался весьма озабоченным тем, что последние попытки Сталина примириться с Германией откровенно замалчиваются немецкой прессой.
Содержание беседы представляло собой странную смесь намеков на возможность войны со столь же убедительными попытками Шуленбурга сохранить первоначальный импульс и дезинформацией. Все это добавило свой вклад в смятение, уже охватившее Кремль. Сидя за завтраком, Шуленбург и Хильгер отпускали циничные и игривые замечания, воспринятые Деканозовым как намеки на «уход Шуленбурга с поля политической деятельнсоти». И все же Шуленбург, стремясь спасти свою инициативу, выдвинул ряд альтернатив:
«Было бы хорошо, чтобы Сталин сам от себя, спонтанно, обратился – с письмом к Гитлеру. Он, Шуленбург, будет в ближайшее время у Молотова (по вопросу обмена нотами о распространении действия конвенции об урегулировании пограничных конфликтов на новый участок границы от Игорки до Балтийского моря), но, не имея полномочий, он не имеет права затронуть эти вопросы в своей беседе. Хорошо бы, если Молотов сам начал бы беседовать с ним, Шуленбургом, на эту тему или, может быть, я, Деканозов, получив санкцию здесь, в Москве, сделаю соответствующие предложения в Берлине Вайцзеккеру или Риббентропу».
Такая сдержанность, контрастирующая с предложениями, сделанными несколькими днями раньше, несомненно сбивала Сталина с толку. С одной стороны, Шуленбург, только что вернувшийся после совещания с Гитлером, возможно, действительно выражает позицию немцев и просто-напросто пытается надавить, чтобы добиться лучших условий. В равной мере можно предположить, что в Германии вопрос еще не решен и осторожная политика может привести к соглашению. С другой стороны, все это вполне может оказаться ловушкой для СССР, и преждевременное обращение используют как козырь в будущих переговорах с Англией. В самом деле, во время встречи Шуленбург позволил себе совершенно спекулятивное высказывание, что, «по его мнению, недалеко то время», когда Англия и Германия «должны прийти к соглашению, и тогда прекратятся бедствия и разрушения, причиняемые городам обеих стран»{1062}. Это заявление, несомненно, вновь и вновь обдумывали в Кремле в тот самый вечер, когда берлинское радио сообщило о полете Рудольфа Гесса в Англию с самовольно взятой на себя миссией мира{1063}.
Шуленбург заколебался, стоит ли привлекать внимание к своей деятельности{1064}, и выговор из Берлина немедленно произвел эффект. Вскоре после ухода Деканозова он составил два письма. В ответе Верманну он всячески защищался, отметая обвинения. Как он уверял, его «ценные ковры» все еще «лежат на старом месте, портреты моих родителей и других родственников висят на стенах, как и прежде, в моей резиденции ничто не изменилось, и любой посетитель может в этом убедиться». Закончил он письмо словами «Хайль Гитлер!», чего раньше не имел обыкновения делать. Вайцзеккер в Берлине поступал так же, жалуясь, что Шуленбург действовал, конечно же, против его воли, и признаваясь, что, наверное, последует рецепту армейской оппозиции и постарается «избавляться от возникающих сомнений». Он не уставал выражать уверенность в триумфальном успехе вермахта{1065}. В письме к своим друзьям Хервартам Шуленбург в тот же день поведал: «…событие, весьма нас интересующее, близко как никогда. Мы ожидаем, что кризис разразится приблизительно в конце июня». Поэтому «делать ничего не остается… Тишина пугает нас: не затишье ли это перед бурей?» Как он раньше в этот день намекнул Деканозову, он смирился с мыслью вернуться в Германию и заняться обстановкой замка Фалькенберг, недавно им приобретенного{1066}.
Во второй телеграмме в Министерство иностранных дел Шуленбург все еще упорствовал в своих усилиях отдалить кризис. Он готовил почву для того, чтобы Сталин мог предпринять какие-то шаги через Деканозова. Поэтому он вновь привлек внимание Берлина к «экстраординарному» назначению Сталина Председателем СНК и «предпочтению, отданному Деканозову» во время первомайского парада, которое следовало рассматривать «как особый знак доверия со стороны Сталина». Затем следовала убедительная картина примирительных попыток Советов, без всякого упоминания о роли в них Шуленбурга, подводящая к неизбежному выводу: «Можно с уверенностью предположить, что Сталин поставил во внешней политике задачу первостепенной важности для Советского Союза, которую надеется решить лично. Я твердо верю, что в нынешнем международном положении, которое он считает тяжелым, Сталин поставил себе цель уберечь Советский Союз от конфликта с Германией»{1067}.
Тот же самый смысл просматривался в его отчете о встрече с Молотовым 22 мая. Он не прекращал внушать Берлину, что, с тех пор как Сталин стал Председателем СНК, он и Молотов, «две сильнейшие фигуры в Советском Союзе», занимают посты, «решающие для определения внешней политики Советского Союза», и их политика «прежде всего направлена на то, чтобы избежать конфликта с Германией»{1068}. Позднее он представил в Берлин одностороннее изложение сталинской речи перед выпускниками военных академий, заключая из нее, что Сталин, видимо, «желает подготовить своих последователей к „новому компромиссу“ с Германией»{1069}.
В конечном итоге деятельность Шуленбурга в начале 1941 г., и особенно в решающем месяце мае, поддерживала в Сталине надежду на возможное дипломатическое разрешение конфликта и отвлекала его внимание от смертельной опасности, подстерегавшей совсем близко. Кроме того, Сталин еще больше убедился в том, что Черчилль в отчаянии старается втянуть СССР в войну, распуская слухи о «неизбежной войне»{1070}. Вместо того чтобы предостеречь Сталина, как часто утверждают, тайные переговоры укрепили его веру в возможность примирения с Гитлером. Как никогда подозрительный, Сталин пошел даже на рискованную операцию по перехвату немецких курьеров, везущих дипломатическую почту, в гостинице «Метрополь». Пока один из них был заперт в ванной, а второй застрял в лифте, почту сфотографировали. В отчетах Шуленбурга, как мы видели, внимание акцентировалось на его уверенности в стремлении Сталина к переговорам{1071}.
Таким образом, вполне понятно мнение Татекавы, высказанное в Москве, что Гитлер и Сталин «встретятся где-нибудь на границе»{1072}. По словам Жукова, когда он пришел к Сталину в начале июня, то увидел на его столе письмо, адресованное Гитлеру{1073}. Когда Деканозо-ву не удалось попасть к Риббентропу после возвращения в Берлин 14 мая, он обратился к услугам Майснера, завязавшего тесные отношения с Кобуловым, резидентом НКГБ в Берлине. Свободно овладевший русским за время долгого пребывания в России, Майснер был человеком «старой закалки», служил при президенте Гинденбурге и, как считалось, был близок с Гитлером{1074}. Он принимал участие, хотя и на вторых ролях, в переговорах с Молотовым в Берлине{1075}. Видимость переговоров, окончательно улетучившаяся к первой неделе июня, некоторое время занимала Сталина как возможность достичь нового соглашения с немцами. По словам Бережкова, молодого первого секретаря советского посольства в Берлине, он в самом деле «намекал, будто Рейхсканцелярия разрабатывает какие-то новые предложения по упрочению советско-германских отношений, которые фюрер в скором времени намерен представить Москве»{1076}.
Тем не менее, ощущение, что один неверный шаг, будь то военная провокация или дипломатический промах, может вызвать войну, привело Сталина к осторожности, граничащей с паранойей. Это мешало работе разведки тем больше, чем ближе надвигалась война. Высказанное Шуленбургом на встрече с Деканозовым мнение, будто слухи могут послужить импульсом к войне, еще больше осложнило положение, удерживая посольства от поисков сведений о замыслах немцев и лишая русских важнейшей информации. Яркий пример – отчаянные и безнадежные попытки англичан передать Майскому полученную с помощью «Энигмы» информацию перед самой войной{1077}. Но нечто подобное происходило в каждом советском посольстве: послы фанатично соблюдали инструкции, информация просеивалась и грубо перекраивалась в соответствии со взглядами, которых придерживались наверху. Так, например, когда финский посол в Стамбуле сообщил своему советскому коллеге точные сведения о присутствии 125 дивизий на советской границе, Виноградов оборвал его циничной репликой: «Господин посланник сам считал эти дивизии?» Вместо того чтобы побеседовать об этом поподробнее, он с гордостью верноподданнически докладывал Москве, что «не стал продолжать с финном разговор по этому вопросу, переведя его на отвлеченную тему»{1078}.
Большая часть донесений разведки о намерениях немцев, переданных Сталину, несмотря на то что в основе их лежали сведения о реальных военных приготовлениях, приобретали двусмысленное звучание, если подходить к ним предвзято. Показательно в этом отношении донесение о беседе фон Папена и турецкого президента Иноню, в ходе которой последний выразил озабоченность по поводу возможной встречи Гитлера и Сталина. Германский посол успокоил его, высказав мнение, что, даже если «взаимоотношения между Германией и Россией и станут более близкими», Германия будет «продолжать пристально следить за позицией России и что Германия считает себя достаточно сильной для ведения войны и на Восточном фронте». Вместо того чтобы распознать угрозу, очевидную для нас в свете последующего германского вторжения, Сталин склонен был видеть в донесении доказательство того, что такая встреча и улучшение отношений действительно стоят на повестке дня{1079}.
Даже те сообщения разведки, которые задним числом кажутся нам самыми убедительными, при тогдашнем настроении в Кремле можно было толковать двояко. Надежный и опытный военный атташе в Бухаресте узнал от своего информатора, побывавшего в германском Генеральном штабе, что тщательная подготовка к кампании завершена и начала войны ожидают в июне. Он был уверен: если война не разразится в 1941 г., это можно считать «чудом». Однако затем он допускал предположение, оказавшееся для Сталина более привлекательным, будто Гитлер ведет «какую-то совершенно утонченную игру». Это подчеркивалось тем фактом, что Гитлер, казалось, избегал каких-либо определенных заявлений о своих намерениях относительно Москвы или переговоров со странами, граничащими с Советским Союзом. Не говорил он о войне и с японцами. Сообщение о том, что «нет ни одного человека, который имел хотя бы малейшее сомнение в немедленной победе над СССР», можно было рассматривать как элемент войны нервов. Такое толкование подкреплялось признанием, что в Берлине отдают себе отчет: оккупация может повлечь за собой катастрофический развал экономики. Таким образом, оставлялось на усмотрение Сталина – соглашаться или не соглашаться с «уверенностью» информатора в том, что война стала «неизбежной» и немецкая армия окажется в Москве «скорее, чем мы можем себе представить»{1080}.
Неудивительно, что, когда четыре немецких дезертира из пехоты, артиллерии и флота перебежали на советскую сторону и дали точное и подробное описание немецких боевых порядков, Меркулов предпочел передать их довольно тенденциозный рассказ о настроениях и политических взглядах солдат. В нем подчеркивалась усталость в войсках и желание вернуться домой. По крайней мере 20 товарищей перебежчиков попали под трибунал за дезертирство. Многие солдаты «симпатизируют Советскому Союзу» и боятся встретить «сильную Красную Армию с множеством танков и самолетов и огромную территорию». Во флоте очень сильна фашистская пропаганда, но вместе с тем «растут и антивоенные настроения». Некоторые солдаты высказывали мнение, что Гитлер «втянул Германию в войну, от которой рабочий класс ничего не получит». Наряду с этим незначительное место занимала информация о некоторых частях, которые еще сохраняют «боевой дух и готовы выполнять все приказания своего командования… среди солдат 196 полка имеются разговоры о предстоящей в скором времени войне между Германией и Советским Союзом»{1081}.
Деканозов в своих отчетах предпочитал говорить об общей уверенности, что германские промышленники против войны и что Советский Союз готов на территориальные уступки Германии. Как сказала ему русская жена китайского советника, сидевшая рядом с ним, на одном обеде в Берлине, «ей очень будет жаль, если Украина будет отдана немцам; она слыхала об этом от самих же немцев». Точно так же дочь турецкого советника «сказала ему, что ей очень жаль Кавказ», который будет отдан Германии. Деканозов пространно цитировал высказывания Гереде, турецкого посла, уверенного, что «у Германии действительно безвыходное положение», не хватает нефти и зерна, зато в наличии огромная незадействованная армия. Развертывание войск на Балканах и в Румынии направлено на север, но, по его мнению, цель этого – «оказать давление на Советский Союз». Затем он ввел Деканозова в заблуждение, рассказывая, будто генерал Браухич инспектирует поезда, отправляемые на запад, – из этого он делал вывод, что «стягивание войск к советским границам делается с целью отвлечь внимание от предполагаемых действий на Западе». Ожидая новых переговоров, Деканозов стремился проследить источник слухов и понять, в какой степени они отражают взгляды правительства{1082}. В последующем донесении Кремлю он указывал:
«Параллельно со слухами о близости войны между Германией и Советским Союзом в Германии стали распространяться слухи о сближении Германии и СССР, либо на базе далеко идущих "уступок" со стороны Советского Союза Германии, либо на основе "раздела сфер влияния" и добровольного отказа СССР от вмешательства в дела Европы. В этой связи говорят даже о "повороте" в политике СССР, что связывается с фактом назначения тов. Сталина Председателем Совета Народных Комиссаров СССР».
Он приводил выдержанные в таком духе комментарии по поводу пакта о нейтралитете с Японией и признания Сталиным правительств, созданных на оккупированных территориях.
В подтверждение вывода, что от Кремля ожидают возобновления переговоров, Деканозов пространно цитировал те газеты, которые указывали, как он писал, будто «нынешняя политика СССР целиком на стороне „нового порядка“ в Европе». Столь же рьяно он выдвигал на первое место сведения о якобы растущем расколе внутри Германии. По его словам, «более разумные и солидные люди (главным образом, немецкие промышленники) настроены против обострения отношений с Советским Союзом и высказываются в таком смысле, что они очень довольны нынешними хозяйственными связями с СССР. Наоборот, военные круги, особенно некоторая их часть, высказываются… в более агрессивном духе по отношению к СССР». Что же касается условий соглашения, по мнению Деканозова, наиболее частые слухи из различных источников говорили об «аренде Украины на 5, 35 и 99 лет». Возможно, самым значительным его наблюдением являлась уверенность, будто слухи исходят от германского правительства и распространяются им. Тем не менее, само количество этих слухов вселяло сомнение и приводило к мысли о том, что в конечном счете «немцы по-прежнему продолжают идеологическую (и фактическую) подготовку для войны против СССР»{1083}.
В конце мая Тимошенко и Жукова вызвали в Кремль, куда они прибыли в уверенности, что Сталин наконец готов позволить им привести армию в «наивысшую боевую готовность» ввиду тревожных донесений разведки. Они были ошеломлены, когда Сталин передал им просьбу Шуленбурга разрешить группам немцев поиск захоронений немецких солдат, павших во время Первой мировой войны. Жукову было совершенно ясно, как он сердито заметил Жданову, что целью всего этого был осмотр районов, которые немцы собираются атаковать. Тимошенко ухватился за возможность поднять вопрос о растущем количестве нарушений советского воздушного пространства и просил позволения сбивать немецкие самолеты. Однако Сталин продолжал придерживаться убеждения, будто немецкие военные действуют на свой страх и риск. «Я не уверен, – завершил он дискуссию, – что Гитлер знает про эти полеты». Отметая возражения Жукова, он, казалось, был совершенно удовлетворен недавними объяснениями Гитлера, будто бы у неопытных молодых пилотов случаются трудности с навигацией. Более того, он сообщил Жукову о секретной личной встрече Деканозова с Гитлером, заверившим того, что целью переброски войск к границе являются перегруппировка их для наступления на запад и введение в заблуждение Лондона. Затем пошла в ход «теория ультиматума», чтобы обосновать предположение, будто немцы, возможно, пытаются «запугать нас». Даже когда число вторжений в советское воздушное пространство резко возросло в начале июня, Сталин предлагал, чтобы Молотов через Шуленбурга ознакомил Гитлера с положением дел{1084}.
Необходимость подлаживаться к мнению Кремля приобрела первостепенное значение. В своей сводке за май Голиков, словно забыв о неумолимых фактах, скопившихся у него на столе, пересмотрел свои прежние выводы о приоритетах Германии после балканской кампании. Задачи, осуществляемые германским верховным командованием, идут в следующем порядке: 1. Восстановление западных группировок для борьбы с Англией; 2. Наращивание сил против СССР; 3. Укрепление резервов верховного командования. Он грубо преувеличил число дивизий, предназначенных для вторжения в Англию, определив его в 122–126, в сравнении со 120–122 дивизиями, развернутыми против Советского Союза, тогда как 44–48 оставались в резерве. Развертывание войск на советской границе все еще привлекало преимущественное внимание к юго-западному фронту. 29 дивизий на Среднем Востоке, утверждал он, вполне соответствуют цели продолжения операций на Среднем Востоке при одновременной перегруппировке на западе в ожидании главной операции против Британских островов. В конце концов, констатировав, что «перегруппировки немецких войск после окончания Балканской кампании в основном завершены», он закрыл глаза на значительную переброску войск к границам в течение трех недель, предшествовавших нападению{1085}.
Органы безопасности тоже проявляли нерешительность. На банкете, данном японским послом, обсуждалась все большая вероятность нападения немцев, назывались возможные даты – 15 или 20 июня. Рассматривались различные сценарии нападения. Тем не менее, эта точнейшая информация, подогнанная затем по кремлевской мерке, превратилась в предположение, что война начнется после заключения англо-германского соглашения, возможно, на основе предложений, переданных в Лондоне Гессом. Более того, считалось само собой разумеющимся, что войне будут предшествовать жесткие требования, чтобы Советский Союз присоединился к Оси и оказал Германии «более эффективную экономическую поддержку». В конечном итоге, казалось, «угроза войны» использовалась «как средство давления» на Советский Союз{1086}.








