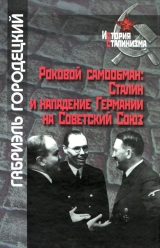
Текст книги "Роковой самообман: Сталин и нападение Германии на Советский Союз"
Автор книги: Габриэль Городецкий
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 45 страниц)
Запоздалые попытки заручиться советской поддержкой на Балканах, воплощенные в предостережении Черчилля, наверняка пробудили в Москве воспоминания о событиях конца лета 1939 г. и укрепили подозрения насчет стремления перенести войну к восточным рубежам. Это совпало с возрождением опасений по поводу сепаратного мира. 17 апреля, до получения окончательного распоряжения Черчилля передать его предостережение, Криппс жаловался Идену на опасную ситуацию, создавшуюся в значительной степени из-за неспособности правительства решить, готово ли оно сделать «что-либо или хоть что-то для сближения» с Советским Союзом. Вследствие этого Советский Союз в результате разгрома в Юго-Восточной Европе стал восприимчивее к давлению со стороны Оси. Не дожидаясь инструкций из Лондона, Криппс отправил Молотову меморандум из 14 страниц посулов и угроз в качестве последнего средства вовлечь русских в орбиту Союзников. Следует подчеркнуть, что этот импульсивный поступок был продиктован желанием пресечь активность Шуленбурга, неожиданно срочно уехавшего для консультаций в Берлин{854}. Криппс предупредил Идена о' своем опасении, как бы Шуленбург не вернулся из Берлина «очень скоро с широким спектром новых предложений Советскому Союзу в обмен на теснейшее экономическое сотрудничество с Германией и, в качестве альтернативы, с завуалированными угрозами на случай отказа»{855}.
Передавая послание, Криппс, в своей обычной нравоучительной манере, прочел Вышинскому целую лекцию на тему, какой политике, по его мнению, должен следовать Советский Союз. Все ее положения отдавали провокацией. Криппс не ограничился предупреждением русских об опасности, которая, как он считал, перестала быть гипотетической, воплотившись во вполне конкретные планы немцев на весну этого года. Чтобы привлечь Советский Союз на сторону Англии, он прибег к «тонкому», как ему казалось, приему, играя на его боязни сепаратного мира. Дальнейшие события вскоре показали, что Форин Оффис был совершенно прав, возражая против использования этого «обоюдоострого оружия, которое может побудить Сталина еще сильнее цепляться за его политику уступок агрессору»{856}.
Измышления Криппса насчет возможного сепаратного мира, если Советский Союз не изменит свою политику, имели тяжкие, если не фатальные последствия:
«Не исключена возможность, если война затянется надолго, что у Великобритании (особенно у некоторых кругов в Великобритании) возникнет соблазн закончить войну путем некоего урегулирования на основе вроде той, какую недавно вновь предлагал кое-кто в Германии, а именно: Западная Европа вернется в прежнее состояние, тогда как Германии не будут мешать расширять ее "жизненное пространство" на восток. Такое предложение может найти отклик и в Соединенных Штатах Америки. В этой связи стоит напомнить, что в сохранении целостности Советского Союза Британское правительство не заинтересовано непосредственно, как в сохранении целостности Франции и некоторых других западноевропейских стран».
Впрочем, он позаботился прибавить, хотя Сталин и не обратил на это никакого внимания, что «в настоящий момент не идет речь о возможности достичь такого мира в результате переговоров, насколько это касается Правительства Его Величества». Вышинскому не потребовалось консультироваться с правительством, чтобы завернуть меморандум Криппса, представлявший собой адскую смесь из идеи «сепаратного мира» и попыток втянуть Советский Союз в войну. Он категорически отклонил его на том основании, что «в нем отсутствуют необходимые предпосылки для обсуждения широкого круга политических проблем». Вышинский подготовил также ответ на подробное личное письмо Криппса от 11 апреля, состоявший всего из четырех строчек в том же духе{857}.
Так глубоки были опасения и предубеждения русских, что, отчитываясь лично Сталину, Вышинский заявил, будто заметил в поведении Криппса «нервозность, которую ему трудно было скрыть». Последний жаловался на то, как с ним обходятся, и сожалел, что выдал информацию о немецкой угрозе. Не скрывая неприязни, Вышинский ответил Криппсу, что это «было его право» – решать, какую информацию раскрывать, но вряд ли можно поощрять какие-то чрезвычайные шаги, пока не созрели условия для политической дискуссии. Как откровенно сказал Вышинский болгарскому послу в тот же день, Сталин «не позволит, чтобы Советский Союз втянули в войну». Сталин также получил собранные в британском посольстве сведения, будто слухи о войне распространяются «с целью напугать нейтральные страны и в первую очередь СССР»{858}.
Эта угроза подтверждалась донесением информатора НКГБ в посольстве о неофициальной пресс-конференции Криппса 6 марта, после его возвращения из Анкары, во время которой он высказал мнение, что Гитлер может напасть на Советский Союз, рискнув вести войну на два фронта. Но равновероятно и то, что он «попытается заключить мир с Англией на следующих условиях: восстановление Франции, Бельгии и Голландии и захват СССР. Эти условия мира имеют хорошие шансы на то, чтобы они были приняты Англией, потому что как в Англии, так и в Америке имеются влиятельные группы, которые хотят видеть СССР уничтоженным, и, если положение Англии ухудшится, они сумеют принудить правительство принять гитлеровские условия мира».
Криппс в самом деле поведал и Стейнхардту, что легко может представить, как его правительство посмотрит сквозь пальцы на немецкое вторжение в Советский Союз в обмен на мир{859}. Его действительная вера в возможность сепаратного мира в значительной степени явилась результатом его изоляции в Советском Союзе и отсутствия его в Лондоне во время массированной бомбардировки, когда Черчилль завоевал свой непоколебимый авторитет национального лидера. Майский, свидетель «звездного часа» Черчилля, не склонен был придавать большое значение возможности сепаратного мира, невзирая на взгляды, которых придерживались в Кремле{860}. Это заставляло его постоянно разрываться между собственными убеждениями и тем, что, по его мнению, ожидал от него услышать Сталин. В результате, как выяснилось, его нерешительность внесла свой вклад в неверную оценку Кремлем надвигающейся опасности.
Через день после того, как он поднял вопрос о возможности сепаратного мира, Криппс получил распоряжение передать послание Черчилля. Ввиду своего письма к Вышинскому 11 апреля и беседы с ним 18 апреля он не счел нужным передавать дополнительную информацию, которая выглядела бы повторением одного и того же{861}. В тревоге из-за злополучного соглашением с Югославией, русские были одержимы мыслью, будто Черчилль старается вбить клин между ними и Германией. Чтобы исключить подозрение в каком-то тайном сговоре с Англией, они поспешили довести до сведения немцев суть меморандума Криппса{862}. Официальной реакцией явились открытые обвинения в том же духе, выдвинутые против Соединенных Штатов и Англии в «Правде»{863}. Боязнь, как бы Англия не помешала политическому урегулированию с Германией, происходила также от царившего в Лондоне чувства безнадежности, подмеченного Майским в его беседах с британскими лидерами{864}. Накануне вручения ноты Сталину Батлер признался Майскому, что теперь, когда Югославия вышла из игры, положение англо-греческой армии стало катастрофическим{865}. Сбылось предсказание Северного департамента Форин Оффис о том, что после передачи предостережения «дальнейшие обращения к Советскому правительству будут более чем бесполезны, поскольку будут восприняты как свидетельство нашего отчаянного положения и усилят в Москве тенденцию к компромиссу с немцами»{866}. Широко распространившиеся слухи и подбрасываемые советской разведке сведения{867} подкрепляли мнение Кремля, будто Англия даже не станет помогать Советскому Союзу в случае нападения немцев: она «или же немедленно заключит с Германией мир, или приостановит военные действия против Германии»^{868}. К тому моменту, когда предостережение Черчилля дошло до Сталина, оно явно произвело обратный эффект, лишь усугубив сталинские подозрения. «Вот видите, – сказал Сталин Жукову, – нас пугают немцами, а немцев пугают Советским Союзом, и натравливают нас друг на друга. Это тонкая политическая игра»{869}.
На Майского возложили задачу проверить истинность содержания меморандума Криппса, буквально парализовавшего Москву. Беспрецедентный случай – оно было передано ему in toto{870}. Все эти предостережения и меморандумы Москва считала намеренной уловкой, чтобы вовлечь Советский Союз в войну на стороне Англии, пугая воображаемыми переговорами. Особенное возмущение вызывал второй меморандум: после того как Майский неделей раньше предупреждал Идена, что подобные документы облечены «не в ту форму, чтобы встретить сколько-нибудь теплый прием», появление еще одного такого же казалось «дурной шуткой». Уводя дискуссию от Балкан к прибалтийскому вопросу, русские надеялись, как лакмусовой бумажкой, проверить истинные замыслы англичан. Заявление Англии на этот счет могло бы охладить немцев и доказать, что сепаратный мир действительно не стоит на повестке дня. В то же русло Майский направлял дискуссию по Среднему Востоку, стараясь понять, не намеренно ли английская армия ослабила свои усилия. Батлер проявил откровенно пораженческое настроение, признавшись, что после разгрома Югославии положение англо-греческих сил «становится катастрофическим». Довольно слабый оптимизм в его фразе: «Англию ждут трудные месяцы, однако в конечном счете она выйдет победительницей», – вряд ли мог утешить{871}.
ИтогиСомнительно, чтобы послание Черчилля Сталину стало для того предостережением. Военное значение, приписываемое Черчиллем своему посланию, также является спорным. Черчилль всегда настаивал, что нота Сталину призвана была не столько предупредить о замыслах немцев, сколько вскрыть недостатки и слабые места немецкой армии. Если бы русские и приняли ее к сведению, они все равно столкнулись бы с теми же последствиями, как продемонстрировала блестящая двойная кампания вермахта в Югославии и Греции. Когда разрабатывалась операция «Марита», вермахт обладал огромными резервами войск. Естественно, подготовка «Барбароссы» была прервана, но лишь 15 дивизий из громадного количества – 152, предназначавшихся для Советского Союза, на самом деле были отвлечены для операций в Югославии и Греции. Из-за медленных темпов концентрации сил для «Барбароссы»{872} большинство дивизий, направлявшихся на русский фронт, все еще не выступили. Практически лишь 4 дивизии были выделены и посланы на юг, прежде чем осуществить запланированное развертывание на востоке. И только 14-я дивизия из тех пяти южных дивизий, чье передвижение насторожило Черчилля, начала марш на восток, пока не получила приказ изменить курс. Как в высшей степени убедительно доказал Ван Кревельд, развенчивая сложившийся миф{873}, отвлекающая операция в Греции, отнюдь не перенапрягшая силы вермахта, всего лишь вызвала незначительную отсрочку наращивания сил для «Барбароссы»{874}.
Обстоятельства, вызвавшие несколько искаженное представление Черчиллем своего предостережения, тесно связаны с двумя важными событиями, произошедшими одновременно в октябре 1941 г.: беспрецедентным вызовом, брошенным Криппсом Черчиллю как лидеру, и выраженным Сталиным негодованием по поводу отсутствия какого-либо значительного конкретного участия Англии в боевых действиях на фоне возобновления наступления немцев на Москву. Эта комбинация была особенно угрожающей ввиду недовольства внутри кабинета, высказываемого ближайшими соратниками Черчилля, особенно Бивербруком и Иденом. О вызове Криппса мемуары Черчилля практически не упоминают. Криппс жаловался на «раздражительные и неуместные телеграммы», «недостойные» Черчилля. Он по-прежнему выступал против черчиллевской стратегии, определяемой им как ведение «двух относительно не связанных между собой войн, к большой выгоде Гитлера, вместо единой войны на основе общего плана». Черчиллю стало ясно, как он говорил Бивербруку, что Криппс «готовит дело против нас»{875}. Беспрерывный нажим Криппса с целью добиться проведения отвлекающей боевой акции достиг своего пика в середине октября, когда Комитет обороны, до тех пор опора Черчилля, одобрительно отнесся к идее передислокации в глубь Кавказа двух дивизий, первоначально предназначенных для Северной Африки{876}.
Истоки черчиллевской версии его предостережения Сталину восходят к тому бурному периоду. Толчком послужили воспоминания Бивербрука о том, как Сталин на Московской конференции в начале месяца жаловался, что его не предупредили о плане «Барбаросса». В записке Бивербруку Черчилль разразился обвинениями в адрес «бессовестного» Криппса, задержавшего послание в апреле. Рассматривая весь этот эпизод, Черчилль возлагал на Криппса «главную ответственность» из-за его «упрямства и помех, чинимых им в этом деле»{877}. Ярость премьер-министра, конечно, имела мало отношения к истории с предостережением, проистекая из совсем недавних пререканий и перебранок. Черчилль также воспользовался случаем, чтобы снять с себя вину за упадок, в котором находились отношения со Сталиным. Если бы Криппс следовал его инструкциям, утверждал он, «какие-то отношения завязались бы между ним и Сталиным». Такая интерпретация, всего лишь через шесть месяцев после событий, о которых идет речь, уже игнорировала политическую атмосферу в середине апреля. Обвинения Черчилля казались столь далекими от истины, что против них возражал даже Иден, несмотря на хорошо известную робость его в отношениях с премьером. В то время, деликатно напомнил он Черчиллю, «русские в высшей степени неблагосклонно принимали послания любого рода… Это относилось и к более поздним посланиям, которые я передавал Майскому»{878}. Несмотря на эти оговорки, обмен корреспонденцией с Иденом почти дословно, за исключением выступления Идена в защиту Криппса, был помещен в военных мемуарах Черчилля.
Интересно сравнить дилемму, стоявшую перед Криппсом и перед Лоренсом Стейнхардтом, его американским коллегой в Москве, который очутился в сходной ситуации в начале марта. Все еще нейтральные американцы имели лучшие разведывательные источники в Берлине и по всей Юго-Восточной Европе. К началу марта у них накопилось достаточно свидетельств наступательного развертывания немецких войск, чтобы обращение к Советскому правительству было оправдано. Взвесив все за и против, Стейнхардт отсоветовал Корделлу Халлу, госсекретарю Соединенных Штатов, делать это, утверждая, что русские не поверят «ни в искренность, ни в самостоятельность» подобного шага{879}.
Глава 9
Япония: дорога к Германии
Неудачная позиция Советского Союза в отношении Югославии и карательная операция Гитлера на Балканах разбили мечты Сталина о советском влиянии в этом регионе. Хуже всего, что вырисовывалась реальная опасность, грозящая Советскому Союзу. На столе у Сталина скапливались донесения разведки, полученные из различных источников. В конце марта начальник внешней разведки НКГБ предупредил маршала Тимошенко о серьезности намерений немцев. Он перечислил 21 явный признак перемещения и концентрации немецких войск на границе начиная с конца февраля и особенно в течение марта месяца{880}. В тот же день он без обиняков заявил Сталину, что донесения тайных агентов НКГБ и множество подтверждающих их информацию сведений свидетельствуют об «ускорении переброски немецких войск к советской границе». Система железных дорог и реквизированные транспортные средства используются на полную мощность для перевозки не только войск, но и артиллерии и боеприпасов из Германии на границу. Принимаются срочные меры по улучшению качества дорог, ведущих в приграничные районы{881}.
К середине апреля НКГБ собрал столь обширный и внушительный материал о концентрации германских войск, что уверился в необходимости сообщить о нем военной разведке, невзирая на общеизвестную точку зрения Сталина. Неделю спустя был получен поразительный рапорт о 43 новых нарушениях воздушного пространства СССР немецкими самолетами. Одно лишь количество самолетов менее чем за одну ночь и тот факт, что многие из них проникли на советскую территорию глубже чем на 220 км, исключали возможность ошибок в навигации{882}. Несмотря на свое обыкновение соглашаться со Сталиным, Голиков вынужден был признать, что только за первые две недели апреля обнаружилось массовое перемещение войск из Германии к советским границам; они стали лагерем в Варшавском и Люблинском округах. Разведывательные донесения приводили к недвусмысленному выводу о продолжающейся переброске войск и накоплении резерва боеприпасов и топлива на границах{883}. Эту тенденцию невозможно было дольше игнорировать; представленные Сталину цифры показывали рост присутствия немцев на границе начиная с февраля на 37 пехотных дивизий, 3–4 танковых дивизии и 2 моторизованных дивизии.
Тем не менее, дезинформация со стороны немцев, сбой в передвижении войск во время кампании в Греции и Югославии и медленные темпы развертывания все еще позволяли Сталину сомневаться в характере окончательных намерений лично Гитлера, о которых у него вряд ли была какая-либо информация. Эффективность разведки определяется влиянием лиц, определяющих политику, на аналитиков и способностью последних сохранять высокую степень автономии. В общем и целом, а в случае со Сталиным особенно, обработка разведывательной информации имеет тенденцию руководствоваться концептуальными установками, спускаемыми политиками сверху. Составители донесений процеживают море информации, находящейся в их распоряжении, стремясь дать руководству ожидаемые ответы на волнующие их вопросы. Процесс селекции неизбежно отвлекает внимание аналитиков, а за ними и политиков, от важнейших данных. Результаты зачастую плачевны и поистине катастрофичны.
После падения Югославии Сталина в гораздо большей степени, чем вероятность войны, занимала перспектива предотвращения военного столкновения путем создания удобного климата для политического урегулирования. Архивные материалы подтверждают воспоминания Судоплатова о том, что почти половина имеющихся у ГРУ и советских органов госбезопасности материалов содержали предположения, будто войны можно избежать, а слухи о ней распространяются с целью втянуть в войну Советский Союз. «Толщина этой папки, – свидетельствует он, – росла день за днем, так как мы продолжали получать донесения о деятельности англичан по нагнетанию среди германского руководства страха, что Советский Союз вот-вот вступит в войну»{884}. Потому необходимо, прежде чем рассматривать сталинские попытки примириться с Гитлером, сделать обзор этих материалов{885}.
Начиная с середины апреля донесения приобрели характер меню, представляемого Сталину, из которого он мог выбирать такие сведения, какие ему больше понравятся. Меркулов, глава НКГБ, предпочитал с каждой порцией информации в большом количестве передавать Сталину донесения «Старшины», содержавшие предположения о наличии раскола среди политического и военного руководства Германии. Сравнение необработанных материалов с окончательными вариантами, вручаемыми Сталину, показывает, что их содержание в значительной степени подгонялось под задачу служить поддержкой процессу примирения. Информация, полученная из кругов германской правящей элиты, подтасовывалась, чтобы создать благоприятную атмосферу для продолжения переговоров с Гитлером.
С начала войны советская дипломатическая миссия в Берлине выдвинула предположение о наличии раскола в руководстве. Поддерживаемый «крупными промышленниками», Гитлер, казалось, склонялся к длительному сотрудничеству с Советским Союзом. Лишь небольшое ядро нацистских идеологов, как считалось, питали антисоветские замыслы в своем горячем желании расширить Третий Рейх{886}. В начале марта 1941 г. разведывательная агентура, естественно, сосредоточила свое внимание на растущем количестве свидетельств и слухов о немецком плане нападения на Советский Союз. Преобладала тенденция признавать, что, хотя некоторые круги в Берлине, возможно, выступают за войну и даже готовят какие-то планы, не представляется вероятным, чтобы германское руководство, зная о мощи Красной Армии, одобрило таковые.
Эта воображаемая трещина внутри германского руководства влекла за собой два дополнительных следствия: открывала двери возможному политическому урегулированию, в то же время делая русских крайне подозрительными в отношении попыток англичан спровоцировать их на преждевременное вступление в войну{887}. Имея дело с противоречащими друг другу сообщениями разведки, Сталин все больше отдавал предпочтение донесениям, говорящим о расколе. Не случайно русские сравнивали волну слухов о войне с такой же, по их мнению, кампанией, развернутой западными демократиями после Мюнхена, чтобы повернуть Германию на восток{888}. В то же время самые громкие слухи, ходившие в дипломатической колонии в Москве насчет приближающейся войны, нацеленной на «южные районы СССР, богатые хлебом, углем и нефтью», по большей части отметались как намеренная провокация, приписываемая рьяным усилиям Идена по созданию Балканского блока{889}.
Внимание Сталина привлекло сообщение, «Корсиканца», будто Риббентроп, а возможно и Гитлер, поддерживают единодушные рекомендации Комитета четырехлетнего планирования насчет того, что Германия «выигрывает в экономическом отношении гораздо больше» от торговли с Советским Союзом, нежели от оккупации его территорий. Реальная угроза, казалось, исходила лишь от вооруженных сил, рассматривавших вопрос со своей сугубо военно-стратегической точки зрения и готовых стрелять по любому поводу. Хотя подготовка к войне явно продолжалась и развертывание германской армии на советской границе весьма напоминало ее же развертывание на голландской границе перед вторжением в Нидерланды, опасность не представлялась близкой, поскольку предполагалось, что следующей жертвой станет Турция, прежде чем Германия повернет свои войска против Советского Союза{890}.
Часто говорят о советском разведчике Рихарде Зорге, из-за романтической ауры, окружающей историю его деятельности, как о самом надежном источнике предупреждений о войне. Будучи доверенным лицом Отта, германского посла в Токио, и его военного атташе, Зорге имел доступ к ценнейшей информации. За немногими исключениями, историки избирательно цитируют его донесения в Москву, выделяя те их фрагменты, которые в итоге оказались верными. Однако данные, совершенную точность которых можно признать задним числом, были перемешаны с ложными выводами, отражающими частную и зачастую искаженную картину реальности, создававшуюся в германском посольстве. Как всегда, переплетались слухи и точный анализ. Поэтому противоречивый характер информации вполне позволял Сталину продолжать политику уступок агрессору в надежде избежать открытия боевых действий.
В первом важном донесении Зорге, от 10 марта, внимание фокусировалось на давлении, оказанном на Японию, чтобы «активизировать роль Японии в пакте трех держав» против Советского Союза, вместо каких-то действий на юге. Информация, полученная от специального курьера, только что прибывшего из Берлина, содержала добавление, что такая позиция «довольно сильно распространена в Германии, особенно в военных кругах», способствуя укреплению в Кремле неверного мнения о ситуации в Берлине. К тому же предупреждение разбавлялось аксиоматичным утверждением, будто немецкие военные бросят Советскому Союзу перчатку лишь «по окончании теперешней войны». Поэтому, с точки зрения Сталина, такая информация, пусть и раскрывающая возможную опасность, давала надежду на мирную передышку до поражения Англии, если поспособствовать расколу в Германии{891}. В мае Зорге уведомил Москву, что Гитлер решил «разгромить СССР и получить европейскую часть Советского Союза в свои руки в качестве зерновой и сырьевой базы для контроля со стороны Германии над всей Европой». Этому заявлению, однако, сопутствовало оставляющее простор для дипломатических маневров предположение, что «война будет неизбежна», только если русские будут и дальше создавать проблемы. На пренебрежительное отношение немецких генералов к Красной Армии и ее оборонительным возможностям можно было повлиять, всячески демонстрируя силу и уверенность в себе, как и сделал Сталин в речи перед выпускниками военных академий 5 мая{892}. Позднее в том же месяце Зорге сообщил своему начальству об уверенности группы немецких чиновников, недавно прибывших из Германии, в том, что война начнется в конце мая; они получили инструкции вернуться в Берлин, по-видимому, на транссибирском экспрессе, до этого срока. Но, по мнению тех же лиц, опасность войны в 1941 году шла на убыль{893}.
Наконец, в одном из своих самых знаменитых донесений Зорге спешил предупредить Москву в начале июня, что, как сообщили германскому послу в Токио из Берлина, «немецкое выступление против СССР начнется во второй половине июня». Он был «на 95 % уверен» в том, что война начнется. Посла убедили в этом полученные инструкции сократить передачу важных данных через Советский Союз и свести к минимуму транспортировку каучука через СССР. Заключительная телеграмма, оригинал которой до сих пор не увидел свет, несколько снижала значимость информации. Зорге проследил ее источник – им оказался подполковник Шолль, германский военный атташе, покинувший Берлин почти месяц назад, 6 мая. С точки зрения Сталина, это было еще до «прорыва» в «переговорах» с немцами. Под нажимом Зорге германский посол в Токио признал, что у него нет подтверждения информации из Берлина. Тем не менее, как поведал ему подполковник Шолль, планируемое нападение вызвано фактом «большой тактической ошибки» Красной Армии: ее линейного развертывания{894}.
Иллюзия раскола в германском лагере глубоко укоренилась не только в Москве. В середине марта Сталину показали донесение агента в британском посольстве о конфиденциальной пресс-конференции, данной Криппсом. Как говорил Криппс журналисту, отношения между СССР и Германией «определенно ухудшаются» и война «неизбежна». Но главное – он тоже развивал мысль о «расколе» между немецкими военными и Гитлером, выступавшим против войны на два фронта. Криппс считал, что Гитлер будет стремиться к сепаратному миру с Англией и, возможно, добьется его, подготавливая почву для кампании на востоке. Парадоксальным образом подобная информация вкупе с прямыми намеками Криппса лишь подстегнула Сталина в его поисках сближения с Гитлером, чтобы предотвратить такое соглашение{895}.
Слухи о советско-германских переговорах, исходившие от хорошо осведомленной шведской дипломатической миссии в Берлине, широко распространились среди дипломатов в Москве. Практически все они говорили в своих донесениях о двух тенденциях, намечающихся в Германии: «одна – к сближению с СССР, используя комбинацию дипломатических и военных угроз, и другая – выступления за прямой военный захват экономических ресурсов СССР». Царило почти единодушное мнение, что хотя немецкая армия и народ «за военные действия против России», однако Гитлер, по-видимому, предпочитает добиваться своего с помощью излюбленной тактики кнута и пряника. Поэтому месяц май должен был быть ознаменован либо войной, либо полным взаимным сотрудничеством{896}. Эта точка зрения приобрела такую популярность, что в мае Галифакс передал в Лондон информацию, поступившую из Берлина, согласно которой «Россия, чувствуя свою слабость, постепенно уступает дорогу и готова предоставить Германии экономические привилегии на Украине и в районе Баку. Риббентроп, по-видимому, сторонник такого урегулирования, однако военные выступают против, так как считают, что это даст России передышку для укрепления ее в военном отношении. По их мнению, для Германии выгоднее напасть на Россию сейчас, пока она еще не готова к этому. Гитлер, как говорят, пока не сделал окончательного выбора между этими двумя теориями»{897}.
В своем пространном рапорте от 20 марта{898} Голиков подробно развивал гипотезу о расколе. По его утверждению, среди немцев преобладали два мнения:
«Первое – СССР в настоящее время слаб в военном и внутреннем отношениях, и настаивают на том, чтобы использовать удобный момент и вместе с Японией покончить с СССР и освободиться от пропаганды и от "дамоклова меча", висящего все время над Германией; второе – СССР не слаб, русские солдаты сильны в обороне, что доказано историей. Рисковать нельзя. Лучше поддерживать с СССР хорошие отношения».
Короче говоря, считалось, что вооруженные силы под предводительством Геринга настаивают на войне и сепаратном мире с Англией. Некоторые донесения действительно содержали предположения о тайных переговорах и прощупывании почвы с обеих сторон; отслеживание подобных попыток явно заняло главенствующее место в списке приоритетов разведки. Гитлер и Риббентроп, казалось, вели себя осторожнее, и Гитлер, по-видимому, еще не принял окончательного решения. Часть донесений, выделявшихся в общей мешанине, высказывала мнение, будто Гитлер взвешивает три возможных варианта применения своих томящихся в бездействии 228 дивизий в 1941 г.: он может вторгнуться в Англию, повести наступление в Северной Африке и, наконец, повернуть свои силы против СССР. Большое место отводилось сообщениям о предполагаемом ограничении целей войны помощью Румынии и Финляндии в возвращении их территорий, отданных Советскому Союзу{899}.
Высокое положение «Старшины» в германском Министерстве авиации, явное преимущество, являлось в то же время и недостатком. Позволяя обеспечивать бесперебойный поток стратегической и оперативной информации, оно заставляло «Старшину» рисовать одностороннюю картину действительности, на которую он смотрел с позиции министерства. Его относительная неосведомленность о состоянии дел в других родах войск привела к преувеличению роли военно-воздушных сил как застрельщика кампании против Советского Союза. По незамедлительно составленному им сценарию, Геринг являлся самым громогласным сторонником антисоветского лагеря, настаивавшим на войне зачастую против воли Гитлера. В своих донесениях он яркими красками описывал конфликты между Герингом и Риббентропом, которые «зашли так далеко, что переросли в личную неприязнь между ними». Эта точка зрения, естественно, привела его к необоснованным спекуляциям вроде теории, что, несмотря на пропаганду идеи войны Браухичем, «подавляющее большинство немецкого офицерства оппозиционно настроено по отношению к Гитлеру. Среди этого большинства также непопулярна идея нападения на Советский Союз»{900}.








