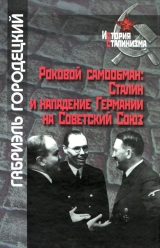
Текст книги "Роковой самообман: Сталин и нападение Германии на Советский Союз"
Автор книги: Габриэль Городецкий
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 45 страниц)
Неделю спустя Меркулов подал Сталину и Тимошенко сводку последних донесений разведки, составленную таким образом, чтобы заглушить голоса «поджигателей войны» и способствовать примирению с Германией. В первой части рапорта отметалась возможность войны и делалось предположение, что победы немцев в Северной Африке возродили их надежды «выиграть войну с Англией посредством удара по ее жизненным коммуникациям и нефтяным источникам на Ближнем Востоке». Во второй, наиболее важной части рапорта главное место отводилось донесению «Старшины» о трещине между вооруженными силами и политиками. Основываясь на предполагаемой усталости в войсках, он делал вывод о снижении ударной силы вермахта в сравнении с 1939 г. Третья часть уделяла наибольшее внимание донесению, описывающему уныние, царящее в люфтваффе из-за качественного превосходства советских бомбардировщиков и истребителей{901}.
Знакомство с материалами иностранных разведок укрепило Сталина в его интерпретации событий. Через Энтони Бланта, одного из «Кембриджской пятерки», в его руки попали по крайней мере некоторые из еженедельных разведывательных сводок Форин Оффис. В полученной им сводке за неделю 16–23 апреля говорилось: «Германские приготовления к войне с СССР продолжаются, однако до сих пор нет абсолютно каких-либо доказательств, что немцы намерены напасть на СССР летом 1941 г.»{902}. Краткий обзор собранных резидентурой в Лондоне донесений об оценке британской разведкой замыслов немцев действительно подтверждал теорию раскола. Материалы разведки о «германских планах и перспективах», охватывающие период 4 – 11 мая, раскрывали с помощью источников, близких к Гиммлеру, намерения в ходе молниеносной кампании занять Москву и посадить там правительство, которое будет сотрудничать с Германией. Если цель войны была такова, Сталин еще мог надеяться убедить Гитлера, что он будет лучшим его партнером в случае возобновления переговоров. С точки зрения Сталина, важнее была дополнительная информация, противоречащая первоначальным выводам, служившим поддержкой преобладающего в Лондоне мнения, будто Германия стремится Наладить отношения с Советским Союзом. Как гласило донесение, хотя германская армия настаивает на войне, политики выступают за переговоры. «Во главе с Риббентропом, – говорилось в заключение, – они заявляют, что путем переговоров с Советским Союзом Германия может получить все, что ей нужно, т. е. участие в экономическом и административном контроле над Украиной и Кавказом. Германия добьется большего в результате мирного решения, нежели в результате контроля над оккупированной территорией, лишенной советского административного аппарата»{903}.
Кампания намеренной дезинформации путем распространения слухов о продолжающейся подготовке и концентрации сил вермахта для вторжения в Англию также способствовала неверной оценке ситуации{904}. Но самой эффективной оказалась дезинформация, поддерживавшая самообман. «Лицеист» по-прежнему слал свою обычную мешанину истинных и ложных сведений. Дав довольно точную, хотя и общего характера информацию о количестве войск, угрожающих Советскому Союзу, он затем отправил успокоительное послание. Война между Советским Союзом и Германией, заверял он резидентуру, «маловероятна», несмотря на народную поддержку ее в Германии. Гитлер не рискнет воевать, «опасаясь нарушения единства национал-социалистической партии». Эффективно воздействуя на чувствительные струны Советов, он пояснял: Гитлер против войны, которая может занять у него по меньшей мере шесть недель, даже если он победит, поскольку за это время Англия усилится с помощью Соединенных Штатов. Поэтому концентрация войск – это лишь демонстрация «решимости действовать». Гитлер предполагает, что Сталин станет «сговорчивым» и сделает все, чтобы прекратить интриги против Германии, а в первую очередь, «даст побольше товаров, особенно нефти». Германии мало будет прибыли от войны, так как она, разумеется, ввергнет Советский Союз в хаос. Правда, немцы уверены в своей способности разбить советскую армию, которая показала, что «не умеет воевать», как в Финляндии, так и в Польше; если их вынудят к войне, немцы окажутся в советской столице и установят контроль над всей Европейской частью Советского Союза за шесть недель. Тем не менее, «Лицеист» отвергал идею о существовании плана на этот случай{905}.
Очень скоро «теория раскола» была развита и вошла составной частью в «теорию ультиматума». Еще 2 апреля «Старшина» передал информацию, исходившую от «Лицеиста», что Гитлер решил «использовать хлебные и нефтяные источники советского государства». Искусный двойной агент, «Лицеист», конечно, снова изготовил свою смесь. Ясно, что при настроении, царившем в Кремле, слово «использовать» могли понять как «использовать с помощью переговоров», а наращивание сил счесть средством давления. «Старшина» и сам относил военные приготовления на счет «демонстрации» решимости немцев. Сталин, разумеется, сосредоточил свое внимание на следующем его выводе: «Началу военных действий должен предшествовать ультиматум Советскому Союзу с предложением о присоединении к Пакту трех». Гитлер мог начать войну, только если Сталин «откажется выполнить требования немцев». Необходимость действовать осторожно диктовалась предположением, что ультиматум будет предъявлен, как только решится исход боев в Югославии и Греции. Телеграммы утаивались от Сталина до 14 апреля, когда победоносное вступление вермахта в Белград продемонстрировало, как он просчитался с Югославией. Берия и Меркулов одержали верх над решением тройки аналитиков управления внешней разведки не распространять информацию о войне, не совпадающую со взглядами, которых придерживаются наверху. Через несколько дней была получена еще одна телеграмма относительно ультиматума. В результате НКГБ взял на вооружение «теорию ультиматума», даже слишком хорошо подогнав ее под взгляды Сталина{906}. Очень скоро похожая интерпретация проникла в среду дипломатической колонии, развившей ее еще дальше{907}.
Месяц спустя, накануне переговоров с немцами, описанных ниже, берлинская резидентура передала успокаивающее сообщение, исходившее из Министерства экономики, что «от СССР будет потребовано выступление против Англии на стороне „держав Оси“. В качестве гарантии будет оккупирована Украина, а возможно, и Прибалтика». Такое донесение, естественно, дезавуировало информацию противоположного характера, вроде слов Гитлера, сказанных высокопоставленным офицерам: «В ближайшее время произойдут события, которые многим покажутся непонятными. Однако мероприятия, которые мы намечали, являются государственной необходимостью, так как красная чернь поднимает голову над Европой»{908}.
Первостепенной задачей, которую с этих пор Сталин ставил своей разведке, являлся сбор сведений о вероятных требованиях Германии. В общем и целом все они сходились на необходимости обеспечить более интенсивный ход советских поставок. «Лицеист» по-прежнему гнал изощренную дезинформацию, балансируя на тонкой грани между ложью и полуправдой. Когда развертывание войск стало невозможно дольше скрывать, он признал, что армия уже полностью готова к войне и ждет лишь маршевых предписаний. Однако соответствующие данные можно интерпретировать различным образом. Потворство немцев пакту с Японией объясняется как маневр с целью выиграть время. Гитлер, по-видимому, озабочен тем, как бы Япония, следуя примеру Италии, несмотря на свою слабость, не развязала авантюристическую войну против Советского Союза и не втянула Германию в преждевременный конфликт. Желание избежать войны сделало Сталина восприимчивым к любой информации, предполагавшей готовность Гитлера превратить военное решение вопроса в политическое. По словам «Лицеиста», поведение Гитлера обусловливается нехваткой экономических ресурсов, главным образом нефти и пшеницы, восполнить которую он рассчитывает с помощью Советского Союза. Для него Украина – «житница Европы». Кроме того, мирную передышку гарантирует решение Гитлера отложить войну до «благоприятного момента, который главным образом зависит от развития на Балканах и удачи наступления против Египта»{909}.
Вскоре после вторжения в Югославию резидентура передала в Москву добытую у некоего майора X. информацию о решении Гитлера напасть на Советский Союз теперь, когда война с Англией затянулась, чтобы не столкнуться в будущем с возросшей его мощью. Заговорили было о возможности начала войны с Советским Союзом до окончания войны с Англией, но теория ультиматума заставила эти разговоры умолкнуть. Сведений, подтверждающих ее, было в изобилии. Так, например, некий Франц Кош, рабочий одного из электрозаводов в Берлине, поставлявший достоверную информацию, заявлял, что Гитлер стремится к заключению всеобъемлющего торгового соглашения на 90 лет в обмен на согласие Германии, чтобы Турция и Финляндия стали советскими республиками{910}. Согласно донесению «Мазута», выходца из Латвии, директора одной из ведущих румынских нефтяных компаний, недовольство немцев состоянием торговых отношений с Советским Союзом побуждает их создать в Европе такие условия, которые вынудят СССР сделать значительные уступки Германии{911}.
Сталин знакомился с подобными донесениями, с нетерпением ожидая результата консультаций Шуленбурга с Гитлером в Берлине{912}. Действительно, сведения из надежных источников подтверждали, что специальный комитет планирования в Берлине пришел к выводу: нехватка экономических ресурсов вынуждает Германию «использовать хлебные и нефтяные источники Советского государства». Некоторые даже полагали, будто она станет добиваться создания независимого Украинского государства, подчиненного Германии{913}.
В начале мая многие разведывательные донесения всячески подгонялись к мнению Кремля. Хотя масса свидетельств указывали на возможное начало войны в середине мая; «Старшина» по-прежнему придерживался пагубной точки зрения, что «вначале Германия предъявит Советскому Союзу ультиматум с требованием более широкого экспорта в Германию и отказа от коммунистической пропаганды. В качестве гарантии выполнения этих требований в промышленные и хозяйственные центры и предприятия Украины должны быть посланы немецкие комиссары, а некоторые украинские области должны быть оккупированы германской армией». Приступая к фальшивым переговорам с Шуленбургом, Сталин обдумывал предполагаемые условия, могущие прояснить степень подчинения. Как поясняла следующая телеграмма Кобулова, «война нервов» велась путем распространения ложных слухов. «Старшина» все еще считал, что «большая часть германского офицерства, а также некоторые круги национал-социалистической партии настроены явно против войны с СССР». Такая война не имеет смысла и может «привести Гитлера к краху»{914}.
Следуя инструкциям из Москвы, посольство в Бухаресте не приняло во внимание информацию о консультациях немцев с румынским Генеральным штабом как очередном этапе в «так называемой подготовке Германией выступления против нашей страны». Сверх того, были прослежены английские источники этих слухов, которые «имеют явно тенденциозный и неправдоподобный характер». Делалось даже предположение, будто «англичане сознательно допустили оккупацию немцами греческих островов, расположенных около Проливов, так как считают, что это создает угрозу против Советского Союза и может вовлечь последний в войну против Германии». Этим англичане надеялись достичь двух целей: «с одной стороны, поражения СССР, с другой – ослабления Германии. И то, и другое им выгодно»{915}. Это вроде бы в самом деле подтверждалось рядом перехваченных телеграмм Криппса, которые были переданы Сталину. Следующие шаги Гитлера, внушал Криппс Идену, в большой степени зависят от того, сможет ли он полностью подчинить себе Советский Союз, а это, по его мнению, «станет ясным в ближайшее время» – явный намек на возвращение Шуленбурга из Берлина. Как он считал, пока Советский Союз не спровоцирует немцев, Гитлер может откладывать начало войны. Потому он предлагал ряд мер, чтобы вбить клин между Германией и Советским Союзом, что встревожило Сталина и, разумеется, отвлекло его внимание от подлинной опасности{916}.
Поворот войны в сторону Балкан и англо-германская стычка в Греции породили предположение, будто следующей жертвой может стать Турция, на пути к захвату Египта, Суэцкого канала, Сирии и Ирана, а возможно, также Испании и Гибралтара{917}. Даже такие надежные агенты, как «Дора» в Цюрихе, прославившийся впоследствии своими точными предупреждениями, слали неверную информацию. По словам его источников в Берлине, война начнется только тогда, когда британскому флоту будет закрыт доступ в Черное море, а немцы утвердятся в Малой Азии. Поэтому казалось, ближайшая цель Гитлера – Гибралтар и Суэцкий канал, чтобы изгнать британский флот из Средиземного моря{918}. По крайней мере частично концентрацию войск на юго-западной границе Советского Союза можно было объяснить как средство нажима с целью получить позволение на переброску немецких войск через юг России к Ирану и Ираку. Вероятность создания такой Оси, угрожающей имперским владениям Британии, отвлекала и англичан от объективной оценки германской угрозы{919}.
В день возвращения Шуленбурга в Москву «Старшина» с тревогой сообщил, что, как он узнал в службе связи между министерствами авиации и иностранных дел, «вопрос о выступлении Германии против Советского Союза решен окончательно» и его ждут «со дня на день». Еще в большее смятение повергало известие, будто Риббентроп, «который вовсе не был сторонником нападения на СССР, осознав, что решение Гитлера по этому вопросу непоколебимо, занял теперь позицию поддержки нападения на Советский Союз». Кроме того, уже шли переговоры на уровне начальников штабов с финскими военно-воздушными силами, в то время как от болгар, венгров и румын потребовали принять меры оборонительного характера{920}. Однако, вероятнее всего, Сталину даже не показали эту телеграмму. Зато ему в тот же день сообщили об обзоре германских экономических ресурсов, сделанном Функом, министром экономики. Его выводы несомненно порадовали Сталина: как он утверждал, пока в течение года не будет заключен мир с Англией и восстановлено экономическое сотрудничество, Германии придется «расширить экономические связи с Японией и Советским Союзом, причем с последним если не удастся миром, то силой». Будущее сотрудничество зависело от способности Советов увеличить поставки сырья{921}.
Перед лицом очевидной опасности Сталину приходилось поддерживать хрупкое равновесие между изъявлением покорности Германии и демонстрацией уверенности в себе, чтобы у немцев не возникло соблазна воспользоваться его слабостью. Его изощренная политическая игра, рассматриваемая задним числом, на фоне последующего вторжения, представляется абсурдной, но она соответствовала логике разворачивающихся событий. Решения Сталина редко оспаривались его окружением, его принцип управления «разделяй и властвуй», привычка приписывать собственные соображения своим соперникам и крайняя подозрительность даже по отношению к потенциальным союзникам вели к колоссальному самообману. Исчезновение альтернативных мнений позволяло ему упорно держаться своих убеждений, подавляя малейшие разногласия и вынуждая всю политическую и военную систему приспосабливаться к его взглядам{922}. Кроме того, в пользу его оценки ситуации говорило множество свидетельств, совпадающих с его политическими взглядами. Лишь незначительная часть их появилась в результате преднамеренного обмана со стороны Гитлера{923}. Гораздо существеннее были неверные трактовки событий, представляемые ему оппонентами гитлеровской политики, в первую очередь Шуленбургом и, в какой-то степени, даже Риббентропом. В итоге Сталин сохранял уверенность, что с помощью искусных политических маневров можно предотвратить или, по крайней мере, отсрочить войну. Он надеялся добиться этого, вновь обратившись к приглашению Советскому Союзу присоединиться к Оси, переданному Риббентропом Молотову в Берлине перед отъездом последнего в ноябре 1940 г.
Решение избежать конфликта с Германией любой ценой, по-видимому, было принято всего лишь через два дня после заключения пакта с Югославией. Молотов поручил Деканозову осторожно возобновить переговоры с Вайцзеккером о двусторонних отношениях. Вайцзеккер, со своей стороны, заметил, что Деканозов «не сказал ни слова против нашей интервенции в Югославию»; напротив, он, казалось, заинтересовался визитом японского министра иностранных дел Мацуоки в Берлин, который, по его убеждению, являлся продолжением усилий по расширению Тройственного союза, видевшего свою задачу в том, «чтобы помешать распространению войны»{924}. Посла в Виши использовали, чтобы сообщить немцам о намерении Советов придерживаться буквы пакта Молотова – Риббентропа. Советский Союз обещал не брать на себя «никаких обязательств, военных или политических, в отношении Югославии» и ни в коем случае не желал повторять опыт 1914 года, когда защита Сербии втянула Россию в войну{925}.
Самой значительной реакцией на падение Югославии стало поспешное заключение пакта о нейтралитете с Японией 13 апреля, когда Мацуока возвращался из Берлина через советскую столицу. Заключение пакта Молотова – Риббентропа незамедлительно возымело прямое действие на советскую политику на Дальнем Востоке. Тесное сотрудничество с Китаем пошло на убыль. Чан Кайши даже не удалось соблазнить русских предложением военного союза и предоставления Советскому Союзу права разместить гарнизоны на китайской территории{926}. Его специального военного эмиссара, прибывшего в Москву в конце апреля 1940 г. с более конкретным предложением объединиться, чтобы нанести «удар японским агрессорам», не допустили к Сталину, и он вернулся в Китай с пустыми руками{927}. Эти обращения Сталин отнес на счет попыток англичан вовлечь Советский Союз в войну{928}.
Постепенное отдаление от Китая совпало с попытками примириться с Японией{929}. Молотов отвечал на японские инициативы осторожно, опасаясь, как он откровенно признался Того, японскому послу в Москве, что японцы могут использовать это в качестве противовеса в своих переговорах с американцами{930}. Однако он сменил тон, когда близилось падение Франции. Он хотел теперь говорить не о двусторонних отношениях, стоявших до тех пор на повестке дня, а «о крупных вопросах, считаясь с теми изменениями, которые происходят в международной обстановке и которые могут произойти в будущем»{931}. Это привело к быстрой демаркации маньчжурской границы, к досаде китайцев, которых Молотов предполагал поторопить с отменой старого «Антикоминтерновского пакта»{932}. Эти начальные шаги подготовили почву и поощрили к дальнейшему сотрудничеству, когда принц Коноэ захватил власть и стал добиваться улучшения отношений как с Германией, так и с Советским Союзом. Новое трехстороннее соглашение, как он надеялся, обеспечит Японии массу «золотых возможностей» по использованию сдвигов на международной арене для экспансии на юг. Мацуоку, который, являясь представителем Японии в Лиге Наций, проявил себя как энтузиаст улучшения отношений с Советским Союзом, назначили новым министром иностранных дел{933}. Движение на юг против имперских владений Британии всячески поощрялось Берлином. Германский посол обещал новому министру иностранных дел, что Германия «сделает все, что в ее власти, чтобы содействовать дружескому взаимопониманию, и в любое время готова предложить свои услуги для достижения этой цели»{934}.
Однако на самом деле именно рост напряженности на Балканах и создание Оси осенью 1940 г. вызвали более активную советскую политику. Молотов сделал необычный шаг, пригласив Того на завтрак, во время которого оба пришли к соглашению о том, что для включения Советского Союза тем или иным путем в Тройственный союз должны быть улажены разногласия между двумя странами{935}. Берия сообщил Сталину о намерении Гитлера содействовать пакту между СССР и Японией, чтобы «показать миру полный контакт и единение между четырьмя державами» и тем самым отбить у Соединенных Штатов охоту помогать Англии{936}. Сталин, однако, не хотел связывать себя обязательствами относительно пакта о нейтралитете, предложенного отъезжающим послом в Москве, пока не получит более ясного представления о планах Гитлера в ходе предстоящей поездки Молотова в Берлин{937}.
Мацуока не терял времени зря. Генерал-лейтенант Татекава, известный как «решительный человек, который сумеет урезонить русских без дипломатических фраз», был послан в Москву, чтобы способствовать перемене в отношениях. Шведскому послу он показался «похожим на статуэтки Будды, которые можно купить за несколько рублей на рынке, но живот у него поистине царский, и это единственная живая часть неподвижной маленькой фигурки». Наружность Татекавы была обманчива, скрывая весьма энергичную личность. Он гордился своим военным званием, так как считал, что «лишь во время войны страны могут договориться друг с другом с мечом в руке»{938}. Уже в первую свою встречу с Молотовым 1 ноября он предложил пакт о ненападении, аналогичный пакту Молотова – Риббентропа. Зная о необходимости для Коноэ исключить угрозу второго фронта на севере, Сталин не спешил. Занятый мыслями о послевоенном устройстве, вопрос о котором, как он надеялся, будет урегулирован в Берлине, он хотел получить подходящую цену: признание японцами советского суверенитета на севере Сахалина и права на рыбный промысел, аннулировав тем самым унизительное Портсмутское соглашение. Такие условия, внушал Молотов послу, являются всего лишь «справедливой компенсацией» со стороны Японии, «развязывая ей руки на юге», тогда как СССР рискует охлаждением отношений с Соединенными Штатами и Китаем{939}.
После провала переговоров в Берлине Сталин по-прежнему соблюдал осторожность, не желая навлекать на себя гнев и англичан, и американцев. Кроме того, японцы, стремясь заключить соглашение, вернулись к своему предложению пакта о нейтралитете, отложив спорные вопросы на потом. Поэтому Сталин взял на вооружение тактику проволочек, втянув японцев в долгие и изнурительные переговоры о праве на рыбный промысел{940}. Когда конвенция по рыбному промыслу была заключена в конце января, Сталин перешел к столь же трудным переговорам о торговом соглашении{941}.
В целом переговоры с японцами отражали развитие событий на западном фронте, становившееся с середины февраля все более угрожающим. Мертвая точка, на которой застыли переговоры, и ходящие кругом слухи о войне, которая могла вовлечь Японию в боевые действия против СССР, заставили Мацуоку взять вожжи в свои руки. Внешне совершаемый им теперь тур по Европе имел целью скоординировать действия Японии и ее союзников по Оси. Но «за чашкой чая» в своей резиденции Мацуока признался советскому послу, что считает «самой важной задачей своей поездки» встречу с советским руководством во время остановки в Москве. Он приписывал секретность встреч в Москве существованию оппозиции у него в стране, хотя на самом деле все это было из-за немцев, которые, как он опасался, могли нажать на Японию, чтобы та выступила против Советского Союза. Любитель путешествий, он попросил русских предоставить ему вагон с кухней и спальней для облегчения долгого транссибирского вояжа{942}.
Для Сталина, которому приходилось использовать все свое дипломатическое мастерство, чтобы отвратить опасность войны, предложенный визит был подарком судьбы в его стремлении возобновить диалог с Гитлером, заглохший со времени визита Молотова в Берлин. Его, разумеется, ободрило заявление Мацуоки в парламенте о намерении «приложить серьезные усилия для фундаментального улучшения отношений» с СССР, в соответствии с идеями Тройственного союза{943}. Татекаве в Москву сообщили, что пришло время «перейти от мелких разногласий к урегулированию кардинальных вопросов». Как надеялся Татекава, это могло быть осуществлено во время остановки Мацуоки в Москве{944}. Конечно, возникло некоторое ощущение сговора, когда Шуленбурга и Россо не позвали на ряд обедов, на которые японский посол пригласил одного Молотова{945}.
Тревогу Мацуоки по поводу немцев в некоторой степени рассеял сам Риббентроп. Все еще лелея мечту о создании Континентального блока и «великого вала» от Атлантического до Тихого океана, он продолжал настаивать, чтобы японцы захватили Сингапур и перенесли боевые действия в Тихий океан. Поэтому он скрывал от японцев планы нападения на СССР, которое могло представлять угрозу для Японии как союзника Германии и втянуть ее в нежелательную войну. Риббентроп даже поведал Ошиме, японскому послу в Берлине, о своих надеждах на возобновление переговоров с Советским Союзом и включение его в число стран Оси{946}. В результате как раз перед его отъездом переговоры пошли на более высоком уровне; были организованы беспрецедентные встречи Мацуоки со Сталиным, как на пути первого в Берлин, так и при возвращении оттуда{947}. По прибытии в Москву 24 марта Мацуока осторожно выдвинул перед Молотовым идею пакта о ненападении. Однако Наркомат иностранных дел обратил внимание Молотова на то, что пакт о ненападении с Китаем 1937 г. запрещает русским заключать такой же с Японией. Поэтому он предложил взамен соглашение о нейтралитете{948}.
При встрече со Сталиным Мацуока расписал свои усилия по достижению пакта о ненападении с СССР в 1932 г., потерпевшие неудачу из-за враждебно настроенного общественного мнения в стране. Теперь они с Коноэ «твердо решили добиться улучшения отношений между двумя странами». Мацуока, изо всех сил стремясь завоевать расположение Сталина, развивал перед ним хитроумную теорию, описывавшую японский строй, пусть и во главе с императором в окружении капиталистов, как «моральный коммунизм». Нынешнее правительство желает с помощью своего участия в Тройственном союзе «разгромить англосаксов», а с ними «капитализм и индивидуализм». Если Сталин разделяет эти взгляды, намекал он, Япония готова «идти с ним рука об руку». Сталина, конечно, позабавила представленная картина, но он учитывал и более практические соображения. Он явно желал использовать Мацуоку как посредника, попросив его передать Риббентропу, что англосаксы никогда не были друзьями Советского Союза и «в настоящий момент он уж точно не захочет с ними подружиться».
Затем Сталин подчеркнул, что различие в идеологических воззрениях не может стать препятствием к сближению двух стран. Тем не менее, Мацуока, как стало очевидно, предпочитал отложить реальные переговоры до тех пор, пока не послушает Гитлера{949}. Перспективы казались блестящими. На приеме, данном в честь японского министра иностранных дел в тот же вечер, он открыто говорил о необходимости сцементировать Ось и найти для Советского Союза удобный способ присоединиться к ней. Он прозрачно намекал на свое намерение подготовить почву для такого соглашения во время своей поездки в Берлин{950}. Помимо того, некоторые подозрения Сталина, питаемые дикими слухами, будто Мацуока может посетить Лондон, добиваясь соглашения с англичанами, которое развяжет ему руки для войны вместе с Германией против Советского Союза, были опровергнуты Майским из Лондона{951}.
Встречи Мацуоки в Берлине 27–29 марта совпали по времени с переворотом в Югославии. Это поставило германское руководство в нелегкое положение. Стремясь отговорить японцев от подписания соглашения в Москве, немцы в равной степени горячо желали, чтобы те начали атаку на Сингапур. Японцы же явно считали необходимым заключить соглашение с Советским Союзом, прежде чем развязывать войну. Потому Гитлер скрывал от Мацуоки планы нападения на Советский Союз: это могло соблазнить японцев отложить экспедицию на юг и потребовать долю добычи от русской кампании. Но Мацуока вскоре понял, что широкие планы привлечения Советского Союза к участию в крестовом походе против англосаксонского мира неосуществимы. Советская позиция по Балканам, сетовал Риббентроп, неприемлема, «так как Балканский полуостров нужен Германии для ее собственной экономики и она не склонна позволить ему отойти под руку русских». Если Сталин, которого он как-то раз назвал «хитрецом», не станет действовать так, как «фюрер считает правильным, тот сокрушит Россию». Мацуока безуспешно попытался, типичными для него окольными путями, переломить существующую тенденцию, поведав Гитлеру, что в ходе его бесед со Сталиным было сказано: «Советская Россия никогда не ладила и не поладит с Великобританией». Но ему достаточно твердо посоветовали не поднимать вопроса о приеме Советского Союза в число стран Оси на переговорах в Москве, «поскольку это, видимо, не вполне укладывается в рамки нынешней ситуации». На последней встрече Риббентроп, вероятно, под влиянием событий в Югославии и по прямому указанию Гитлера, особо предостерег Мацуоку против заключения пакта о ненападении с Советским Союзом, так как Германия может открыть боевые действия против СССР в случае нападения русских на Японию, когда та будет преследовать свои цели на юге. Его последние слова на прощание содержали явный намек на «Барбароссу», хотя и оставались двусмысленными. Он не может заверить японского императора, «что конфликт между Германией и Россией невообразим. Напротив, при нынешнем положении дел такой конфликт, пусть и не обязательный, все же следует считать возможным»{952}.
Мацуока, конечно, все понял. Хотя Гитлер в ходе их встречи 1 апреля едва коснулся этого вопроса, Мацуока всячески извинялся за конференцию в миниатюре, имевшую место в Москве. Он не счел нужным упомянуть, что инициатива исходила от него, зато скрупулезно подсчитал, что, учитывая время, затраченное на перевод, он «беседовал с Молотовым, вероятно, 10 минут, а со Сталиным – 25 минут». Довольно точно передавая содержание разговоров, он, весьма примечательно, обошел молчанием предложение пакта о ненападении, сделанное им Сталину{953}. Несколько приободрили Мацуоку беседы в Риме с Чиано, не перестававшим терзаться мыслью о стремлении Германии к превосходству. Фактически Мацуоку похвалили за его усилия по изучению возможностей расширения Тройственного союза и поощрили и дальше «прояснять и улучшать отношения между Японией и СССР»{954}.
Мацуока вернулся в Москву 6 апреля и встретился с Молотовым на следующее утро. Драматические события в Югославии между этими двумя визитами произвели разительную перемену во взглядах Сталина{955}. Ко времени отъезда Мацуоки 13 апреля – день, когда вермахт вошел в Белград, – Сталин осознал реальность германской угрозы и отчаянную необходимость возобновить переговоры с Берлином. Поэтому японский путь стал жизненно важным. Не удивительно, что Молотов, как обнаружил Мацуока в первую же их встречу, стал «значительно мягче»{956}. Мацуока больше не ходил вокруг да около: его не интересуют переговоры о торговле и праве рыбной ловли, их он оставляет своему послу. Его действия продиктованы «не совпадением сиюминутных взаимных интересов, а желанием улучшить отношения на следующие 50 – 100 лет». Короче говоря, его «величайшее желание – заключить пакт о ненападении, невзирая на прочие нерешенные разногласия». Он, конечно, не прочь был воспользоваться напряженностью в германо-советских отношениях и полагал, что «заключение пакта теперь можно сравнить с мастерским ударом – тем, что в бейсболе называют „master-hit“, – когда по мячу бьют с максимальной силой, одним ударом посылая его в нужном направлении».








