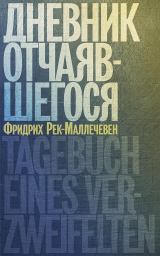
Текст книги "Дневник отчаяшегося"
Автор книги: Фридрих Рек-Маллечевен
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Ноябрь 1939
Я в Мюнхене, который находится полностью под впечатлением от покушения в Бюргербройкеллере[121]121
Взрыв бомбы в пивном зале в Мюнхене 8 ноября 1939 г., по всей вероятности, было делом рук одиночки, вюртембергского плотника Георга Эльзера. Убит эсэсовцами в Дахау в 1945 г.
[Закрыть]. Газеты проливают крокодиловы слезы по поводу «трусливого покушения на величайшего немца всех времен и народов», но думаю, что не найдется и тысячи местных жителей в этой «столице движения», которую в просторечии уже давно называют «столицей контрдвижения», не рвущих на себе волосы из-за неудачи: те же журналисты, которые вчера по уши плавали в своих ханжеских разглагольствованиях, сегодня, если с ними заговорить на улице, цинично подшучивают над собственным византинизмом. Официальный отчет, согласно которому Intelligence Service[122]122
Служба разведки (англ.). Примеч. пер.
[Закрыть] в союзе с Отто Штрассером[123]123
Отто Штрассер (1897–1974) – брат Грегора Штрассера (см. примеч. 19), член НСДАП с 1925 по 1930 г. В 1930 г. порвал с Гитлером и создал национал-социалистическую оппозиционную группу «Черный фронт». В 1933 г. отправился в изгнание.
[Закрыть] создала эту подлую адскую машину, вызывает насмешки повсюду, и никто не сомневается, что весь этот фейерверк, который в конце концов стоил жизни почти дюжине людей, был зажжен самими нацистами – чтобы усилить ненависть к Англии и окружить герра Гитлера славой мученика. Отто Штрассер, который, несмотря на свое баварское происхождение, в волнениях 1932 года назвал себя «прусским якобинцем» и целое лето преследовал меня непристойными политическими предложениями, был знаком мне только по письмам. Его брат Грегор, убитый в путче Рёма, любил слушать разговоры о себе, был немного «vieux radoteur»[124]124
«Старый болтун» (фр.). Примеч. пер.
[Закрыть], но в остальном был честным человеком. Поздней осенью 1932 года, когда его звезда, казалось, восходила, он часто навещал меня; благодаря ему я знал о внутренних событиях рубежа 1932–1933 годов и никогда не забуду заявления, сделанного им в ноябре – в то время, когда выборы после всех триумфов принесли партии первую катастрофическую потерю голосов…
«На глазах у своих соратников он заигрывает сейчас с самоубийством. Он такой истерик, что они не должны воспринимать подобные вещи всерьез, и поэтому, к сожалению, он не будет этого делать. В конце концов, его судьба сейчас находится на острие ножа. Насколько я его знаю, он попытается предпринять отчаянный шаг, чтобы прийти к власти. Если и это не удастся и он не добьется своего, тогда с ним, психопатом, будет покончено раз и навсегда, и он лопнет с огромным зловонием, как раздувшаяся лягушка».
Известно, что Грегор Штрассер поплатился жизнью за свою оппозицию в путче Рёма – если верить дошедшей до меня информации, его изуродованный и разложившийся труп был найден на зерновом поле. Характерно для душевного состояния немецкого народа то, как его дети отреагировали на смерть отца. «Он (Гитлер) расстрелял отца, но он же наш фюрер». Именно так и не иначе. Жена друга Штрассера, Глазера[125]125
Александр Глазер – юрист; член парламента земли Бавария с 1924 по 1928 г.
[Закрыть], который был зарезан в то же время в своей квартире в Мюнхене на Амалиенштрассе, по поводу смерти мужа выразила совершенно аналогичные чувства.
Неделю я в гостях у моего друга Клеменса цу Франкенштейна в Хехендорфе на Пильзенском озере, который за две недели до начала войны дирижировал концертом в Лондоне и был гостем Уинстона Черчилля. Я наслаждаюсь этими днями, проведенными высоко над осенним меланхоличным озером в доме моего старого друга. Мы говорим о недавно опубликованных письмах Стефана Георге к Гуго фон Гофмансталю, чрезвычайно высокомерных, и, к удовольствию Кле, я рассказываю подробности аудиенции, которую имел с Георге, когда, сидя на возвышении между двумя серебряными канделябрами, он спросил о моих взглядах на Аристотеля, а два часа спустя я увидел царя поэтов на Гейдельбергском вокзале, в зале ожидания второго класса, брызжущего жиром и поглощающего с почти плебейским аппетитом кассельский стейк из ребер с квашеной капустой.
Мы говорим еще о любопытном и почти невероятном циркуляре, в котором г-н Ганс Пфицнер[126]126
Ганс Пфицнер (1869–1949) – композитор. Одно из главных его произведений – опера «Палестрина». Пфицнер, ориентировавшийся на музыку Рихарда Вагнера, вступил в резкий конфликт с представителями Новой музыки из-за националистического настроя. Поздние произведения являются свидетельством консервативного романтизма.
[Закрыть] жалуется всем руководителям немецкой сцены и, конечно, всем соответствующим нацистским властям, что его, немецкого композитора, игнорируют, в то время как Верди, автор жестоких и кровавых либретто, всегда в программе…
Очень милое обстоятельство, в котором Пфицнер, трудолюбивый изобретатель самой забавной музыки на свете, осмеливается противостоять гиганту Верди… этому чуду, льющемуся без усилий, которое захватывает нас на одном дыхании и в едином порыве! Мы долго говорим о Пфицнере, о его любовных муках, о розовых бумажных цветах, которые у него сыпались дождем в «Розе из сада любви», и о веронале второго акта «Палестрины».
Это было незадолго до премьеры, жарким летом 1917 года, когда во время бесконечных репетиций в полутемном зале Мюнхенского придворного театра, сидя рядом с Паулем Гренером, я увидел Пфицнера с его злым лицом школьного учителя, прохаживающегося среди всех сидящих там аккомпаниаторов, хористов и т. д., и Пауль Гренер заметил: «Вот он сейчас бегает и записывает всех, кто смеется». После репетиций своих произведений он обычно пересматривал оркестровые партии на предмет замечаний, написанных в нотах; однажды, обнаружив в партии гобоя слово «бред», задыхаясь от ярости, он явился к руководству и потребовал немедленного, сию же минутного увольнения виновника за оскорбление, и впал в истерику, когда тот был наказан «пятью марками в пользу пенсионного фонда». Его характеризует забавная история, произошедшая летом 1918 года, когда я проводил каникулы с парой певцов Плашке, Евой фон дер Остен из Дрезденской придворной оперы и покойным пианистом Шеннихом на Фрауенинзеле озера Кимзее. Каждый вечер мы выходили на озеро в маленьких деревянных каноэ и шутили, импровизируя на тему великих мира сего: как бы итальянский героический тенор имел аудиенцию у Козимы Вагнер[127]127
Козима фон Бюлов (1837–1930) – дочь Ференца Листа, вышла замуж за оперного композитора Рихарда Вагнера в 1870 г. После его смерти (1883) обеспечила продолжение Байройтского вагнеровского фестиваля.
[Закрыть], которая в то время была еще жива, и – в 1918 году тем не менее – поинтересовался у жительницы олимпа «состоянием господина супруга», как бы недавно почивший Поссарт[128]128
Эрнст фон Поссарт (1841–1921) – актер и театральный режиссер Мюнхенского придворного театра, поставил множество вагнеровских спектаклей.
[Закрыть] вошел в небесный зал и предстал перед Всевышним, «который, кстати, необычайно похож на моего Высочайшего господина, принца-регента». И наконец, Ганс Пфицнер. Он, «усталый старик на исходе великой эпохи», отправляется в турне по Южной Америке, во время экскурсии в окрестностях Рио его кусает ядовитая змея, и после описания этого происшествия в газетах появляется следующее сообщение: «Состояние змеи при данных обстоятельствах тяжелое». Вот как обстоят дела с немецким композитором. На днях, по рассказу скрипача из Немецкого оперного театра в Берлине, он прервал спонтанные аплодисменты публики после арии Верди, которой дирижировал на концерте, громогласным:
– Не хлопайте, это всего лишь музыка для шарманки! – и, конечно, вполне закономерно, что он, старательно мучающий себя музыкальный часовщик, с альбериховской[129]129
Альберих – злой безобразный гном, хранящий золото нибелунгов, персонаж поэмы «Песнь о нибелунгах» и оперного цикла Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга». Примеч. пер.
[Закрыть] ненавистью низкорослого ненавидит другого, вечного расточителя.
Кстати, Кле, с которым я провел несколько приятных и веселых дней в подобных медитативных беседах, от знаменитой Юнити Митфорд[130]130
См. примеч. 45.
[Закрыть], которой он должен был быть представлен на вечере Черчилля, демонстративно отвернулся, что было, конечно, единственно правильной реакцией. Я знаю его уже почти тридцать лет… с тех славных дней, когда еще при старом регенте он возглавлял Королевские придворные театры. Как нацисты отстранили его от должности в 1934 году, очень поучительно. Однажды в городском совете Мюнхена господин Кристиан Вебер[131]131
Кристиан Вебер (1883–1945) – участник гитлеровского путча 1923 г., после 1933 г. стал президентом окружного совета Верхней Баварии, а также «советником и комиссаром искусств» Мюнхена. Один из самых влиятельных людей в баварской столице.
[Закрыть] встал и заявил, что Мюнхенская опера в ее нынешнем состоянии больше не может считаться достойным культурным учреждением и поэтому нуждается в ревизии. Для сравнения двух людей, критика и критикуемого, служит следующая таблица, которая имеет отношение к состоянию умов немецкого народа…
Господин Клеменс цу Франкенштейн
был
когда вышел в отставку, был композитором нескольких многократно исполнявшихся опер и дирижером, известным далеко за пределами Европы;
сейчас
лишен своей должности,
живет
в бедной маленькой вилле на западе Мюнхена.
Господин Кристиан Вебер
был
до выступления о Мюнхенской опере был вышибалой в мюнхенском заведении «Блауэр Бок», имел несколько судимостей за сутенерство,
сейчас
Enfant gâté[132]132
Баловень (фр.). Примеч. пер.
[Закрыть] герра Гитлера, президент Мюнхенской ассоциации скачек, а также владелец успешного борделя на Зенефельдерштрассе,
живет
в Мюнхенской резиденции в великолепных комнатах, которые занимал папа Пий VI в 1782 году. Вот так обстоят дела в Третьем рейхе. Ad notam: «Указом фюрера» запрещено:
I. Обсуждать личную и частную жизнь высокопоставленных гитлеровских функционеров,
II. Предлагать доказательства истины в суде при возможном уголовном преследовании, что пошло бы во вред этим полубогам.
Но в стихотворении «Публичные клеветники» Келлера[133]133
«Öffentliche Verleumdern» (1888). Примеч. пер.
[Закрыть] читаю:
Во всем размах иной,
Взойдут посевы вскоре,
Толпа живет в позоре,
Глумясь своей виной!
До многих мысль дошла,
Что сразу разумелась:
Добро куда-то делось,
Зато в избытке зла.
Лишь в час, когда зиме
Настал конец, и, сколот,
Отходит лед, весь город
Трезвонит о чуме.
И пугало тогда
Смеясь сжигают дети,
Сгорают страхи в свете
И в радости беда.
Нельзя не отметить nota bene, что это стихотворение, которое старый Келлер написал, вероятно, в каком-то призрачном предчувствии, сейчас са-мое популярное из всех стихотворений Келлера в Германии. Все знают его, читают друг другу – да, на днях я сам видел в штайниковском заведении в Швабинге, как старый Штайнике[134]134
«Папаша Штайнике» стал легендарной фигурой в старом Швабинге. В лекционном зале, пристроенном к его книжному магазину на Адальбертштрассе, проходили литературные чтения, в том числе Томаса Манна.
[Закрыть] читал его изумленным гостям. Гестапо в ярости от этих стихов, которые они не могут уничтожить или как-то ликвидировать: в конце концов, даже мы еще не настолько продвинулись, чтобы можно было запретить нам читать стихи Келлера…
Январь 1940
Юнити Митфорд, о которой я говорил на днях, лишила себя жизни. Сначала в мюнхенской гостинице она тщетно пыталась выстрелить из пистолета, а затем, парализованная неудачным выстрелом и доставленная в Лондон, она учадчно приняла яд[135]135
См. примеч. 45. Примеч. пер.
[Закрыть], сделав, таким образом, самое разумное, что могла сделать, мечтая о себе как об императрице Германии под боком у этого Адониса. Серьезно и со всем почтением, которое приличествует уходу каждого человеческого существа: истерики-мужчины наделали достаточно бед, когда ворвались в историю. Но женщины, когда начинают истерить, еще хуже, и хуже всего, когда они, как эта, относятся к типу раненых архангелов. В Германии у нас достаточно представителей этого типа, которых в просторечии называют «нацистки». А в Англии, насколько я знаю, есть еще одна, цепляющаяся за белые одежды господина Ганди. Надо радоваться, что избавились хотя бы от этой.
Тем временем в Мюнхене разгорается новый и очень забавный скандал. Господин Фишер, «интендант» государственного, протежированного герром Гитлером театра оперетты на Гертнерплац, а также enfant gâté гауляйтера Вагнера, которого ненавидит начальник полиции Эберштейн, большой враг Вагнера… Итак, на днях господин Фишер ужинает в отеле «Регина» с очень молодой девушкой. Он ужинает с ней довольно интенсивно, а когда ее взгляд становится многообещающим, тайно заказывает двухместный номер для нее и для себя и поднимается с ней наверх после полуночи. Вскоре из двухместной комнаты раздается пронзительный крик о помощи, который слышен на весь верхний этаж гостям, горничным, но прежде всего двум молодым людям, которые занимают комнаты справа и слева от комнаты для удовольствий Фишера и теперь входят в комнату господина Фишера, готовые прийти на помощь. Тут им навстречу выходит молодая девушка в слегка помятой пижаме и заявляет, что господин Фишер хотел ее изнасиловать, а ей «еще нет и пятнадцати», и выливает ведро оскорбительных слов, припасенное в пригороде Гизинга для таких случаев, на своего спутника, который стоит рядом, одетый только в кольцо на пальце. В ответ на ее крики и «пятнадцать лет» два молодых господина, которые показывают, что они офицеры гестапо, арестовывают бедного господина Фишера, а через несколько дней владелец отеля «Регина» рассказывает мне подробности. Девушка, как и двое служащих, действовали по поручению Эберштейна, который хотел одержать верх над своим заклятым врагом Вагнером, скомпрометировав одного из его протеже, – все это было хитроумной ловушкой, в которую этот осел сразу угодил. Он должен предстать перед прокурором и исчезнуть, но, вероятно, пробка от вина, плавающая в бульоне из грязи, крови и слез, вскоре появится вновь – новенькая и очищенная от грехов. Так же быстро, как глава национал-социалистического автомобильного корпуса Ольденбург, который за махинации с коньяком недавно был приговорен к тюремному заключению, и так же, как господин Юлиус Штрейхер[136]136
Юлиус Штрейхер (1885–1946) – учитель. В раннем возрасте вступил в НСДАП и стал гауляйтером Франконии; редактор антисемитской газеты «Штюрмер». Казнен как военный преступник после Нюрнбергского процесса.
[Закрыть], который недавно был осужден «судом» всех гауляйтеров за то, что он, великий антисемитский героический тенор Третьего рейха, брал взятки у богатых нюрнбергских евреев. В зале говорят, что его застрелили, но я с самого начала был уверен, что ни один волос не упадет с его головы, которая за несколько лет до «принятия власти» дала небольшое ложное показание под присягой в пользу герра Гитлера. На деле он спокойно и без охраны сидит в своем бог знает как полученном имении, которое, конечно, ему больше не позволено покидать.
Кстати, он, наш самый великолепный, с недавних пор имеет любовницу, которая, по известным обстоятельствам, конечно, всего лишь «Maitresse en titre»[137]137
«Главная любовница» (фр.). Примеч. пер.
[Закрыть] и зовут ее Ева Браун. Но живет она под рукой на роскошной вилле в Оберзальцберге, которую получила от селадона, и играет роль если не королевы, то, по крайней мере, «Lady patroness» Третьего рейха, раздает милости и немилости и просит заступничества для всех, кому угрожает концлагерь. Озорной почтмейстер, который недавно без разрешения вторгся в телефонный разговор между ним и ею, был свидетелем его рыданий, можно сказать, на ее белой груди, приняв назначенные ему многочисленные гормональные и витаминные инъекции. Nota bene: в Оберзальцберге есть целый гарем молодых девушек, которые совершенно в стиле Бокельсона и в стиле маленького Давида, который должен был играть на лире для депрессивного Саула, танцуют перед великим Маниту, когда этого владельца меблированных комнат с мюнхенской Барерштрассе, охватывают государственные заботы. Все эти девушки, как и Бокельсон, происходят из прусской аристократии, сводница, которая отбирает их и приводит к Caesar divi augustus, – фрау фон Дирксен, исполняющая, кстати, обязанности секретаря в переименованном теперь Херренклубе. Но что было бы, если бы в ходе неизбежной чистки принадлежащих гарему авгиевых конюшен, которые называются «Германией», мы отправились в ее конечный и первоначальный пункт назначения, а именно в южноамериканские бордели… да, и что было бы, если бы все благородные фамилии, носители которых запятнали свои гербы службой в СС, гестапо, СА, были навечно стерты из реестров? В грядущей революции у Германии есть последняя возможность для настоящего самоочищения, заявляю как консервативный человек. Если она упустит эту возможность, то навсегда останется тем, чем она уже давно является сейчас и в буржуазных слоях (к которым, за редким исключением, я причисляю всю прусскую аристократию): клоакой.
Кстати, чтобы завершить эту мутную главу, необходимо прояснить еще одно очень темное дело в окружении немецкого Перикла[138]138
Правление Перикла (V век до н. э.) «по названию было демократией, а в действительности – правлением одного человека», как отмечал его современник, историк Фукидид.
[Закрыть]. Я имею в виду дело его племянницы[139]139
Грете (Гели) Раубаль (1908–1931) – дочь сводной сестры Гитлера, как говорят, была его большой любовью.
[Закрыть], которая покончила с собой незадолго до Рождества 1930 года в его временной квартире на улице Принцрегентштрассе.
Есть люди, которые утверждают, что у молодой вертихвостки была любовная связь с евреем, и она застрелилась, чтобы искупить свою вину и из страха перед дядей… Но есть и другие, неоднозначные интерпретации. Похоже, что тогда некоторые детали замяли и что во времена Веймарской республики у него были добровольные помощники в полиции и прокуратуре, которые всегда держали наготове всё прикрывающий плащ милосердия для страждущего.
Октябрь 1940
Эту осень я провожу в ежедневных паломничествах к целебным источникам Виллаха у подножия Караванкена на озере Фаакер-Зее, посреди пейзажа, который своим славянским «Je ne sais quoi»[140]140
«Не знаю, что и думать» (фр.). Примеч. пер.
[Закрыть] и осенним унынием в соединении с надвигающейся с юга горной стеной напоминает мне меланхоличное запустение мазурских пограничных районов. Во всем. Анилинового цвета головные платки грудастых крестьянок прожигают дыры в пейзаже то там, то здесь, маленькие гостиницы, в которых сейчас, в военное время, подают салат, заправленный машинным маслом, щетинятся грязью, хотя спокойный Восточный Тироль совсем рядом, на всем и во всем чувствуется отпечаток трогательной бедности и закрытия границ. Даже в Виллахе. Номер в отеле, где я ночую, когда погода вынуждает остаться там, имеет липкую стигму Балкан; в хорошо пошитом костюме ты выделяешься здесь настолько, что практически останавливается трамвай. Большая купальня, в которой прямо из гравия бьет благословенный источник, переполнена господами, чьи локоны венского привратника… те же локоны, которые украшают нашего досточтимого цыгана-премьера… ниспадают на лоб, разговоры, которые вы слышите из соседних раздевалок, только о Балканах: цены на свиней, торговля кукурузой, женщины. Иногда шутка про Гитлера. Но это исключение. На него вообще не обращают внимания в этом приграничном районе.
И только здесь они настигают меня, воспоминания об апокалиптическом лете. О тех первых летних днях, когда, сверкая глазами от алчности и злорадства, бородатые помещики стояли вокруг победных бюллетеней, не подозревая, что окончательный триумф Гитлера изменит мир хороших пенсий и платежеспособной морали до неузнаваемости. У меня снова перед глазами вся нация, опьяненная успехом политических ограблений, ревущие от восторга перед кровожадными кинохрониками зрители, аплодирующие, когда сгорающие в огне люди, словно живые факелы, выпрыгивают из взрывающихся танков. Все вернулось – воняющие пивом братья по игре в таро, раздающие половины континентов за столиком, почтовые служащие, закатывающие глаза в окошечке, если вы не поприветствуете их словами «хайль Гитлер», машинистки, щеголяющие в шелковых платьях, украденных их любовниками во Франции, отдыхающие, хвастающие историями о том, как во Франции они взбили из шампанского мыльную пену для бритья.
Знаменитый энтузиазм 1914 года был детской игрой по сравнению с этим – пожилые жены пасторов прошлых лет, которые угощали скудными бутербродами войска на платформах, следовали вполне понятному страху, который видел ползущее к Германии со всех сторон разрушение, а теперь выражался в неистовстве и ликовании в виде безупречно функционирующей мобилизации и несущихся военных поездов.
То, что происходит на этот раз, другое – злое, вероломно бандитское. В буржуазной Германии 1914 года, которая и не подозревала о легкомысленном ва-банке офицеров службы Генерального штаба и промышленников-спекулянтов, еще оставалось что-то от старой доверчивой порядочности ее буржуазного прошлого… что-то от души, погребенной сегодня под строительным мусором, болотом и кровью, в которую я верю и о воскрешении которой я ежедневно молю Бога. Это нечто другое, и полное отсутствие внутреннего сопереживания, нацеленность на материальный результат и добычу, принесенную домой после чудовищного грабительского набега, – это ведь самый жуткий симптом. Бои в конном строю при Меце в 1870 году обросли легендой уже через несколько дней; Седан, несмотря на Антона фон Вернера[141]141
Антон фон Вернер (1843–1915) – художник и директор Берлинской академии. Предпочитал батальные картины и изображения придворных событий.
[Закрыть] и его изображение сапог, должен был произвести на душу эффект тяжелой драмы, и легенда распространялась еще в 1914 году от озер Танненберга[142]142
Танненберг (Восточная Пруссия) и Бжезины (Польша) стали ареной победоносных сражений немецких войск против русской армии в 1914 году. Героизированы и прославлены в привычной для того времени манере.
[Закрыть] и призрачных туманных ночей Бжезины…
Здесь, где не скакали сверкающие эскадроны кирасиров, а война с обеих сторон в немалой степени велась машинистами в форме, эта сплошная механизация войны, возможно, способствовала и полному оболваниванию слушателей. Стоит нажать кнопку на радиоприемнике, и в вашем распоряжении гигантские обходные маневры сражения, совершенно забываются смелость и готовность к прыжку резервов, слышится только рев громкоговорителей, и, если смерть родственника не связана с каким-то конкретным эпизодом, человек ничего не помнит о войне, только то, что шелк, который Гизль прислала Терес, пришел из Туркуэна, а французский коньяк, который они пьют из кофейников в закусочных, был перевезен тем или иным торговцем. От Ватерлоо, по крайней мере, осталась известная уже сто лет веллингтонская фраза о прусских войсках[143]143
Историческая фраза Веллингтона во время сражения при Ватерлоо: «Я хотел бы, чтобы настала ночь или пришли пруссаки». Примеч. пер.
[Закрыть], от Седана, двадцать пятую годовщину которого я помню мальчиком, – образ несчастного императора, тщетно искавшего смерти на поле боя и подарившего свою шпагу «à son cher cousin»[144]144
Сыну дорогого кузена (фр.). Примеч. пер.
[Закрыть]…
Но что, собственно, осталось от прорыва этого года, ознаменовавшего новую французскую трагедию под Седаном, что осталось от форсирования летней линии? Ничего… Я уверен, что спустя всего три недели из восьмисот человек, заполнивших этот кинотеатр, и трое не смогут соотнести события с этими именами. По моей старой теории, бензин внес гораздо больший вклад в оболванивание человечества, чем порицаемый алкоголь, и я убежден, что для английской или американской публики все это прошло бы так же незаметно. Но обескураживает вид собственного народа в состоянии такого одичания.
События фиксируются как результаты международного футбольного матча по воскресному радио, завтра он уже забыл то, что с ревом приветствовал только что, а приятную привычку побеждать принимает как должное и глубоко погружается в жестокость и одичание, за которыми, кажется, я слышу раскаты страшной грозы. То же происходит и с немцами, как я уже говорил недавно: подвалы, и катакомбы, и подземные темницы, в которых каждая великая нация держит взаперти своих демонов, кошмары и темные желания, опустели. Они вырвались наружу, как ветер из ящика Пандоры. Буря бушует над старой безропотной землей. Германия, опьяненная своими победами, безумна. Всеобщая манера говорить, речь военных корреспондентов, речь в кафе вместе с речью солдат докатилась до сутенерского жаргона, от которого стынет кровь. Газеты гневно осуждают изгнанного кайзера, потому что, согласно легенде, в 1916 году он предотвратил радикальное уничтожение Лондона чудовищной атакой дирижаблей, молоденькие машинистки кричат о крови, пожилые дамы, которые в повседневной жизни все еще сохраняют флюид старой лексики вокруг себя, говоря о вражеских государственных деятелях, используют сленг, от которого мог бы покраснеть хозяин гамбургской пивнушки. Кругом все всё толкают. Продают краденые картины и бронзу с винными складами, которых, возможно, и нет… продают акции, шелковые чулки, заброшенные французские фабрики, краденые машины, суповые кубики, туалетное мыло и презервативы. В Берлине, например, который я посетил на днях, всё толкают… дамы прусской аристократии с машинистками, учениками аптекарей и гимназистами… и надо мной смеются, говорят, что бессовестно ответственному за благополучное будущее семьи сидеть в каком-то Кимгау и не пользоваться прекрасной возможностью. Такова ситуация с Германией в настоящее время. Это правда, что юг, относящийся к победным крикам Пруссии со скепсисом, остался более честным; правда, что крестьянин, привязанный к своим старым непреложным законам жизни и мудрости, пожимает плечами, узнавая о победах, и не присоединяется к «общим настроениям»; правда, что бóльшая часть рабочего класса и почти вся интеллигенция находятся в непримиримой оппозиции. Что это значит? Крупные кукловоды, промышленность и находящийся со времен Людендорфа под их арестом Генеральный штаб крепко держат в своих руках инструмент террора, они обладают монополией на общественное мнение и огромные непроизводительные массы… наемных работников, клерков, бóльшую часть мелких служащих государственной службы одурачили до идиотизма. Остальные, прибившиеся из делового мира и разорившейся аристократии, из новоявленных офицеров и сводников, переплавились в проклятую буржуазию, которая материалистичнее, чем пресловутая Россия, живет только сегодняшним днем и не подозревает о той жуткой игре, которая здесь началась. Одна фраза преследует меня с конца мировой войны… фраза, которую я, руководствуясь совсем не пролетарскими мотивами, встречаю с яростной надеждой. Это фраза из бальзаковского «Сезара Бирото». «Et c’est la bourgeoisie elle-même, qui écoutera chanter sa Noce du Figaro»[145]145
Дословно: «Однажды буржуазия услышит свою „Свадьбу Фигаро“» (фр.), имеется в виду: однажды буржуазия услышит свою собственную лебединую песню.
[Закрыть]. И следует отметить, что позиция Бальзака, как и моя, это позиция консервативного человека и что между этой позицией и национализмом лежит пропасть. Быть консерватором – значит верить в неизменные законы старого мира. Верить в старый мир, который начинает трястись, когда в один прекрасный день хочет освободиться от всяких нечистот.
И вот здесь-то и начинается болезненный разлом, который проходит сегодня сквозь мое сердце… сквозь сердце каждого человека, для которого Германия не тождественна Немецкому банку или Cталелитейному союзу. В попытке заставить даже жалкие остатки немецкой интеллигенции опуститься в эту удобную аморфную массу послушных торговцев овощами они и от меня по «национальным причинам» требуют «соответствия». Такого же обожествления государства и владельца меблированных комнат, который сделался тираном. Такого же поклонения обману, убийству и нарушению контракта, таких же криков, такого же ора на поверженных врагов, которые, как горящие факелы, падают из взрывающихся самолетов.
Да, требуют – и это поистине верх наглости – забыть весь опыт, приобретенный в путешествиях и в общении с представительными людьми окружения, и принять на веру официальные лозунги Министерства пропаганды о большом мире – те мнения, которые приносят домой маскирующиеся сегодня под дипломатов и иностранных журналистов клерки и недоучившиеся учителя народных школ. И я должен принять, несмотря на свои сложные отношения с верой, эти мерзкие, полностью отрицающие Бога слова, по которым только то является законом, что выгодно Германии, а понимая некоторые принципы хода истории и геополитики, я должен еще унизиться до того, чтобы вместе с преступниками и подонками этого народа верить в стабильность государства, чьей Magna Charta которого является нарушение договора и преступление, и фундамент которого, в сущности, состоит из пропаганды? На днях в берлинском кинотеатре я видел кинохронику… жуткую сцену, в которой Гитлер, получив известие о капитуляции Франции перед вагоном в Компьенском лесу, начал танцевать, как индеец, на одной ноге – играющий в мальчишку старый похабник, более недостойный, чем изгнанный кайзер, который сейчас тихо искупает грехи своей юности, когда на потсдамских пирах любви дирижировал гвардейскими оркестрами и в присутствии старого Франца Иосифа шлепал склонившегося над картой маневров болгарского царя Фердинанда по ягодицам. Моя память, однако, возвращает меня к тому холодному мартовскому утру, когда наш батрак вернулся из города с известием о смерти старого кайзера, я знаю, что монархи существуют прежде всего для того, чтобы носить достоинство своих народов, как мантию на плечах. И я знаю, как облагораживает собственную скромную жизнь стремление быть верному господину верным слугой. Мне, воспитанному в духе почитания долга и дисциплины… никогда не было так стыдно за свой народ, завывающий под одобрительные возгласы киношной толпы, как здесь, перед изображением прыгающего фюрера. Я встал и пошел. Поскольку толпа заметила мое внутреннее сопротивление, справа и слева раздалась ядовитая ругань… от меня требовались лишь аплодисменты прыгающему похабнику. Если бы я выразил свои чувства более ясно, меня бы линчевали.
Да, я не забуду тот палящий июльский день в летнем Розенхайме, когда общественные громкоговорители разразились триумфальной речью Гитлера с «последним предложением мира Англии» и на Германию обрушился мягкий ливень новоявленных маршалов. Спертый воздух, наполненный похотливым желанием опьяненной успехом толпы… старые буржуа, грозившие, что «англичан скоро будут собирать с помощью пылесоса», хотя, конечно, они никогда в жизни не видели англичанина в дикой природе… хвастун-отдыхающий под руку с мамзелями из бюро, местный эксперт-стратег, которому нужно «не больше двух недель», чтобы победить Англию…
Я знал, зажатый в безумной толпе, что в этот жаркий вечер уже витает дух страшной Немезиды; посреди тысяч, с пониманием неизбежного ответа англичан «нет», я был в эту минуту более одинок, чем на Северном полюсе. Уверенный в неизбежном исходе, я могу себе представить тот час, когда в первый день английской оккупации какой-нибудь английский подчиненный застрелит меня от нечего делать… могу себе представить, что английская победа могла бы повторить непостижимые политические глупости прежних времен, и я далек от ошибки искать дьяволов с одной стороны и ангелов с другой.
Но я не могу не признать, что этот танец смерти олицетворяет конец европейского психоза, в нем весь немецкий, английский или американский национализм, и что Европа стоит перед выбором: выбросить его за борт или погибнуть самой.
Неужели я должен принять за первобытный инстинкт, появившийся при сотворении мира, то, чего не знали строители соборов периода высокого Средневековья, что существует только с 1789 года и что нацисты, которые в остальном всегда представляют себя великими ликвидаторами Французской революции, почерпнули из пыльных речей Национального конвента?
Я должен принять за сильный человеческий инстинкт, подобно любви и ненависти, то, что под маской героического повсюду проявляется меркантилизмом и буржуазными притязаниями на власть и что сегодня кажется таким же прогорклым и несвежим, как весь «Общественный договор» Руссо… хрупкий и пыльный «Общественный договор», походное знамя жирондизма, которое великий Карлайл назвал «худшим походным знаменем всех времен и народов», – мыслимый только в эпоху всеобщего атеизма и веры только в чувственность и грубую силу? Конечно, «И. Г. Фарбен» могли лишь приветствовать, что Гитлер у власти и что он их ядовитую кухню спрятал под мантию мировоззрения – лихие коммерсанты из Рура прекрасно знали, что делали, когда покупали этого печального гонфалонтьера. Но чтобы эта идеология меркантилизма не разлетелась в пух и прах, я должен чувствовать себя скорее как немецкий мусорщик, а не как французский историк, с которым переписывался десятилетиями… я должен беспрекословно допустить, что национализм, претендующий на роль защитника всех богатств нации, ни с чем не обращается так цинично, так грубо, так по-готтентотски, как с ними?
Или что значит лес Эйхендорфа, когда целлюлозный завод отстаивает «национальные» интересы… что значит немецкий собор, когда он осмеливается встать на пути рейхсавтобана… о, что значит для них всех этот остаток немецкой души, когда для подготовки вооруженного налета весь народ систематически превращали в троглодитов… разрушили его метафизические центры и превратили людей в ту аморфную массу, единственной формой которой является бесформенность? Будьте осторожны, противник торжествует, когда у человека начинается глоссолалия, и именно этот противник, как мне кажется, хочет бороться другим оружием, а не гневом и презрением! Итак, еще раз: если национализм, как утверждают его апологеты, действительно относится к элементарным чертам народа – почему он был открыт только в те поздние времена, к которым следует отнести и Французскую революцию? Как получилось, что его не было в те времена, когда была написана «Песнь о Нибелунгах» – и как же объяснить тот чудовищный факт, что около 1400 года существовала немецкая нация, но не было национализма, тогда как сегодня, когда народ в полном расцвете, нам пришлось бы обратиться к Геббельсу за циничным разъяснением, почему к этому скоплению получателей зарплаты, одичавших фельдфебелей и печатающих полудевиц следует обращаться как к нации? Если национализм – это действительно выражение мощи и силы народа, как получается, что под его эгидой разрушается мораль, вымирают старые обычаи, людей переселяют, верующих высмеивают, размышляющих осуждают, реки отравляют, а леса убивают? Как в период национального процветания происходит беспрецедентная вульгаризация языка, упадок всех человеческих манер… как дошло до плясок вокруг договоров и обещаний, до появления этого сутенерского немецкого, на котором сегодня, боязливо избегая каждого иностранного слова, пишет и говорит вся официальная Германия, от Генерального штаба до «военных репортеров»? Как такое возможно?








