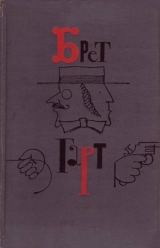
Текст книги "Брет Гарт. Том 1"
Автор книги: Фрэнсис Брет Гарт
Жанр:
Вестерны
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 39 страниц)
ЧУДАК
Право, не знаю, как герой этого жизнеописания сумел завоевать столь прочную привязанность моего семейства. Он вовсе не располагал к себе, этот пес. Он не мог похвастать ни рождением, ни воспитанием. Его родословная была окутана непроницаемой тайной. Быть может, у него и были братья и сестры, но, сколь ни обширен круг моих знакомств среди собачьего рода-племени, больше ни в одной собаке я не встречал странностей, поражавших в Чудаке. Туловище у него было длинное-предлинное, задние лапы так далеко отстояли от передних, словно Природа собиралась поместить между ними еще одну пару ног, а потом – весьма неразумно – позволила отговорить себя от этого намерения. Особенность эта очень докучала нам в холодные вечера: чтобы впустить Чудака в дом, приходилось так долго держать дверь открытой, что успели бы войти две или даже три собаки обыкновенной длины. Лапы у него были кривые, вывернутые наружу, и в часы отдыха его излюбленная поза напоминала первую позицию танцора. Прибавьте к этому блестящие глаза, уши, словно взятые взаймы у какой-то другой собаки, востренький носик, влезавший не хуже отмычки в любую щель, – и вот перед вами Чудак во всей его красе.
Я склонен думать, что общую любовь он завоевал прежде всего своим спокойным бесстыдством. Явился он в наш дом точь-в-точь как старый член семьи, который после недолгой отлучки возвращается к родному очагу и давним милым привычкам. Если верить учению пифагорийцев о переселении душ, возможно, так оно и было, но я не припомню, чтобы кто-либо из моих покойных родственников при жизни любил зарывать кости в землю (хотя после смерти это, пожалуй, и может служить развлечением), а у Чудака это была настоящая страсть. Впервые мы обнаружили его в одной из комнат наверху – он свернулся клубком на ковре и, в отличие от всех нас, не проявил ни малейшего смущения. С этой минуты он стал признанным членом нашего семейства, преспокойно завладел правами и вольностями, каких не часто добивались куда более умные и достойные его сородичи, – и мы покорно на все это согласились. Так, если оказывалось, что он уютно расположился в бельевой корзине или вдруг сама собою приходила в движение какая-нибудь принадлежность туалета, мы только говорили: «А, это Чудак!» – и вздыхали с облегчением: хорошо, что не что-нибудь похуже.
Еще два слова о его страсти. Нельзя сказать, чтобы он зарывал кости в землю из бережливости, ибо он неизменно забывал, где именно зарыл свое сокровище, и потом перекапывал без толку весь сад; но хотя фиалкам и маргариткам усердие новоявленного садовника вовсе не шло на пользу, мы и не думали его наказывать. Он сделался для нас неким воплощением Рока: на Чудака можно роптать, можно принимать его с философским спокойствием, но от него не уйдешь. Он не блистал ни умом, ни красотой, но обладал известным благородством чувств. Когда он проделывал единственный свой фокус (он умел служить, стоя на задних лапах, причем поразительно напоминал пингвина), в награду за такой подвиг люди сторонние и несведущие предлагали ему печенье или сухарик, а Чудаку они были вовсе не по вкусу. Но он старательно делал вид, что весьма благодарен и рад, прикидывался даже, что глотает предложенное лакомство, а потом незаметно избавлялся от него, спрятав в какое-нибудь укромное местечко, чаще всего в калоши гостя.
Если тому не препятствовала учтивость, Чудак выказывал свою приязнь или неприязнь честно и открыто. Все его существо восстало против трамвая. Когда по нашей улице прокладывали трамвайную линию, Чудак с вызовом встречал каждый новый рельс, а затем всей мощью своих легких противился каждому вагону. Живо помню, как в первый день он встретил первый пущенный на пробу вагон: он просто разрывался от лая, он гавкал так яростно, что всякий раз сила отдачи отбрасывала его на несколько шагов, и так он пятился по рельсам вдоль всей улицы. Но ведь Чудак – не единственный, кто противился новшествам, а потом дожил до того, что стал свидетелем их процветания или даже упадка… Но я забегаю вперед. Еще раньше он воспротивился, когда проводили газ, но хоть и потратил целый день на перебранку с рабочими (даже забыл зарыть кости, которые так и высохли понапрасну на солнцепеке), газ все-таки провели. Столь же безуспешно восставал он и против водопровода в Спринг Вэли, а когда стали выравнивать соседний участок, между Чудаком и подрядчиком разгорелась ожесточенная и затяжная распря.
Во всех странностях Чудака, несомненно, проявлялся определенный характер и воплощалась некая идея. Мы всем семейством долго это обсуждали и дали ему второе имя: Чудак-консерватор, чтобы хоть в малой мере отдать должное неколебимой силе его духа. Но хотя Чудак был тверд и знал, чего хочет, путь его был усыпан не одними розами. Порою и шипы впивались в его чувствительную душу. Когда кто-нибудь брал на фортепьяно меланхолический аккорд, Чудак воспринимал это весьма болезненно и отзывался протестующим воем. Если за это его удаляли на задний двор и затем вновь оскорбляли его слух музыкой, он вытягивался во всю длину (а это что-нибудь да значит) и издавал такой вой, что в гостиной все равно было слышно. Но к Чудаку мы притерпелись, а музыку все очень любили и потому игру не прекращали.
Однажды рано утром Чудак вышел из дому в отличном настроении с неизменной костью в зубах, видимо, как всегда, намереваясь ее закопать. Назавтра его подобрали на рельсах бездыханного – должно быть, его переехал первый утренний трамвай.
Перевод Н. Галь
МИССИЯ ДОЛОРЕС
Миссии Долорес суждено быть «последним вздохом» старых калифорнийцев. Когда последний испанец смиренно уступит дорогу суетливому янки, он – в моем представлении, – как мавританский король, поднимется на гору с высящейся на ней миссией и в последний раз окинет прощальным взглядом холмистый городок. Он еще долго будет цепко держаться за Пасифик-стрит. И долго еще будет закапываться в каменную грудь Телеграфной горы, пока современная техника не снесет ее до основания. И будет наведываться в трущобы Валехо-стрит, столь ярко свидетельствующие о вымирании народа; но рано или поздно ему придется дать дорогу Прогрессу, и миссия будет последним достоянием, которое выскользнет из его бессильных рук.
В тот ясный денек я смотрел на древнюю часовню, на ее выщербленные стены, так резко контрастирующие с праздничным весенним небом, на ее подагрически скрюченные колонны с отваливающейся, словно рваные бинты, штукатуркой, на ее подслеповатые окна, на разрушающиеся порталы, на белые пятна проказы, проступающие на глинобитных стенах, – и я понял, что жалкой старушке нищенке уже недолго сидеть у дороги, прося Христа ради милостыню. На всей окрестности уже лежит печать обреченности. Гудки локомотивов резко диссонируют с вечерним благовестом. Епископальная церковь в стиле бревенчатой готики с массивными контрфорсами из орегонской сосны кажется издевкой над седой стариной, уже и сейчас вытесняя ее фальшивой подделкой. Увы, перед вторжением города бессильны оказались расположившиеся у стен миссии сельские пристройки, птичники и огороды. И они исчезают. Вместе со смешными глинобитными домишками, крытыми черепицей и похожими на стопки коричных палочек, с двориками, обнесенными изгородями, в которых благоговейно хранится несколько воловьих рогов и обрывков шкур. И я напрасно высматриваю здесь некогда дикого мексиканца, от былого великолепия которого только и остался, что красный кушак под курткой. Недостает мне и черноволосых женщин с отвислыми, дряблыми грудями, одетых в платье, ни фасоном, ни материей не соответствующее сезону, закутанных в шали, являющие безжалостную карикатуру на поэтические испанские мантильи. Всюду проглядывают черты чуждой национальности. У самой часовни выросли железнодорожные мастерские, продымившие всю округу. Гортанный говор вытеснил плавные и шипящие звуки; мне недостает напевных речитативных модуляций в веселых выкриках кучеров дилижансов. «Все на борт!» – кричали они в те добрые старые времена, когда дилижансы ежечасно отправлялись к миссии и такое путешествие было увеселительной прогулкой. У самых ворот храма, на месте тех, «что продавали жертвенных голубок», расположились со своим богомерзким товаром продавцы заводных пауков. Я не вижу сегодня даже старого падре – последнего представителя миссионеров, потомка доброго Хуниперо [42]42
Серра Хуниперо – францисканский монах, один из первых миссионеров в Калифорнии.
[Закрыть]; вместо него некий белокурый кельт читает заповеди из Вульгаты, обильно насыщенные раскатистым «р». Добрый пастырь, помяни в своих молитвах чужеземца и еретика!
Я отворяю маленькую калитку и проникаю на кладбище. Здесь не заметно никаких перемен, хотя могилы, пожалуй, теснятся плотнее. Ива, растущая за низкой темной оградой, в полном расцвете весны просунула сюда свои пушистые ветви; высокая сочная трава над каждым могильным холмом свидетельствует о поразительной жизненной силе породившей ее земли. Здесь уютнее, чем на вершине горы, где не стихает раздор и смута океанских ветров. Миссионерские холмы бережно охраняют маленькое кладбище – скромное и непритязательное. Здесь сильно чувствуется иноземный дух; тут и обязательные гирлянды из иммортелей, навевающие погребальное настроение; и дешевые оловянные медальончики, украшенные тремя слезинками, похожими на знак трефовой масти; несообразность таких украшений окупается немудреной простотой надписей. На детских могилках здесь стоят ангелы-хранители с серьезными и важными лицами, и тут же, сзади, в стеклянных ящичках собраны игрушки малышей; здесь обычное множество ужасающих стихов собственного сочинения прихожан; но один стишок – на могиле моряка – поражает трогательностью высказанной надежды на спасение милостью «Лорда Верховного адмирала Христа». Над могилами иноземцев надписей значительно меньше, но зато в них заметна, я бы сказал, большая чувствительность и проникновенность. Я невольно думаю, что слишком многие из моих соотечественников пытаются воспользоваться надгробной надписью, чтобы в этом последнем жесте по отношению к умершему выразить все чувства, в которых они отказывали ему при жизни. Но при виде блеклых иммортелей, украшающих надгробную плиту, я понимаю, что тайна воскресения запечатлена в этих невыразительных символах, и только любовь, которой нас учит его Новый Завет, увековечена в письменах. Впрочем, «все это куда лучше умеют делать во Франции».
* * *
Пока я бесцельно бродил вокруг миссии, солнце мало-помалу спускалось по бурой стене церкви, и стало холодно и сыро. Яркая зелень травы поблекла, и от стены протянулись бронзовые отсветы. Ивы склонились долу, словно сбрасывая свой пушистый наряд, и смотрят унылым олицетворением разбитой веры и обманутых надежд. Запах иммортелей смешивается с запахом ладана, струящимся из открытых окон. А в самой часовне варварская позолота и пурпур в безжалостном свете сумерек выглядят холодно и безвкусно. Сейчас часовня и впрямь кажется ветхой и безобразной. И мнится мне, что если души предков вздумают посетить тот уголок земли, где они когда-то жили и трудились, вряд ли будут они с высот иного мира сетовать о неотвратимых переменах и оплакивать день, когда миссия Долорес окончит свое существование.
Перевод М. Баранович
ДОМА, В КОТОРЫХ Я ЖИЛ
IОднажды мы выбрали квартиру только потому, что там был балкон-фонарь, искупавший в наших глазах все недостатки и неудобства этого жилища. Когда дымили трубы; когда усыхали или набухали двери, так что их никакими силами нельзя было открыть, или когда, наоборот, они сами, словно по волшебству, распахивались; когда в дождливую погоду на потолке появлялись подозрительные пятна, – во всех этих неприятностях нам служил утешением балкон-фонарь. Вид из него был действительно великолепный. Беспокойная, вечно меняющаяся водная гладь расстилалась перед нами, блестя на солнце, темнея в тени скал или разбиваясь игрушечными волнами на крошечном берегу внизу, а вдали четко вырисовывались Алкатрац, Лайм-Пойнт, Форт-Пойнт и Сауселито.
Хотя поначалу балкон-фонарь был отведен мне в неприкосновенную собственность и я расположился в нем со своей работой, мало-помалу, следуя некоему закону природы, он превратился в место отдыха для всей семьи. В один прекрасный день туда были водворены кресло-качалка и корзинка с рукоделием. Затем на балкон вторгся наш малыш и забаррикадировался мотками цветных ниток и размотавшейся шерстью так, что только дружной атакой всего семейства его удалось извлечь из засады и, плачущего, взять в плен. Всякий вступавший на балкон начинал испытывать действие его волшебных чар. О серьезной работе нечего было и думать. Подплывавший пароход, блики на воде, окутавшее вершину горы облако неизменно отвлекали внимание. Читали вы или писали, за стеклами фонаря всегда оказывалось что-нибудь интересное. Зрелища, открывавшиеся с балкона, были, к несчастью, не всегда приятными, но независимо от этого обрамление широкого окна сообщало всему одинаковую значительность и живописность.
Окружавший ландшафт нельзя было назвать сельским, хотя по соседству с нами жилых домов почти не было. Кирпич и цемент не успели окончательно завладеть землей, где, судя по всему, еще совсем недавно зеленели дубравы. С одной стороны горизонт загораживал вытрезвительный дом – сам по себе довольно мрачный и служащий по-своему красноречивым назиданием как последнее пристанище на некоем пути. Восторженные члены моего семейства, откровенно рассчитывавшие увидеть там в окнах шумных обитателей в разных стадиях опьянения, запечатленных покойным У. Е. Бертоном, были крайне разочарованы. Упомянутое заведение не обнаруживало своих тайн. Местная больница, также видневшаяся с нашего балкона, являла собой куда более оживленное зрелище. В определенные часы дня мы видели, как выздоравливающие выходили на прогулку. Картина эта была особенно удручающей из-за полного отсутствия какого бы то ни было общения между ними. Каждый был окутан непроницаемой атмосферой собственных страданий. Они ходили порознь и никогда не разговаривали. Мне случалось наблюдать из окна, как несколько больных, прислонившись к стене, грелись на солнышке меньше чем в полуметре друг от друга и совершенно не замечали друг друга. Если бы они по крайней мере ссорились или дрались, – все было бы лучше, чем эта чудовищная апатия.
Переулок, на который выходил фонарь, радушно манил людей с большой оживленной улицы, но сам внезапно приводил доверчивого пешехода к крутому обрыву. По воскресеньям, когда главная улица была запружена толпами, устремлявшимися к северу, на побережье, мы с нашего балкона могли развлекаться, наблюдая злополучных пешеходов, соблазнившихся переулком в надежде сократить путь. Забавно, как все они, без исключения, дойдя до обрыва, взглядывали вверх на балкон и, прежде чем с невозмутимым видом повернуть обратно, принимались беспечно насвистывать, делая вид, что они нисколько не озадачены. Один решительный молодой человек, завлеченный предательским взглядом прелестных глаз в окне напротив, предпочел спуститься по крутому откосу, рискуя свернуть себе шею и нанести непоправимый ущерб воскресному костюму, нежели вернуться вспять.
Собаки, козы и лошади представляли фауну нашей округи. Живя почти в природных условиях и пользуясь полной свободой, они тем не менее сохранили нежную привязанность к человеку и его жилищу. Разгоряченные скакуны устраивали импровизированные скачки на тротуарах и превращали улицу в миниатюрное Корсо; собаки затевали во дворах свары, а спустившаяся с холма позади нашего дома коза мирно щипала герань моей жены, росшую в горшках на окне бельэтажа.
– Какой сильный град был сегодня ночью! – заметил наш новый сосед, только что переехавший в дом рядом с нами. Он был в таком восторге от вида и находил столько гигиенических преимуществ в этой местности, что мне было жаль его разочаровывать. Поэтому я ничего не сказал ему о том, что это были просто козы, которые, карабкаясь на холм, используют его дом в качестве трамплина.
Климат у нас был поразительно здоровый. Люди, свалившиеся с дамбы, замечали, что их раны мгновенно заживают на свежем морском бризе. Вентиляция не оставляла желать лучшего. Вы открывали окно фонаря, и целительный сквозняк молниеносно уносил скопившуюся за ночь духоту вместе с занавесками, дверными петлями и оконными ставнями. Благодаря этой особенности несколько моих рассказов сделались достоянием всей округи и получили такое широкое распространение, какого в другом месте я не смог бы добиться за целые годы. Те же целительные ветры повинны, конечно, и в том, что некоторые предметы туалета, развешанные на веревке у нас во дворе, каким-то таинственным образом попадали к одному бедному, но честному соседу. Однако, несмотря на все эти преимущества, через несколько месяцев я решил переехать. О том, насколько это было удачно, я расскажу в следующей главе.
II«Дом с прекрасным садом и пышной растительностью в фешенебельном квартале», – насколько я помню, примерно в таких выражениях было составлено объявление, на котором однажды я остановил свой выбор. Нужно добавить, что это случилось в ту пору, когда у меня еще было мало опыта в подобных делах и я с полным доверием относился к объявлениям. Со временем я узнал, что правдивейшие люди, описывая свою собственность, выказывают склонность к преувеличениям, словно самим выбором предмета уже подразумевается, что их слова не вполне соответствуют истине. Но это я постиг много позже, когда, явившись по одному весьма заманчивому объявлению, я очутился в том самом доме, который я тогда занимал и откуда тысячи всевозможных неудобств побуждали меня съехать.
В вышеупомянутом «прекрасном саду» весьма небольших размеров было разбито несколько цветочных клумб необыкновенно причудливой формы. Меня сразу же поразило их удивительное сходство с бараньими котлетами, подаваемыми обычно к столу в отелях и ресторанах. Сходство еще усиливалось большим количеством петрушки, произраставшей на клумбах. Одна грядка в особенности заставила меня вспомнить, и не без удовольствия, о пироге, известном в моем детстве под названием «боливар». Владелец дома, обладавший, по-видимому, довольно оригинальными эстетическими представлениями, огородил одну из клумб разноцветными морскими раковинами; в дождливую погоду клумба напоминала аквариум и, что особенно приятно, позволяла вести наблюдения в области ботаники и конхиологии одновременно. Тогда мне пришло в голову, что дельфиниум, росший тут в неимоверном количестве, обязан своим внедрением в нашем саду той же самой идее объединения двух наук. Тем не менее было весьма приятно прогуливаться после обеда по усыпанным гравием дорожкам (спотыкаясь иной раз на валуны, вызывавшие в памяти высохшее русло довольно извилистого горного потока), то куря сигару, то вдыхая крепкий запах укропа, а то порой останавливаясь, чтобы сорвать цветок мальвы, в изобилии украшавшей наш сад. Плодовитость этого растения приводила нас в ужас: сначала в порыве садоводческого энтузиазма жена посеяла самые разнообразные цветы, но, кроме мальвы, решительно ничего не взошло, и хотя я, движимый тем же похвальным рвением и обзаведясь «Сельским садоводством Даунинга» и всякими садовыми инструментами, проработал несколько часов в саду, усилия мои оказались столь же бесплодными.
«Пышная растительность» состояла из нескольких низкорослых деревцов. Одна очень молодая плакучая ива была такой слабой и хилой и так честно заслуживала свое название, что ее пришлось подвязать к стене дома – иначе она просто легла бы на землю. Присутствием сей лакримозы, быть может, и объяснялась сырость в этой части дома. Добавьте к этому несколько на редкость несимпатичных деревьев, известных, кажется, под названием мальва древовидная, усеянных какими-то невзрачными цветочками, которые вечно осыпались, да два или три карликовых дуба довольно зловещего вида, с шероховатыми листьями – и вы получите представление о том, что наша горничная-ирландка не без основания именовала «пылесадник».
Фешенебельность нашей округи несколько страдала от близкого и малоблаготворного соседства с Подворьем Мак-Джинниса. Это был какой-то мрачный закоулок, где обитали люди, стоявшие, очевидно, на примитивной ступени развития, не порабощенные цивилизацией и проводившие большую часть времени, сидя на пороге своих домов. Многое из того, что, в согласии с укоренившимся предрассудком, все другие люди делают, совершая свой туалет в одиночку, производилось здесь открыто, без страха и упрека, на виду у всех. В начале каждой недели двор заволакивало густым мыльным паром, поднимавшимся из многочисленных корыт. Через день-два после этого двор превращался в выставку всевозможного разноцветного белья, развевающегося на веревках, подобно гирляндам флажков на мачте корабля, и хлопающего на ветру, как беспорядочные ружейные выстрелы. Было совершенно очевидно, что двор оказывал дурное влияние на всю округу. Один оптимистически настроенный землевладелец выстроил на углу нашей улицы очаровательный домик, в котором и поселился; и хотя он часто появлялся на балконе в ярком малиновом халате, придававшем ему сходство с тропической птицей в роскошном оперении, подражателей у него так и не нашлось, соседи халатами не обзавелись, и он только заслужил оскорбительные прозвища от мальчишек. Кончилось тем, что он съехал. И, проходя как-то мимо его дома, я заметил прибитое к коринфской колонне у подъезда и резко бросающееся в глаза объявление: «Сдаются комнаты с пансионом». Подворье Мак-Джинниса торжествовало победу. Между его обитателями и прислугой особняка тут же завязались сношения, и некоторые юнцы, живущие в пансионе, стали обмениваться игривыми и не слишком утонченными шуточками с молодыми девицами Подворья. Мы поняли, что на фешенебельность приходится махнуть рукой.
Однако время от времени у нас выдавались минуты ничем не омраченного счастья. Когда сумерки смягчали корявые очертания дубов и превращали кусты в темные бесформенные массы, было необыкновенно романтично сидеть у окна и вдыхать поднимавшийся из сада слабый и грустный запах укропа. Быть может, это дешевое удовольствие в значительной степени увеличивалось еще и оттого, что скромное растение неизменно вызывало в моей памяти одну картину, краски которой давно поблекли от времени. Нередко я сидел так по вечерам, закрыв глаза, пока передо мной не всплывали очертания класса и парт в сельской школе, и я слышал запах укропа, тайком припрятанного в парте, и снова в безмолвном восторге созерцал прелестное создание с круглыми красными щечками и длинными черными косами, чей взгляд не раз заставлял пылать мои щеки, подпираемые воротничком невиданных размеров, какие я в ту пору моего детства с гордостью носил. Я нарочно рассказываю об этом маленьком преимуществе, не упомянутом в объявлении и не включенном в квартирную плату, дабы читатель не упрекнул меня в пристрастном желании все видеть в дурном свете. Пусть биржевой маклер, ныне занимающий этот дом и производящий впечатление человека, которого с пеленок звали не иначе, как «мистер», тоже им воспользуется и вспомнит, что и он был когда-то мальчиком!








