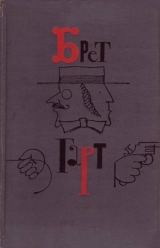
Текст книги "Брет Гарт. Том 1"
Автор книги: Фрэнсис Брет Гарт
Жанр:
Вестерны
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 39 страниц)
Фотография была плохонькая, но – боже мой! – даже изощренная лесть самого высокого искусства не могла бы приукрасить угловатость фигуры этой девушки, ее вульгарное самодовольство, дешевый наряд, лишенные мысли, грубоватые черты лица. Йорк не стал разглядывать карточку. Он взялся за письмо, думая найти утешение хотя бы в нем.
Письмо пестрело ошибками, знаки препинания в нем отсутствовали, почерк был неразборчивый, тон раздражительный, эгоистичный. Боюсь, что даже несчастья той, кто его писала, не отличались оригинальностью. Это была неприкрашенная повесть о нищете, сомнениях, мелких уловках, сделках с совестью, убогих горестях, еще более убогих желаниях, о несчастье, которое унижает человека, о печали, которая вызывает к себе только жалость. Но тем не менее сквозившая в письме потребность в близости этого недостойного человека, которому оно было адресовано, и привязанность к нему казались искренними, хотя в основе всего этого лежал скорее инстинкт, чем осознанное чувство.
Йорк бережно сложил письмо, сунул его старику под подушку и снова сел к очагу. Улыбка, от которой резче проступили складки в уголках его рта, прикрытого усами, постепенно перебралась в ясные карие глаза и там потухла. Но в глазах она задержалась дольше всего и, – хоть это и покажется странным тому, кто мало знает Йорка, – оставила после себя слезу.
Он долго сидел у очага, сгорбившись, опустив голову на руки. Ветер, воевавший с парусиновой крышей, вдруг приподнял ее с одного конца. Полоска света, скользнув в комнату, сверкающим лезвием легла на плечо Йорка. И возведенный в рыцарское достоинство этим прикосновением, скромный, честный Генри Йорк встал с места, встал бодрый, воодушевленный высокой целью и уверенный в своих силах.
Наконец пришли дожди. Склоны гор явно начинали зеленеть, а уходившая вдаль белая дорога на Уингдэм, насколько хватал глаз, терялась среди луж и озер. Русла пересохших ручьев, протянувшиеся по равнине, точно белые кости какого-то допотопного ящера, снова наполнились водой; вода зажурчала по долине, принося с собой радость старателям и порождая вполне простительные преувеличения на страницах монте-флетского «Стража».
«Впервые в истории нашего округа мы добились такой крупной выработки. Наш почтенный собрат по перу из «Хилсайдского маяка», иронизирующий по поводу того факта (?), что достойнейшие граждане Монте-Флета покидают затопленный поселок в «утлых челнах», будет рад услышать следующую новость: уважаемый всеми нами наш согражданин мистер Генри Йорк, уехавший сейчас на Восток навестить родных, вывез на таком вот «утлом челне» скромную сумму в пятьдесят тысяч долларов, полученную за золото, намытое им в течение одной недели. Мы склонны думать, – продолжала эта жизнерадостная газета, – что у Хилсайда нет оснований опасаться подобных «бедствий» в наступающем сезоне, просто «Маяк» ратует за постройку железной дороги».
Некоторые газеты ударились в поэзию. Телеграфист из Симсона передал в сакраментскую «Вселенную» следующую телеграмму: «Весь день с утра и до поздней ночи отягощенные облака изливали на землю свою влагу». Одна газета в Сан-Франциско разразилась стихами, подав их в виде передовой статьи: «Ликуйте! Легкий дождь шумит и скачет по холмам, и в каждой капле дождевой он радость шлет лугам. Ликуйте!» – и так далее.
И в самом деле, дождь принес радость всем, только не Планкету. Каким-то совершенно непонятным таинственным образом дождь помешал усовершенствованию нового метода обогащения руды и отдалил рождение этого новшества еще на целый год. Неудача снова привела Планкета на его обычное место в салуне, где он и проводил время, повествуя равнодушной аудитории о Востоке и о своей семье.
Планкету не мешали говорить. Ходили слухи, что неизвестное лицо или лица внесли хозяину салуна некоторую сумму денег на удовлетворение скромных потребностей старика. К его чудачеству – так снисходительно истолковывали в Монте-Флете одержимость этого человека – относились настолько терпимо, что даже принимали его приглашение отобедать с ним в семейном кругу в первый день рождества, а такого приглашения удостаивался каждый, с кем ему приходилось выпивать или беседовать. Но в один прекрасный день он удивил всех, вбежав в салун с письмом в руках. Там было написано следующее:
«Готовьтесь принять семью в первый день рождества в новом коттедже на Хэвитри-Хилле. Приглашайте гостей.
Генри Йорк».
Письмо молча передавали из рук в руки. Старик обводил всех взглядом, в котором сквозили то надежды, то страх. Врач многозначительно поднял брови.
– Явное надувательство, – тихо сказал он. – Чего другого, а хитрости у таких хватает. Они на это мастера. Только довести свой замысел до конца он не сможет. Смотрите, что сейчас будет.
– Слушай старик, – сказал он громко и внушительно. – Это же обман, надувательство! Ну-ка, признавайся, да гляди мне прямо в глаза. Провести нас вздумал?
Планкет с минуту смотрел на него в упор и наконец потупился. Потом сказал, улыбнувшись бессильной улыбкой:
– Где мне с вами тягаться, друзья! Доктор верно говорит. Игра проиграна. Можете теперь со старика подковы содрать. – Пошатываясь, дрожа всем телом, слабо посмеиваясь, он занял свое обычное место у стойки и погрузился в молчание. Но уже на следующий день все было забыто, и снова началась болтовня о предстоящем празднестве.
Пробежали дни, недели, наступил первый день рождества – яркий, солнечный, согретый южным ветром, веселящий сердце пробивающейся повсюду молодой травкой. И в этот день в салуне вдруг поднялась суматоха. Эбнер Дин подбежал к дремавшему на стуле Планкету и принялся тормошить его.
– Старик, проснись! Йорк приехал, жена с дочерью дожидаются тебя в коттедже на Хэвитри-Хилле! Пойдем, старик! Ну-ка, друзья, поможем ему! – И несколько пар сильных рук с готовностью подняли старика, торжественно пронесли его сначала по улице, потом вверх по крутому склону горы и опустили, вырывающегося, оторопелого, у порога маленького коттеджа. В ту же самую минуту навстречу ему кинулись две женщины, но Генри Йорк остановил их.
Старик еле стоял на ногах. Дрожа всем телом, он сделал над собой мучительное усилие и выпрямился во весь рост. Взгляд его застыл, щеки посерели, голос прозвучал глухо:
– Все это обман, ложь! Они не родные мне, они чужие! Это не моя жена, не моя дочь. Моя дочь – красавица! Слышите вы? Красавица! Она в Нью-Йорке, у матери, я привезу ее сюда. Я говорил, что поеду домой, и я ездил домой – слышите? Я ездил домой! Стыдно издеваться над стариком! Пустите меня! Уберите отсюда этих женщин. Пустите меня. Я поеду домой… домой!
Он судорожно взмахнул руками, рванулся в сторону, упал боком на ступеньки и скатился наземь. Его кинулись поднимать, но помощь опоздала: старик Планкет отправился домой.
Перевод Н. Волжиной
СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ МИСТЕРА ДЖОНА ОКХЕРСТА
Он всегда считал, что в это дело вмешалась сама судьба. И правда, ничто так не противоречило его образу жизни, как прогулка в тот летний день по городской площади в семь часов утра. В это время года, да, пожалуй, и не только в это, в Сакраменто редко когда можно было увидеть его бледное лицо раньше двух часов дня. Потому-то, разбирая впоследствии этот случай в свете многих сюрпризов, которые преподносила ему жизнь, он со свойственной его профессии склонностью пофилософствовать и решил, что в это дело вмешалась судьба.
Все же я, как беспристрастный повествователь, считаю своим долгом сказать, что появление мистера Окхерста в том месте, о котором идет речь, объяснялось весьма просто. Ровно в половине седьмого, когда в банке было уже двадцать тысяч долларов, мистер Окхерст встал из-за игорного стола, уступив место надежному помощнику, и скромно удалился, не привлекая к себе взглядов молчаливых, сосредоточенных игроков, склонившихся над столом. Но, войдя в свою роскошную спальню на другом конце коридора, он несколько удивился, увидев, что солнце льется в незакрытое по недосмотру окно. Редкостная прелесть утра, а может быть, новизна какой-то мысли поразила его, и он не стал опускать оконную штору, а, взяв со стола шляпу и спустившись по отдельной лестнице, которая вела прямо к нему в номер, вышел на улицу.
Люди, ходившие по городу в этот ранний час, принадлежали к тому классу, которого мистер Окхерст совершенно не знал. Это были молочники и торговцы, разносившие свой товар, мелкие лавочники, открывавшие свои лавки, горничные, подметавшие ступеньки подъездов; изредка попадались и дети. Мистер Окхерст разглядывал их с любопытством, хоть и холодным, но лишенным той брезгливости, с которой он обычно посматривал на более привилегированных представителей рода человеческого из круга его знакомых. Я даже склонен думать, что ему вовсе не были неприятны восхищенные взгляды, которыми скромные женщины провожали его красивое лицо и фигуру, приметные даже в этой стране, где красивые мужчины не редкость. Этот прожженный авантюрист, гордившийся своим обособленным положением в обществе, вероятно, ответил бы ледяным равнодушием на внимание какой-нибудь изящной дамы, но восхищенный взгляд увязавшейся за ним одетой в лохмотья девчушки вызвал слабый румянец на его матово-бледном лице. В конце концов он отделался от нее, дав ей, однако, возможность убедиться в том, в чем рано или поздно убеждались многие из любвеобильных и проницательных представительниц женского пола, а именно: что мистер Окхерст – человек щедрый. Девочка заметила также то, чего, вероятно, до сих пор не замечала ни одна женщина: темные глаза этого прекрасного джентльмена на самом деле были серые со светло-карей искоркой.
Внимание мистера Окхерста привлек маленький садик перед белым коттеджем, стоявшим в переулке. В садике росли розы, гелиотроп и вербена – цветы, которые ему часто приходилось видеть собранными в букеты – форму весьма разорительную, хоть и более портативную. Но какой букет мог идти в сравнение с этой прелестью! Может быть, причиной тому была свежая роса, покрывавшая цветы, может, мистеру Окхерсту они нравились именно несорванными, кто знает! Во всяком случае, он оценил их не как будущее подношение очаровательной и высокоталантливой мисс Этелинде, выступавшей в варьете, по ее словам, исключительно ради мистера Окхерста; не как douceur [22]22
Знак нежного внимания (франц.).
[Закрыть]мисс Монморесси, с которой ему предстояло ужинать в тот вечер, – он восхищался ими совершенно бескорыстно, и, может быть, эти цветы были для него просто цветами. Полюбовавшись садиком, мистер Окхерст зашагал дальше, на площадь, увидел под тополем скамейку и, смахнув с нее пыль носовым платком, сел.
Утро было чудесное, и, прислушиваясь к шелесту листвы, к легкому шороху ветвей, можно было подумать, будто деревья возвращаются к жизни, со вздохом расправляя свои онемевшие члены. Сьерра, совсем однотонная на фоне неба, вздымалась в такой дали отсюда, в такой дали, что даже солнце, отчаявшись добраться до нее, с безрассудной расточительностью заливало светом окрестность, заставляя все кругом по контрасту переливаться и сверкать белизной в его лучах. В совершенно несвойственном ему порыве мистер Окхерст снял шляпу и, откинувшись на спинку скамьи, поднял лицо к небу. Стайка птиц, весьма критически посматривавших на него с ветвей над самой скамейкой, принялась горячо обсуждать возможность каких-либо недобрых намерений у этого человека. Видя, что он сидит тихо, двое-трое смельчаков стали прыгать у самых его ног, пока их не спугнул скрип колес, катившихся по усыпанной гравием дорожке.
Повернув голову в ту сторону, мистер Окхерст увидел человека, который медленно приближался к нему, толкая перед собой весьма странного вида экипаж с полулежащей в нем женщиной. Сам не зная почему, мистер Окхерст сейчас же подумал, что коляска эта – изобретение и собственноручная работа того, кто ее вез; на эту мысль его натолкнула отчасти необычность экипажа, отчасти сила и ловкость лежавшей на его спинке рабочей руки, а может быть, гордость и самодовольство, которое чувствовалось в том, как этот человек управлял своим изделием.
Потом мистер Окхерст увидел еще кое-что – лицо мужчины было ему знакомо. Безошибочная память на лица тех, кто представал перед ним на поле его деятельности, сразу же подсказала: «Фриско, салун «Полька». Проиграл недельный заработок. Кажется, долларов семьдесят; ставил на красное. Больше не появлялся». Однако спокойный взгляд и бесстрастное лицо мистера Окхерста не выдали этих мыслей, когда он посмотрел на незнакомца, а тот, напротив, вспыхнул, смутился и, невольно замедлив шаги, остановил коляску с ее очаровательной пассажиркой около Окхерста.
Учитывая ту роль, которую эта дама займет в моем правдивом повествовании, вряд ли будет справедливо давать ее портрет сейчас, если даже допустить, что такая задача мне под силу. В обществе высказывали на этот счет довольно противоречивые мнения. Покойный полковник Старботтл, из богатого опыта которого в отношениях с прекрасным полом я и раньше черпал много полезных сведений, к сожалению, умалял ее очарование: «Калека, желтая, что твой лимон, а глаза красные, как у кролика. Совсем чахлая. Уж эти мне одухотворенные натуры! Кожа да кости!»
С другой стороны, представительницы ее пола удостаивали эту даму весьма лестных в своей пренебрежительности отзывов. Мисс Селестина Хауард, вторая прима-балерина варьете, в дальнейшем дала ей прозвище, построенное на аллитерации: «горбоносая гадюка». Мадемуазель Бримборьон, со своей стороны, припоминала, что она не раз говорила «мистеру Джеку»: «Эта женщина будет вас погубить».
Но мистер Окхерст, чьи впечатления нам важнее всего, увидел тогда перед собой только бледную, худенькую женщину с глубоко запавшими глазами, долгие страдания, одиночество и девическая застенчивость которой возвышали ее над сопутствовавшим ей человеком. Неиспорченность чувствовалась даже в складках ее свежего платья, в полных вкуса и изящества мелочах туалета, и мистер Окхерст почему-то решил, что фасон этого платья она придумала сама и сама сшила его, подобно тому как и коляска эта была, очевидно, работы сопровождавшего ее человека. Рука женщины, пожалуй, чересчур худая, но изящная, узкая в кисти и с тонкими пальцами, лежала на бортике коляски рядом с сильной рабочей рукой ее спутника.
Коляска наткнулась на какое-то препятствие, и мистер Окхерст встал, чтобы помочь. Пока они приподнимали колесо над обочиной тротуара, женщине пришлось опереться о его плечо, и на мгновение ее тонкая рука задержалась там, легкая и прохладная, как снежинка, и потом – так ему показалось, – как снежинка, растаяла. Наступило молчание, потом завязался разговор, и дама время от времени застенчиво вставляла в него словечко.
Оказалось, что они муж и жена. Что ревматизм лишил ее способности двигаться. Что последние два года она была прикована к постели, пока ее мужу – он мастер по столярному делу – не пришла в голову мысль сделать эту коляску. Он вывозит ее на прогулку каждое утро до работы – это у него единственные свободные часы, и рано утром на них не так… не так смотрят. Они обращались ко многим докторам, и все безуспешно. Им советовали ехать на серные воды, а это очень дорого. Мистер Декер – муж – скопил на поездку восемьдесят долларов, но в Сан-Франциско его обокрали, мистер Декер такой беспечный! (Догадливому читателю, конечно, не нужно разъяснять, что все это рассказывает дама.) Больше им уже не удавалось скопить такую сумму, и они оставили мысль о поездке. Как это ужасно, когда у вас крадут деньги! Ведь правда?
Муж стоял багровый, но лицо мистера Окхерста сохраняло спокойствие и невозмутимость; с полной серьезностью подтвердив справедливость ее слов, он пошел рядом с коляской до того садика, который недавно так приглянулся ему. Здесь мистер Окхерст попросил их остановиться и, подойдя к домику, огорошил его владельца предложением неслыханно высокой платы за право нарвать цветов по своему выбору. Вернувшись вскоре с охапкой роз, гелиотропа и вербены, он бросил их на колени больной. Она с детским восторгом нагнулась над цветами, а мистер Окхерст воспользовался этим и отвел мужа в сторону.
– Может быть, – начал он тихо и без тени раздражения в голосе, – может быть, вы хорошо сделали, что солгали ей. Теперь скажите, что вор пойман и вы получили деньги обратно. – Мистер Окхерст незаметно сунул в широкую ладонь растерявшегося мистера Декера четыре золотых монеты по двадцати долларов каждая. – Так и скажите или выдумайте что-нибудь еще, только не говорите правды. Дайте слово, что не скажете!
Слово было дано. Мистер Окхерст спокойно вернулся к маленькой коляске. Больная все еще с увлечением перебирала цветы, и когда она взглянула на мистера Окхерста, ее блеклые щеки словно переняли у роз их яркие краски, а глаза – росистую свежесть. Но мистер Окхерст приподнял шляпу и, не дав времени поблагодарить себя, удалился.
К величайшему моему сожалению, я должен сказать, что мистер Декер не сдержал слова. В тот же вечер в простоте душевной и в порыве самопожертвования он, как все любящие мужья, возложил на семейный алтарь не только самого себя, но и своего друга и благодетеля. Однако справедливость требует добавить, что мистер Декер с жаром говорил о великодушии мистера Окхерста и, что очень характерно для людей его положения, восторгался загадочной славой игрока и присущим ему умением швырять деньги.
– А теперь, Элси, милочка, скажи, что ты прощаешь меня, – закончил мистер Декер, опускаясь на одно колено рядом с кушеткой, на которой лежала жена. – Ведь я хотел сделать лучше. Ведь только ради тебя, дорогая, я рискнул тогда во Фриско всеми деньгами. Рассчитывал на большой выигрыш, думал, что хватит на поездку, да еще останется тебе на новое платье.
Миссис Декер улыбнулась и погладила мужа по руке.
– Прощаю, Джо, милый, – сказала она, все еще улыбаясь и устремив рассеянный взгляд на потолок. – Правда, тебя следовало бы высечь за ложь и за то, что ты заставил меня наговорить таких вещей, скверный мальчишка. Ну, хорошо, довольно об этом. Если ты будешь теперь паинькой и дашь мне эти розы, так и быть, я тебя прощаю.
Она взяла розы, поднесла к лицу и вскоре проговорила:
– Джо!
– Что, милочка?
– Ты думаешь, этот… мистер – как там его, Джек Окхерст, – вернул бы тебе деньги, не наговори я такого вздора?
– Да.
– Если бы он даже не видел меня?
Мистер Декер взглянул на жену. Розы закрывали ей все лицо, оставляя на виду только глаза, в которых поблескивал опасный огонек.
– Нет! Это все ты, Элси, только ради тебя он и решился на такой поступок.
– Ради несчастной калеки?
– Ради очаровательной, прелестной, хорошенькой Элси – моей маленькой женушки! Ну, разве он мог устоять?
Прижимая розы к лицу, миссис Декер другой рукой ласково обняла мужа за шею. Потом принялась бормотать сквозь цветы нечто чрезвычайно глупое: «Милый мой дурашка, Джо. Медвежонок мой косолапый». Но, право, будучи повествователем, строго придерживающимся одних лишь фактов, я не считаю нужным приводить здесь дальнейшие слова этой маленькой женщины и умолкаю из уважения к чувствам моих незамужних читательниц.
Тем не менее, выехав следующим утром на площадь, миссис Декер проявила легкую, но мало объяснимую нервозность и вскоре попросила мужа отвезти ее домой. Она чрезвычайно удивилась, встретив на обратном пути мистера Окхерста, и, не узнав его сразу, даже спросила мужа, правда ли, что это вчерашний незнакомец. Ее обращение с ним представляло разительный контраст с дружеским приветствием, которым встретил его муж.
Мистер Окхерст не преминул заметить это. «Муж все ей рассказал, и она рассердилась на меня», – подумал он, роковым образом упуская из виду половину тех причин, на которых основывается поведение женщин, а эту ошибку совершают даже самые мудрые критики из мужского сословия.
Мистер Окхерст задержался около них только для того, чтобы спросить у мужа, где он работает, а потом с достоинством приподнял шляпу и, не взглянув на даму, удалился. Простодушного мастера изумила очаровательная непоследовательность жены, ибо после столь натянутой и неприятной встречи она вдруг пришла в хорошее расположение духа.
– А ты сурово с ним обошлась. Пожалуй, чересчур сурово, а, Элси? – сказал он укоризненно. – Как бы он не догадался, что я нарушил свое обещание.
– Да?.. Ты думаешь? – равнодушно проговорила Элси.
Мистер Декер обошел коляску и стал лицом к жене.
– Ты сейчас совсем как важная дама, Элси! Будто разъезжаешь по Бродвею в собственном экипаже, – сказал он. – И какая веселая да хорошенькая! Я тебя никогда такой не видел!
Через несколько дней владелец серных источников в Сан-Изабеле получил следующее письмо, написанное хорошо знакомым ему изящным почерком мистера Окхерста:
«Дорогой Стив!
Я обдумал твое предложение купить пай Николса и решил согласиться. Но мне кажется, что затраты оправдают себя только в том случае, если ты позаботишься об удобствах, имея в виду самую чистую публику, то есть моихклиентов. Необходимо расширить главный корпус и построить еще два-три коттеджа. Посылаю тебе строителя, пусть сразу же принимается за работу. С ним едет его больная жена, отнесись к ним так, как если бы это был кто-нибудь из наших.
Возможно, что после скачек я сам к вам приеду посмотреть, как идут дела; но игры в этом сезоне вести не буду. Всегда готовый к услугам
Джон Окхерст».
Критику вызвало только последнее сообщение.
– Я понимаю, – сказал собрат мистера Окхерста по профессии, мистер Гемлин, которому было показано письмо, – я понимаю, почему Джек выкладывает такие деньги на строительство – это дело верное и со временем даст хорошие барыши, если он будет наезжать сюда почаще. Но почему не вести игру в этом сезоне и упускать случай вернуть часть денег, пущенных в оборот, – вот это для меня загадка. Любопытно, – добавил он в глубоком раздумье, – что там у него на уме?
Последний сезон был весьма удачным для мистера Окхерста и, следовательно, весьма разорительным для нескольких членов законодательных органов, судей, полковников и некоторых других лиц, имеющих удовольствие, правда, быстротечное, пользоваться по ночам обществом мистера Окхерста. Несмотря на это, жизнь в Сакраменто стала для него теперь пресной. За последнее время он пристрастился к ранним прогулкам, и это казалось его друзьям мужского и женского пола настолько необычным и странным, что они сгорали от любопытства. Кое-кто из последних даже посылал за ним соглядатаев, но в результате слежки удалось выяснить лишь то, что мистер Окхерст приходит на площадь, садится ненадолго на одну и ту же скамью и, ни с кем не повидавшись, возвращается обратно. Таким образом, версия о причастности к этому делу женщины отпала сама собой. Несколько суеверных джентльменов одной с ним профессии считали, что мистер Окхерст проделывает все это «на счастье». Кое-кто попрактичнее уверял, будто он обдумывает там картежные комбинации.
После скачек в Мэрисвилле мистер Окхерст уехал в Сан-Франциско; потом вернулся обратно, но через несколько дней его уже видели в Сан-Хосе, Санта-Круце и Окленде. По словам тех, кто встречался с ним в этих местах, мистер Окхерст был чем-то обеспокоен и нервничал вопреки своей обычной флегматичности и выдержке. Полковник Старботтл особенно подчеркивал тот факт, что в клубе в Сан-Франциско Джек отказался метать банк.
– Рука нетвердая, сэр, верьте моему слову, отвыкает от работы, пропади оно пропадом!
Из Сан-Хосе мистер Окхерст выехал по направлению к Орегону на лошадях, в дорогом экипаже, но, добравшись до Стоктона, внезапно свернул в сторону и спустя четыре часа появился уже верхом в каньоне около сан-изабелских горячих серных источников.
Сан-Изабел лежал в очаровательной треугольной долине у подножия трех пологих гор, густо поросших сосняком, путаницей земляничных деревьев и манзанита. Сквозь листву виднелись примостившиеся у горных склонов строения и длинная веранда отеля; там и сям белели маленькие, словно игрушечные, коттеджи. Мистер Окхерст не принадлежал к числу любителей природы, но этот вид вызвал у него то же необычное и приятное ощущение, как и первая утренняя прогулка в Сакраменто. Навстречу ему стали попадаться коляски с нарядно одетыми женщинами, и в холодном калифорнийском пейзаже появилось что-то человечески теплое и яркое. Потом снова открылась вся длинная веранда отеля, блиставшая туалетами разодетых дам. Мистер Окхерст, будучи хорошим наездником калифорнийской выучки, подлетел к отелю галопом, круто осадил коня на расстоянии одного фута от веранды и преспокойно возник из облака пыли, скрывшего его в ту минуту, когда он спешивался.
Какое бы волнение ни испытывал сейчас мистер Окхерст, обычная выдержка помогла ему, лишь только он ступил на веранду. Вооружившись многолетней привычкой, он встретил устремленные на него в упор взгляды с тем же холодным равнодушием, с каким всегда встречал плохо скрываемое презрение мужчин и пугливое восхищение женщин. Только один человек вышел к нему навстречу. Как ни странно, это был Дик Гамильтон, может быть, единственный из всех присутствующих, кто по своему рождению, воспитанию и положению в обществе мог удовлетворить самых придирчивых критиков. К счастью для Окхерста, Гамильтон был также крупным банкиром и вообще личностью весьма влиятельной.
– А вы знаете, с кем вы сейчас говорили? – с испуганным видом спросил его молодой Паркер.
– Да, – вызывающе ответил Гамильтон. – Это человек, которому на прошлой неделе вы проиграли тысячу долларов. Я же встречался с ним только в гостиных.
– Но ведь он, кажется, профессиональный игрок? – осведомилась младшая мисс Смит.
– Совершенно верно, – подтвердил Гамильтон, – но мне бы очень хотелось, милая барышня, чтобы все вели такую честную и открытую игру, как этот наш друг, и так же стойко сносили ее превратности.
К счастью, мистер Окхерст не слышал этого разговора, ибо он уже прогуливался по верхнему залу с видом безразличным, но в то же время настороженным. И вдруг позади него раздались чьи-то легкие шаги, знакомый голос назвал его по имени, и вся кровь прилила ему к сердцу. Мистер Окхерст обернулся – перед ним стояла она.
Но какая перемена! Если несколько страниц назад я не решался описать калеку с глубоко запавшими глазами, жену ремесленника, одетую не по моде, то что же мне делать теперь с изящной, статной и элегантной женщиной, в которую миссис Декер превратилась за эти два месяца? Клянусь честью, она была хороша собой.
Без сомнения, мы с вами, уважаемая сударыня, сразу бы обнаружили, что эти очаровательные ямочки не отвечают требованиям истинной красоты, и для лица, которое хочет казаться простодушно-веселым, обозначены слишком резко; что в еле заметных линиях около вырезанных ноздрей есть что-то жестокое и эгоистичное; что наивно-милый, удивленный взгляд может быть обращен и к тарелке супа и к рассыпающемуся в любезностях соседу за столом; что эти щечки загораются румянцем и бледнеют не из симпатии к вам, а лишь в ответ на ее собственные ощущения. Но ведь мы с вами, уважаемая сударыня, не влюблены в эту женщину, а мистер Окхерст влюблен. Боюсь, что бедняга даже в складках ее парижского туалета узрел ту же неиспорченность, которая сквозила когда-то в простеньком самодельном платье. А потом это восхитительное открытие, что она может ходить, что у нее очаровательные ножки в крохотных туфельках работы французского мастера, с огромными синими бантами, с клеймом на узенькой подошве: Rue такая-то, Paris.
Вспыхнув, он бросился ей навстречу, протянул ей руки. Но она заложила свои за спину, быстро огляделась по сторонам и стала перед мистером Окхерстом, посматривая на него не то лукаво, не то с дерзким восхищением, что совершенно не походило на ее прежнюю сдержанность.
– Я было не хотела подавать вам руку. Вы прошли по веранде и даже не заговорили со мной, а я побежала за вами, как, должно быть, случалось бегать не одной бедняжке.
Мистер Окхерст пробормотал, что она так изменилась!
– Тем более, вы должны были узнать меня. Я изменилась? А кто тому виной, сэр! Вы сотворили меня заново. Вы встретили беспомощную, больную, нищую калеку, у которой было одно-единственное платье, ею же самой сшитое, и вы дали ей жизнь, здоровье, силы и деньги. Все это дело ваших рук, и вы это знаете, сэр. Как вам нравится ваше собственное творение? – Она прихватила с обеих сторон подол платья и сделала шутливый реверанс. Потом, словно сжалившись над ним, протянула ему обе руки.
Я боюсь, что эти слова покажутся моим прекрасным читательницам бесстыдными и неженственными, но мистеру Окхерсту они понравились. И не потому, что он привык к откровенному восхищению женщин; то восхищение шло из-за театральных кулис, а не из монастыря, с которым он всегда мысленно связывал миссис Декер. Выслушав такие слова от пуританки, от недужной праведницы, все еще окруженной ореолом страданий, от женщины, которая держала у себя на туалетном столике библию, три раза на дню посещала церковь и нежно любила своего мужа, – выслушав от нее такие слова, мистер Окхерст признал себя сраженным. Он все еще не выпускал ее рук, а она продолжала:
– Почему вы не приехали раньше? Что вы делали в Мэрисвилле, в Сан-Хосе, в Окленде? Видите, я следила за вами. Я узнала вас, когда вы ехали каньоном. Я прочла ваше письмо к Джозефу и стала ждать вас. Почему же вы мне не написали? Когда-нибудь еще напишете! Добрый вечер, мистер Гамильтон!
Она отняла у него свои руки, дав, однако, Гамильтону время сойти с лестницы и почти поравняться с ними обоими. Он с вежливой сдержанностью приподнял шляпу, дружески кивнул Окхерсту и прошел мимо. Когда Гамильтон удалился, миссис Декер подняла глаза на мистера Окхерста.
– Когда-нибудь я попрошу вас о большом одолжении!
Мистер Окхерст умолял сделать это сейчас же.
– Нет, сначала вы должны узнать меня поближе. А тогда я попрошу вас… убить этого человека.
Она рассмеялась – какой приятный, звенящий смех, какие ямочки на щеках, пожалуй, чуть резкие в уголках рта, какая невинность в этих карих глазках, какой очаровательный румянец, – и мистер Окхерст, смеявшийся редко, готов был тоже рассмеяться.
Словно ягненок предлагал волку совершить набег на соседнюю овчарню.
Как-то вечером, через несколько дней после этого разговора, миссис Декер вышла из круга своих горячих поклонников, извинилась, что покидает общество, и, со смехом отклонив предложение проводить себя, побежала с веранды к маленькому коттеджу по ту сторону дороги – одному из творений ее супруга. Возможно, что от спешки, непривычной для выздоравливающей, дыхание у нее было прерывистое и частое, и когда она входила в свой будуар, то раз или два прижала руку к груди. Она зажгла лампу и вздрогнула, увидев, что муж лежит на кушетке.








