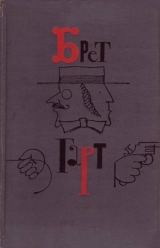
Текст книги "Брет Гарт. Том 1"
Автор книги: Фрэнсис Брет Гарт
Жанр:
Вестерны
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 39 страниц)
– И что же дальше? – спросил Айлингтон.
– Что дальше? Я часто видел ее потом, и когда она бывала одна, то всегда взбиралась ко мне на козлы. Она вроде бы душу отводила со мной, рассказывала, как муж напивается и обижает ее; его-то я мало видел, он все больше во Фриско жил. Но у нас все было чисто, Томми, – все было чисто у нас с ней. Ну вот, я и зачастил к ней туда. Но пришел день, когда я сказал себе: «Не дело это, Билл», – и перевелся на другую линию. Ты знал Джексона Филтри? – спросил он вдруг ни с того ни с сего.
– Нет.
– А, может, слыхал про него?
– Да нет, – повторил Айлингтон нетерпеливо.
– Джексон Филтри водил курьерский дилижанс от Уайта до Саммита с переездом вброд через Северный Рукав. Как-то он и говорит: «Билл, паршивая там переправа через Северный Рукав». А я и говорю: «Должно быть, так и есть, Джексон». «Погубит меня когда-нибудь этот Северный Рукав, попомни мое слово, Билл». А я и спрашиваю: «Почему бы тебе не переезжать ниже по течению?» «Сам не знаю, – говорит он, – не могу, и все». И после, всякий раз, как мы встречались с ним, он повторял: «Видишь, еще не погубил меня этот Северный Рукав». Как-то заглянул я в Сакраменто, и подходит там ко мне Филтри и говорит: «Продал я свой курьерский из-за этого Северного Рукава, но он еще погубит меня, Билл, попомни мое слово». И смеется при этом. А через две недели после того нашли его тело ниже по течению – он пытался перебраться там, возвращаясь из Саммита. Люди говорят, глупости это все, а я говорю: судьба! На другой день, как я перешел на Плейсервиллскую линию, выходит эта женщина из гостиницы, что над конторой дилижансов, и говорит, что муж ее лежит больной в Плейсервилле; так она сказала тогда; но это была судьба, Томми, судьба! Три месяца спустя муж ее принимает не в меру морфия от белой горячки и умирает. Поговаривали, что это ее рук дело, но это судьба. И спустя год я женился на ней. Судьба, Томми, судьба!
Прожили мы с ней три месяца – всего три месяца! – продолжал он, глубоко вздохнув. – Долгий ли это срок для счастливого человека? Бывали и раньше в моей жизни дни, когда круто мне приходилось. Но в эти три месяца такие выпадали дни, Томми, что, казалось, не будет им конца, дни, когда как в орлянку: то ли я ее порешу, то ли она меня прикончит. А теперь хватит об этом. Ты еще молод, Томми, и я не собираюсь рассказывать тебе о вещах, про которые я еще три года назад сказал бы, что все это вранье. А ведь я немало пожил на свете.
Когда он замолчал, повернув угрюмое лицо к окну и сжав на коленях руки, Айлингтон спросил, где же теперь его жена.
– Больше не спрашивай меня ни о чем, мой мальчик, ни о чем не спрашивай. Я сказал все, что мог.
И, сделав такое движение рукой, словно он отбрасывал от себя вожжи, Билл встал и подошел к окну.
– Теперь ты понимаешь, Томми, что небольшая кругосветная поездка мне в самую пору. Не можешь ты со мной ехать – дело твое. А я еду.
– Надеюсь, не раньше, чем вы позавтракаете, – произнес нежный голосок, и в комнату вошла Бланш Мастермен. – Отец никогда не простил бы мне, если бы я так отпустила друга мистера Айлингтона. Вы останетесь, правда? Ну, пожалуйста! И разрешите мне опереться на вашу руку, а когда мистеру Айлингтону наскучит стоять вот так, застыв на месте, он тоже пройдет в столовую и познакомит вас со всеми.
– Я совершенно очарована вашим другом, – сказала мисс Бланш, когда они стояли в гостиной, глядя вслед удаляющейся фигуре Билла, который, зажав в зубах короткую трубку, шагал по обсаженной кустарником аллее. – Но почему он задает такие странные вопросы? Ему непременно нужно было узнать девичью фамилию моей матери.
– Он честный малый, – сказал Айлингтон серьезно.
– Вы чем-то очень подавлены. Боюсь, вы вовсе не благодарны мне за то, что я удержала вас и вашего друга. Но не могли же вы уехать, не дождавшись отца!
Айлингтон улыбнулся ей невеселой улыбкой.
– И потом, я думаю, нам все же лучше расстаться здесь, под этими фресками, не правда ли? До свидания!
Она протянула ему узкую ручку.
– Там, у моря, когда у меня были красные глаза, вам не терпелось взглянуть на меня, – добавила она, вступая на опасный путь.
Айлингтон посмотрел на нее печальным взглядом. Что-то блеснуло на ее длинных ресницах и, задержавшись на миг, скатилось по щеке.
– Бланш!
Теперь на ее щеки вернулся румянец, и она, наверное, отняла бы свою руку, если бы Айлингтон не завладел ею. У Бланш были некоторые основания опасаться, что и талия ее захвачена в плен. И все-таки она не удержалась и сказала:
– А вы уверены, что нет чего-нибудь вроде молодой женщины, что удерживало бы вас здесь?
– Бланш! – воскликнул Айлингтон с укором.
– Если джентльмены выкрикивают свои тайны у двери, открытой на веранду, а на этой самой веранде молодая девушка лежит и читает глупейший французский роман, должны ли они удивляться, что им она уделяет больше внимания, чем своей книге?
– Тогда вы знаете все, Бланш?
– Да, – сказала Бланш. – Постойте: «…чего еще можно ожидать от такого – гм! – дурака, каким ты уродился!» До свидания. – И прелестной невинной змейкой она выскользнула из его рук и скрылась.
Под мягкое шуршание волн, под звуки музыки и оживленных голосов над Грейпортом снова взошла желтая пол луна. Она смотрела на бесформенно громоздящиеся скалы, на обсаженные кустарником аллеи, на просторные лужайки, на пляж и мерцающую водную гладь. Особо она выделила белый парус у берега, стеклянный садовый шар на лужайке и, наконец, сверкнула на чем-то зажатом в зубах человека, который, стараясь слиться с низкой стеной, окружающей Клиффорд-Лодж, перелезал через нее. Потом, когда на залитую лунным светом дорожку вышли из тени густой листвы мужчина и женщина, человек этот соскочил со стены и застыл там, выжидая. Это был старик с обезумевшими глазами, чья дрожащая рука сжимала длинный острый нож, и вид его был не столько безжалостный, сколько жалкий, и внушал он не ужас, а сострадание. В следующую секунду нож был выбит у него из рук, и он уже барахтался, зажатый, как в тисках, в объятиях другого человека, который, очевидно, соскочил со стены вслед за ним.
– Будь ты проклят, Мастермен! – хрипло выкрикнул старик. – Выйди против меня на честный бой, и у меня еще хватит сил тебя убить!
– Но я-то Юба Билл, – сказал Билл спокойно, – и пора кончать это твое окаянство.
Старик бросил свирепый взгляд на Билла.
– Я знаю тебя. Ты один из друзей Мастермена! Будь ты проклят… Пусти меня, я должен вырезать у него сердце… Пусти! Где Мэри?.. Где моя жена?.. Вон она там!.. там… там! Мэри! – Он бы закричал, если бы Билл, проследив за его взглядом, не зажал ему рот могучей рукой. Отчетливо видные в лунном свете, Бланш и Айлингтон стояли рука об руку на садовой дорожке.
– Отдай мне мою жену! – прохрипел старик сквозь зажатый сильной ладонью рот. – Где она?
Бешенство вдруг зажглось во взгляде Юбы Билла.
– Где твоя жена? – повторил он за стариком, надвинувшись на него и прижав его к садовой стене. – Где твоя жена? – снова повторил он, приближая свое искаженное мрачной сардонической гримасой лицо и разъяренные глаза к испуганному лицу старика. – А где жена Джека Эдама? Где моя жена? Где она – эта женщина-дьявол, которая одного человека лишила разума, другого спровадила в ад его же собственной рукой, а меня навсегда сломила и погубила? Где! Где? Ты хочешь знать – где! В тюрьме она, в тюрьме, ты слышишь – брошена в тюрьму за убийство, Джонсон, – за убийство!
У старика перехватило дыхание, он как-то странно вытянулся, а потом вдруг обмяк и как безжизненное тело соскользнул к ногам Билла. Охваченный теперь уже совсем другими чувствами, Билл опустился рядом с ним и, нежно приподняв его за плечи, прошептал:
– Джонсон, посмотри на меня, старина! Ради бога, взгляни на меня, это же я – Юба Билл! А вон там твоя дочь и Томми, ты же помнишь Томми, маленького Томми Айлингтона.
Глаза Джонсона медленно открылись. Он прошептал:
– Томми! Как же, Томми! Сядь ко мне, Томми! Но не садись так близко к воде. Разве ты не видишь, как она поднимается, как она манит меня, как шипит и закипает на скалах? Она подступает все ближе!.. Держи меня, Томми!.. Держи, не отпускай. Мы еще доживем до того дня, когда вырежем ему сердце, Томми, мы еще доживем… мы еще…
Голова его поникла, и стремительная река, видимая только ему одному, вырвалась к нему из темноты и унесла, но уже не в темноту, а сквозь нее к далекому, мирному, сияющему морю.
Перевод Л. Поляковой
ТУОЛУМНСКАЯ РОЗА
ГЛАВА IВремя приближалось к двум часам ночи. В доме Робинсонов, где весь вечер шло веселье и танцы, погасли огни, и луна, поднявшись высоко в небо, посеребрила темные окна. Всадники, еще час назад пугавшие торжественный покой сосен смехом и песнями, ускакали кто куда. Один влюбленный кавалер направил своего коня на восток, другой – на запад, третий – на север, четвертый – на юг, а юная особа – предмет их поклонения, «Роза Туолумны», удалившись в свой будуар в доме на Чемисалском перевале, мирно укладывалась в постель.
Мне жаль, что я лишен возможности описать последовательно весь процесс. На двух креслах уже воздвиглись беспорядочные нагромождения чего-то белого и воздушного, предназначенного служить покровами, сама же юная особа, мгновение назад полускрытая шелковой завесой золотистых волос и слегка напоминавшая кукурузный початок, теперь уже была облачена в одно из тех длинных, бесформенных одеяний, которые уравнивают всех женщин, делая их похожими друг на друга, а ее округлые плечики и тонкая талия, еще час назад производившие столь роковое воздействие на души и умы обитателей Фор-Форкса, сделались недоступными для взора. Оставалось открытым личико – чрезвычайно привлекательное; да внизу из-под края одеяния высовывалась ножка, безукоризненная по форме, хотя и не отличавшаяся миниатюрностью.
– Там, где я ступаю, цветы уже не поднимут головок, чтобы поглядеть мне вслед, – с восхитительной прямотой сказала она как-то одному из своих поклонников.
В этот вечер личико «Розы» выражало полное довольство и безмятежность. Она не спеша приблизилась к окну и, раздвинув шторы на самую-пресамую малость, заглянула в эту крохотную щелку. Неподвижная фигура всадника все еще маячила на дороге с тем чрезмерным упорством преклонения, вытерпеть которое может только заядлая кокетка или без памяти влюбленная женщина. «Роза» в эту минуту не принадлежала ни к той, ни к другой категории, и, постояв у окна не больше чем положено, она отвернулась, пробормотав довольно отчетливо, что это прежде всего нестерпимо смешно, и вернулась к своему туалетному столику, причем внимательный наблюдатель мог бы заметить, что ступает она уверенно и твердо, без изнеженных ужимок и не прихрамывая, как те, кто не привык разгуливать босиком. Да ведь и в самом деле всего лишь четыре года минуло с тех пор, как голенастая, словно жеребенок, босоногая девчонка в бесформенном ситцевом платьишке выпрыгнула из отцовского фургона, когда он остановился у Чемисалского перевала. И кое-какие дикие повадки «Розы» сохранились и после переселения и пересадки на культурную почву.
Стук в дверь застал ее врасплох. Она быстро юркнула в постель и из этого надежного убежища вопросила, слегка нахмурив брови:
– Кто там?
Из-за двери донеслось неуверенное бормотание.
– Это ты, па?
Бормотание стало утвердительным, настойчивым и задабривающим.
– Обожди минутку, – сказала «Роза». Она встала, отперла дверь, проворно улеглась обратно в постель и крикнула:
– Войди!
Дверь робко приотворилась. В образовавшуюся щель просунулась седеющая голова и широкие, чуть сутулые плечи, принадлежавшие мужчине довольно преклонного возраста; после некоторого колебания за плечами застенчиво последовала пара ног, обутых в ковровые шлепанцы. Когда появление призрака полностью завершилось, он тихонько притворил за собой дверь и остался возле порога, проявляя крайнюю неуверенность в себе и чрезвычайную даже для призрака боязнь вступать в разговор. Это вызвало со стороны «Розы» нетерпеливый и, боюсь, не слишком вразумительный протест.
– Ну же, па, тоже мне!
– Ты уже легла, Джинни, – неуверенно сказал мистер Макклоски, поглядывая на кресла и наваленные на них предметы со странной смесью опасливого мужского благоговения и отцовской гордости, – ты уже легла и разделась?
– Да, уже.
– Понятно, – сказал мистер Макклоски, присаживаясь на самый краешек кровати и мучительно стараясь запрятать ноги куда-нибудь подальше. – Понятно. – Помолчав, он потер ладонью короткую жесткую бороду, похожую на долго бывшую в употреблении сапожную щетку, и добавил: – Хорошо повеселилась, Джинни?
– Хорошо, па.
– Они все там были?
– Да, и Рэнс, и Йорк, и Райдер, и Джон.
– И Джон! – Мистер Макклоски постарался придать глазам, робко взиравшим на дочь, лукаво вопросительное выражение, но, встретив прямой взгляд широко открытых глаз, в котором не сквозило ни тени смущения, учащенно заморгал и покраснел до корней волос.
– Да, и Джон был, – сказала Джинни, ничуть не меняясь в лице и не отводя в сторону взгляда больших серых глаз. – И провожал меня домой. – Она умолкла, закинула руки за голову и поудобнее устроилась на подушке. – Он опять задал мне этот вопрос, па, и я сказала: «Да». Это совершится… довольно скоро. Мы поселимся в Фор-Форксе в его доме, а на следующую зиму переедем в Сакраменто. По-моему, это правильно, да, па? Как ты считаешь? – И она подкрепила свой вопрос легким пинком ноги под одеялом, выведя таким способом Макклоски из задумчивости.
– Да, конечно, – растерянно сказал мистер Макклоски, возвращаясь к действительности. Потом, ласково похлопав по одеялу, добавил: – Ты не могла бы сделать лучшего выбора, Джинни. Ни одной девушке в Туолумне никогда не залететь так высоко, даже если очень повезет. – Он снова примолк, потом сказал: – Джинни…
– Да, па?
– Ты уже легла и разделась?..
– Ну да!
– А ты не могла бы, – продолжал мистер Макклоски, беспомощно оглядываясь на стулья и медленно почесывая подбородок, – а ты не могла бы одеться снова?
– Что такое, па?
– Ну, понимаешь, нацепить на себя все это обратно, – торопливо пояснил он. – Ну, может, не все, а хотя бы кое-что. А я помог бы тебе… Ну, может, подал чего, или, может, пряжку какую застегнул, или бантик завязал, или зашнуровал ботинок, – продолжал он, не сводя глаз с кресел и храбро стараясь не спасовать перед тем, что было на них навалено.
– Ты в своем уме, па? – вопросила Джинни, внезапно садясь на постели и величественно встряхивая своей золотистой головкой.
Мистер Макклоски нервно почесал бороду с того бока, где она имела наиболее изношенный вид – должно быть, от неоднократного повторения этой операции, – и увильнул от прямо поставленного вопроса.
– Джинни, – сказал он, нежно поглаживая одеяло. – Видишь ли ты, какое дело. Там у нас внизу один незнакомый человек… То есть он для тебя незнакомый, детка, но я-то его знаю издавна. Он тут уже целый час прохлаждается и будет прохлаждаться еще до четырех часов, до дилижанса. Так вот, мне бы хотелось, Джинни, голубка, чтобы ты спустилась вниз и вроде бы помогла мне принять его. Нет, нет, не выйдет, Джинни, – поспешно сказал он, поднимая руку, чтобы предупредить возражение, – не выйдет! Он не ляжет в постель. И не станет играть со мной в карты. И виски его не берет. Сколько я его знаю, второго такого неудобного гостя еще свет не родил…
– Зачем же тогда он тебе нужен? – решительно спросила мисс Джинни.
Мистер Макклоски опустил глаза.
– Видишь ли, он специально завернул сюда, чтобы оказать мне большую услугу, иначе я не стал бы беспокоить тебя, Джинни. Ей-богу, не стал бы! А тут мне подумалось, что раз уж я никак не могу ничем его занять, так, может, ты спустишься вниз и управишься с ним – ведь ты всегда здорово умеешь с ними управляться.
Мисс Джинни пожала красивыми плечиками.
– Он молод или стар?
– Он еще совсем молодой, Джинни, но, между прочим, знает пропасть разных вещей.
– А чем он занимается?
– Да вроде ничем, по-моему. Получает доход с рудника в Фор-Форксе. Путешествует, ездит повсюду. Я что-то слыхал, Джинни, будто он поэт… Ну, знаешь, пишет эти самые стихи. – Мистер Макклоски сказал это не без тайного умысла. Он вдруг вспомнил, что его дочь частенько получает отпечатанные на бумажке чувствительные стишки, именуемые «стансами», с приложением других, не менее сахаринных предметов.
Мисс Джинни надула хорошенькие губки. Все эти возвышенные фантазии вызывали в ней легкое чувство сострадательного презрения, естественное в таком юном и обладающем превосходным здоровьем организме.
– Впрочем, – продолжал мистер Макклоски, задумчиво почесывая голову, – впрочем, я не советую тебе, Джинни, говорить ему что-нибудь насчет стихов. Я только что сам пробовал. Я подал ему виски в гостиную. Завел музыкальную шкатулку. А потом говорю этаким, знаешь, светским тоном: «Располагайся, как дома, и прочти мне что-нибудь из своих сочинений, что тебе самому больше по вкусу». А он, ты знаешь, взбеленился. Этот малый просто взбеленился, Джинни. Уж как только он меня не обзывал. Понимаешь, Джинни, – продолжал мистер Макклоски смущенно, – мы ведь с ним старые приятели.
Но его дочь со свойственной ей стремительностью уже приняла решение.
– Я спущусь вниз через несколько минут, па, – сказала она, – только не говори ему ничего – не говори, что я была уже в постели.
Лицо мистера Макклоски просияло.
– Ты всегда была хорошей, доброй девочкой, Джинни, – сказал он, опускаясь на одно колено, чтобы удобнее запечатлеть торжественный поцелуй на ее лбу. Но Джинни схватила его за руки и на минуту удержала в плену.
– Па, – сказала она, заглядывая в его смущенно потупленные глаза ясным настойчивым взглядом, – все девушки были сегодня на танцах с кем-нибудь из своих родственниц. Мейм Робинсон появилась со своей тетушкой, Люси Рэнс – с мамой, Кэт Пирсон – с сестрой; все, кроме меня, пришли в сопровождении какой-нибудь дамы. Папочка, дорогой, – тут ее губы чуточку дрогнули, – как жаль, что мама умерла, когда я была совсем маленькой! Мне бы так хотелось, чтобы у нас в доме была женщина. Я-то не чувствую себя одинокой с тобой, папочка, милый, но как было бы хорошо, если бы у нас в семье был кто-то еще, когда придет время… Когда мы с Джоном… ну, ты понимаешь…
Голос ее оборвался, но открытый взгляд был по-прежнему прикован к лицу отца. Мистер Макклоски, казалось, углубившийся в изучение рисунка на одеяле, сделал попытку успокоить дочь.
– Да все эти девицы с целым Ноевым ковчегом разных тетушек в придачу не стоят твоего мизинца, Джинни! И любая из них, не моргнув глазом, пожертвовала бы родной матерью, чтобы сделать такую партию, как ты. А что у тебя нет матери, так, может, голубка, тебе без нее даже лучше. – Тут мистер Макклоски порывисто встал и шагнул к двери. Но на пороге он обернулся и сказал, как прежде, просяще: – Не замешкайся, Джинни! – Потом улыбнулся, и его фигура скрылась за дверью головой вперед. Ковровые шлепанцы покинули комнату последними.
Когда мистер Макклоски спустился в гостиную, его беспокойного гостя там не оказалось. Графин стоял на столе непочатый: на полу валялось несколько книг; на диване – фотографии Сьерры; на ковре – диванная подушка, мексиканский плед и газета. Все это создавало впечатление, что гость пытался читать лежа. Стоявшая настежь дверь на веранду, ни разу за все существование дома еще не отворявшаяся, и развевающиеся кружевные шторы указывали направление, в котором скрылся беглец. Мистер Макклоски испустил вздох отчаяния. Он поглядел на роскошный ковер, купленный в Сакраменто за баснословную цену, на мебель розового дерева, обитую малиновым атласом, равной которой не знала Туолумна за всю свою историю, перевел взгляд на картины в массивных рамах и наконец уставился на распахнутую дверь и на безрассудного юношу, который, презрев все вышеперечисленные соблазны, безмятежно курил сигару в саду на залитой лунным светом дорожке. По-видимому, гостиная, неизменно повергавшая в почтительнейший сыновний трепет молодых людей Туолумны, потерпела на сей раз фиаско.
Оставалось выяснить последнее: не утратила ли и «Роза» свой аромат.
«Ну, я надеюсь, Джинни управится с ним как-никак», – подумал мистер Макклоски, отцовская вера которого была незыблема.
Он вышел на веранду. Но не успел он там появиться, как гость уже заметил его и тотчас направился к дому. Не дойдя двух-трех шагов до мистера Макклоски, он остановился.
– Слушай, ты, старое стопоходящее млекопитающее, – произнес он не очень громко, так, что его слова были слышны лишь тому, для кого они предназначались и чье лицо изображало заботу и участие. – Почему ты не ляжешь спать? Ведь я сказал: ступай, отвяжись от меня. Ну скажи мне ради всех дураков, ослов, болванов и идиотов на свете, чего ты тут околачиваешься? Или тебе непременно нужно свести меня с ума своим присутствием, как ты уже пытался свести меня с ума этой проклятой музыкальной шкатулкой, которую я зашвырнул вон за то дерево? До дилижанса еще добрых полтора часа; неужели ты думаешь, неужели ты хоть на секунду можешь себе вообразить, что я в состоянии терпеть твое присутствие столько времени? Ну, чего ты молчишь? Ты что, заснул? У тебя же не хватит, надеюсь, нахальства прибавить ко всем своим порокам еще и сомнамбулизм? Это уже верх подлости – навязывать свое общество под таким жалким предлогом!
Судорожный приступ кашля прервал это необычное вступление в беседу; элегантная фигура гостя прислонилась к столбику веранды; затем гость присел на перила и поглядел на хозяина вполуоборот. Нижняя часть его лица выражала привычную для него полупрезрительную иронию, к которой сейчас примешивалось страдание, но лоб был чист и высок, а темные грустные глаза смотрели с легкой усмешкой, словно подшучивали над чрезмерно саркастической складкой рта и вспыльчивыми речами.
– Я уже было лег, Риджуэй, – сказал мистер Макклоски кротко, – но дочка моя Джинни только что вернулась домой с небольшой вечеринки у Робинсонов, и ей почему-то не хочется спать. Ну знаешь, как это бывает с девушками. Вот я и подумал, что мы могли бы этак мило поболтать втроем, чтобы скоротать время.
– Ну и лживый же ты, старый притворщик! Она же вернулась домой час назад, – сказал Риджуэй. – Даже этот свирепый малый, что ее сопровождал и с тех пор все еще торчит возле дома, может это засвидетельствовать. Ни минуты не сомневаюсь, что такой предприимчивый идиот, как ты, способен вытащить девушку из постели, чтобы мы могли взаимно нагонять друг на друга тоску.
Мистер Макклоски был, по-видимому, настолько поражен сверхъестественной проницательностью своего гостя, что не нашелся, что ответить. Усладив свой взор замешательством хозяина, Риджуэй спросил угрюмо:
– А чья она дочь, кстати?
– Нэнси.
– Твоей жены?
– Да. Но смотри, Риджуэй, – сказал Макклоски, умоляюще кладя руку на плечо Риджуэя, – ни слова об этом Джинни. Она считает, что ее мать умерла… Умерла в Миссури. Эй! Ты что?..
Услыхав последнее сообщение, мистер Риджуэй от ярости потерял равновесие и едва не свалился с веранды.
– Великий боже! Не хочешь ли ты сказать, что скрываешь от нее то, что в любой день, в любую минуту может достичь ее слуха? Что ты позволил ей вырасти в неведении того, что она давным-давно могла бы перестрадать и забыть? Что ты, как последний осел, как выживший из ума старый идиот, все эти годы собственными руками понемногу выковывал оружие, которым теперь может воспользоваться любой, чтобы поразить ее? Что ты… – Но тут голос Риджуэя прервался от внезапного приступа кашля, столь сильного, что на его темных глазах выступили слезы, и он молча уставился на Макклоски, рука которого бесцельно теребила бороду.
– Но послушай, – сказал Макклоски, – ты взгляни на нее! Как она высоко держит голову, не склоняет ее ни перед кем! А через месяц она станет женой самого богатого парня в нашей округе, и, знаешь, – добавил он не без лукавства, – Джон Эш не из тех, кто позволит сказать худое слово о своей жене или о ее близких родственниках, уж ты мне поверь! Постой-ка, кажется, это она спускается с лестницы. Да, она идет сюда!
И она появилась. Едва ли пролет двери служил когда-либо рамой более восхитительному видению, чем то, которое предстало их взорам, когда, раздвинув шторы, «Роза» ступила на веранду. Она совершила свой туалет поспешно, и он был прост, но безошибочное женское чутье так ярко проявилось в нем, подчеркнув, оттенив и показав все с наилучшей стороны, что, любуясь стройными контурами ее фигуры, удлиненными линиями тонких рук и ног, округлыми линиями бедер и плеч, золотистыми косами, мягко струящимися вдоль тела, сиянием прозрачных серых глаз и даже нежным румянцем щек, вы не замечали, как все это вам преподносится.
Мистер Макклоски представил молодых людей друг другу без излишних церемоний. Когда Риджуэй кое-как освоился с мыслью о том, что уже пробило два часа ночи, а обращенная к нему щечка туолумнской богини младенчески свежа, и сама она в своей безыскусственной прелести похожа на Маргариту, хотя, быть может, никогда и не слыхала имени гетевской героини, он заговорил и, смею вас заверить, заговорил вполне вразумительно. Мисс Джинни, выросшая на воле, среди диких сыновей Енака [19]19
Енак – упоминаемый в Библии родоначальник племени исполинов.
[Закрыть]и привыкшая к тому, что превосходство сильного пола утверждалось в ее глазах простым фактом физической силы, ощутив теперь неизведанное ею прежде странное воздействие силы совсем иного порядка, исходившее от этого стройного, элегантного незнакомца, в первую минуту была испугана и держалась холодно и отчужденно. Но, увидя, что это могучее воздействие, против которого все ее женские чары, казалось, были бессильны, не таит в себе зла, она, как истая женщина, впала в состояние восторженного обожания и уже готова была повергнуть к ногам нового кумира все свои бывшие фетиши. Больше того, она даже исповедалась в этом. Словом, через полчаса Риджуэй стал обладателем всех ее девичьих тайн и, боюсь, почти всех грез… за исключением одной. Когда мистер Макклоски увидел, что молодые люди столь дружески расположены друг к другу, он мирно погрузился в сон.
Время протекало приятно для обоих. Для мисс Джинни в этом таилось очарование новизны, и она открыто и невинно предавалась своей радости, в то время как ее собеседник вел себя более сдержанно, глубже прозревая неотвратимые последствия подобных ситуаций. Не думаю, однако, чтобы ухаживание сознательно входило в его намерение. Не думаю также, чтобы он при этом отдавал себе ясный отчет в своем поведении в настоящую минуту. Я убежден, что он содрогнулся бы при одной мысли о самой малейшей неверности по отношению к той единственной женщине, которой, как он считал, принадлежало его сердце. Однако, по свойству всех поэтов, он был больше верен идеалу, нежели его земному воплощению, а будучи по натуре жизнелюбив и ставя женщин на высокий пьедестал, в каждом новом личике он находил черты своего идеала. И это, по-видимому, было пагубным для женщин, ибо, влюбляясь всякий раз заново с необычайным пылом, он невольно вводил их в обман тем, что так разительно отличало его от записных волокит с их развязной манерой ухаживать. Эта непосредственность и свежесть чувств делали его неотразимым в глазах самых достойных женщин; все они были склонны проявлять о нем бескорыстную заботу, какую мы часто проявляем по отношению к тем, кто легко может сбиться с пути: он пробуждал в них весьма опасное сочетание материнского инстинкта и еще более нежной привязанности. Вероятно, именно эти его особенности заставили Джинни почувствовать, что этот юноша, словно малое дитя, нуждается в ее женской опеке, и когда ему пришло время прощаться, она даже заявила, что проводит его до перекрестка. Она знает все здешние лесные дороги и тропинки как свои пять пальцев, с ней он не заблудится. Не от медведей и волков стремилась она его защитить, а главным образом, как мне кажется, от женских чар Мейм Робинсон и Люси Рэнс, на случай если эти дамы устроили где-нибудь засаду на беззащитного молодого поэта. При этом она мысленно не переставала благословлять провидение за то, что оно, так сказать, вверило ей его судьбу.
Ночь была восхитительна. Невысокая луна лениво плыла над заснеженным горным хребтом. Тихий воздух был напоен терпким ароматом, и таинственные фимиамы леса будоражили молодую кровь, заставляя ее сладко млеть в жилах. И можно ли удивляться тому, что двое юных существ медлили на залитой лунным светом дороге и как бы нехотя поднялись на холм, где им предстояло расстаться; а когда они достигли его вершины, беседа – их последнее спасительное прибежище – оборвалась.
Они были одни. Леса, поля, земля и небо – все, казалось, замерло в неподвижности и безмолвии. Они были мужчиной и женщиной, и для них была создана эта прекрасная благословенная земля, покоившаяся у их ног под сводом небесной лазури. И, почувствовав это, они порывисто повернулись друг к другу, и руки их встретились, и губы их слились в долгом поцелуе.
А затем откуда-то из таинственной дали приплыл звук голосов, и резкий стук подков, и скрип колес, и Джинни скользнула прочь – подобно серебристому лунному лучу – вниз с холма. Несколько мгновений ее фигурка еще мелькала среди деревьев, но вот она уже возле дома, вот прошмыгнула мимо спящего на веранде отца, стремительно поднялась к себе в спальню, заперла дверь, распахнула окно и, опустившись возле него на колени, прижалась пылающей щекой к руке и прислушалась. Вскоре до нее донесся дробный стук копыт на кремнистой дороге, но это был всего лишь одинокий всадник, чья темная фигура промелькнула и тут же скрылась во мраке. Быть может, при других обстоятельствах она бы узнала этого всадника, но сейчас ее зрение и слух напряженно ожидали другого. И… вот оно: танцующие огоньки фонарей, мелодичное позвякивание упряжи, мерный шаг лошадей, заставивший ее сердце забиться в такт… Видение возникло и исчезло. Внезапно чувство безысходного одиночества охватило Джинни, и слезы прихлынули к ее глазам.
Она встала и огляделась вокруг. Узенькая кровать, туалетный стол, розы, которые она прикалывала к платью вечером, все еще свежие и благоухающие в маленькой вазочке, – все было на своем месте, но все стало каким-то другим. Вечер отодвинулся так далеко в прошлое, что розы, казалось, давно должны были увянуть. Она с трудом могла припомнить, когда надевала это платье, валявшееся на кресле. Джинни снова подошла к окну и опустилась на пол возле него, положив побледневшую щеку на руку, разметав по полу косы. Звезды медленно гасли в небе, и бледнел румянец на ее щеках, но ее невидящий взгляд по-прежнему был устремлен в даль, туда, где занималась заря.








