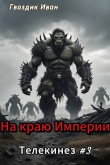Текст книги "Моя жизнь с Пикассо"
Автор книги: Франсуаза Жило
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
Пабло снял для меня в доме два этажа, я договорилась с Женевьевой, что она приедет из Монпелье и поживет со мной. Дом был в том же вкусе, что и большая азалия, которую Пабло прислал мне в больницу. Снаружи он выглядел как все остальные дома возле гавани, но внутри был совершенно своеобразен. В нем было четыре этажа с двумя комнатами на каждом. Месье Фор со всем своим простодушием старательно украшал его в мягко говоря оригинальной манере. Одна комната была окрашена в ярко-синий цвет и обрызгана белой краской. Потолок покрывали белые звезды с красной каймой, а вся мебель была красной с белыми звездами. Комната была довольно тесной, поэтому четвертой «стеной» служило большое окно, выходившее на море. Она слегка напоминала планетарий, с одной стороны находилась черная дыра, в которую был виден беспредельный морской простор, а с трех остальных несколько менее впечатляющий беспредельный звездный небосклон. Другие комнаты выглядели попросту безобразно, на их стенах были выжжены по дереву рисунки каштановых деревьев, мебель была выкрашена в белый цвет и расписана цветущими миндальными деревьями.
Месье Фору тогда уже перевалило за восемьдесят, он был тощим, краснолицым, седым, голубоглазым и очень длинноносым. Носил баскский берет и постоянно горбился. Проведя много лет согнувшись над офортными досками, он уже не мог держаться прямо. Вечно казался слегка навеселе, и увидя его супругу, женщину, лет на лет на тридцать моложе его, я поняла, отчего Фору требовалось поддерживать таким образом свое мужество.
По профессии Фор был гравером, печатал иллюстрации для многих изданий Амбруаза Воллара, в том числе знаменитую серию гравюр Пабло «Бродячие акробаты». Он обучил меня основам разнообразных методов гравирования. Я узнала, как пользоваться лаком, как гравировать в мягком офортном грунте, как протравливать кислотой офортные доски, как работать различными инструментами – гравировальной иглой, ракелью, гладилкой. Стала пробовать руку на материале. К концу недели нашла это столь интересным, что написала Пабло, поскольку он собирался навестить меня, что работается мне хорошо, и предпринимать поездку ему нет смысла. Два дня спустя я с изумлением увидела его, подъезжающего к дому на машине. Спросила, зачем он приехал, ведь я писала, что мне одной здесь замечательно.
– Вот именно, – ответил он. – Не знаю, кем ты себя возомнила, но как могла написать мне, что счастлива без меня?
Разумеется, я имела в виду совсем не это.
– И поскольку ты не хотела меня видеть, – продолжил он, – я решил, что нужно приехать как можно быстрее.
Уже на другой день Пабло пришел в дурное настроение лишь из-за того, что находился там.
Женевьева приехала из Монпелье всего днем раньше, с опозданием на неделю. Пабло первым делом выпроводил ее жить в маленький отель-ресторан «У Марселя», расположенный на той же улице.
Я пыталась возражать, но он не хотел никакого общества, даже такой красивой девушки, как Женевьева. С самого начала было ясно, что ладить они не смогут. Подшучивания Пабло, от которых не бывало спасения никому, были Женевьеве не по душе. Она была довольно строго воспитана, обладала несколько ограниченным чувством юмора, и видимо, Пабло находил ее слегка высокомерной.
Я каждый день ездила в Антиб повидать бабушку. Первые два дня, возвращаясь, замечала, что Пабло с Женевьевой на ножах, но ведут себя сдержанно. На третий, возвратясь и поднявшись наверх, увидела, что в первой комнате третьего этажа раскрасневшийся, гневный Пабло и побледневшая, но еще более гневная Женевьева злобно глядят друг на друга. Я посмотрела на него, потом на нее.
– Франсуаза, мне нужно поговорить с тобой наедине, – выпалила Женевьева.
– Говорить буду я, – сказал Пабло.
Я прекрасно представляла, о чем они хотят говорить. Сказала Пабло, что поговорю с ним потом, спустилась с Женевьевой и пошла с ней к отелю.
– Как ты можешь терпеть это чудовище! – сказала она.
Я спросила, почему чудовище.
– Дело не только в том, что он сделал и пытался сделать, но и как вел при этом себя, – заговорила Женевьева. – Когда мы тебя проводили, он повел меня в дом. Сперва сказал – с совершенно серьезным видом – что даст мне урок гравирования, а потом, безо всякого урока, просто посмотрел на меня и заявил: «Я воспользуюсь отсутствием Франсуазы и тобой». Я ответила, что у него ничего не выйдет. Тогда он усадил меня на кровать и добавил: «Более того, сделаю ребенка. Это как раз то, что тебе нужно». Я тут же вскочила с кровати, в полной уверенности, что именно это было у него на уме.
Бледность с лица Женевьевы начала сходить, но выглядела она не менее гневно. Разумеется, я понимала, что целью Пабло было выпроводить ее, но сказать этого не могла. Сказала, что верю ей, но волноваться ей так не следует. И заметила, что если б она рассмеялась над ним, все было бы проще.
– Может, у тебя это и получилось бы, – сказала Женевьева, – но я, к сожалению, смеяться в подобных случаях не могу.
И потом битый час убеждала меня, что единственным разумным, достойным, здравым поступком, единственным способом спасти, если не шкуру свою, то по крайней мере душу /в пансионе Женевьева всегда была восприимчивей к поучениям монахинь, чем я/ для меня было бы уехать завтра же вместе с ней в Монпелье. К тому же, заверяла она, мой локоть заживет гораздо быстрее в спокойной, пристойной атмосфере дома ее родителей, чем в обществе такого чудовища, как Пабло. Я ответила, что подумаю и наутро приду поговорить с ней.
– Я в любом случае утром уезжаю в Монпелье, – предупредила она.
К моему возвращению Пабло, как я и ожидала, совершенно успокоился.
– Представляю, сколько она наврала тебе, – сказал он.
Я решила проучить его. Сказала, что знаю Женевьеву много лет и верю каждому ее слову. И что завтра утром уезжаю вместе с ней в Монпелье.
Пабло потряс головой и нахмурился.
– Как ты можешь верить девице, которая пытается соблазнить меня за твоей спиной? Как вообще можешь иметь такую в подругах? Не представляю. Но оставить меня и уехать с ней – что ж, тут можно сделать только один вывод: между вами существуют какие-то противоестественные отношения.
Тут мне самой пришлось воспользоваться советом, который дала Женевьеве. Я рассмеялась Пабло в лицо.
– Ты изменил своему призванию. Ты сущий иезуит.
Он вновь сильно раскраснелся и забегал вокруг меня
– Petit monstre! Serpent! Vipère![ 13 ]13
Маленькое чудовище! Змея! Гадюка! (фр.).
[Закрыть]
Я продолжала смеяться. Пабло постепенно успокоился.
– Надолго собираешься уехать? – спросил он.
Я ответила, что собираюсь уехать, и точка. Пабло внезапно очень помрачнел.
– Я приехал побыть наедине с тобой, потому что в Париже мы, в сущности, наедине не бывали – в лучшем случае, оставались вдвоем на несколько часов. А теперь, когда я здесь, ты говоришь об отъезде. Собираешься бросить меня. Знаешь, мне осталось не так уж много лет жизни. И ты не вправе отнимать у меня оставшуюся крупицу счастья.
Пабло продолжал в том же духе по меньшей мере час. Когда выговорился, и я увидела, что он искренне раскаивается, то сказала, что, возможно, останусь здесь. Наутро пошла в отель и все рассказала Женевьеве.
– Ты движешься к катастрофе, – сказала она.
Я ответила, что, возможно, она права, но такого рода катастрофы я избегать не хочу. Женевьева вернулась в Монпелье, а я вернулась к Пабло.
После отъезда Женевьевы Пабло стал относительно деликатным. Через два дня он предложил:
– Раз уж мы здесь, давай съездим к Матиссу. Надень розовато-лиловую блузку и зеленые брюки; это его любимые цвета.
Матисс тогда жил в Вансе, в доме, снятом незадолго до Освобождения, неподалеку от места, где теперь стоит оформленная им «Капелла четок». Когда мы приехали, он лежал в постели, так как после операции мог вставать лишь на час-другой в день. Выглядел очень доброжелательным, почти как Будда. Вырезал фигуры из очень красивых бумаг, раскрашенных гуашью по его указаниям.
– Именую это рисованием ножницами, – сказал он.
Матисс рассказал, что часто просит приклеить к потолку бумагу и, лежа в постели, рисует на ней угольным карандашом, привязанным к концу бамбуковой палочки. Когда он покончил с вырезками, Лидия, его секретарша, стала прикреплять их к обоям, на которых угольным карандашом были начерчены метки, указывающие, где они должны быть приклеены. Сперва она прикалывала вырезки кнопками, потом меняла местами, пока Матисс не установил их окончательное положение.
В тот день мы увидели несколько серий картин, над которыми он работал: среди них вариации двух женщин в интерьере. Одна из них была обнаженной довольно натуралистичной, синего цвета, за счет которого в изображении ощущалась некоторая дисгармония. Пабло сказал Матиссу:
– На мой взгляд, цвет в такой композиции не должен быть синим, такого рода рисунок предполагает розовый. В более деформированном рисунке локальный цвет обнаженной может быть синим, но тут требуется розовая обнаженная.
Матисс согласился и обещал изменить цвет. Потом повернулся ко мне и со смехом сказал:
– Во всяком случае, если б я писал портрет Франсуазы, то сделал бы ее волосы зелеными.
– С какой стати тебе захотелось ее писать? – спросил Пабло.
– Меня привлекает ее голова, – ответил Матисс, – с бровями, напоминающими центральновершинное ударение.
– Тебе не одурачить меня, – сказал Пабло. – Если б ты сделал ее волосы зелеными, то затем, чтобы они гармонировали с восточным ковром на картине.
– А ты сделал бы тело синим для того, чтобы оно гармонировало с красным кафельным полом на кухне, – ответил Матисс.
До тех пор Пабло написал только два маленьких серо-белых моих портрета, но когда мы снова сели в машину, его вдруг обуял собственнический инстинкт.
– Право же, это уж слишком, – сказал он. – Разве я пишу портреты Лидии?
Я сказала, что не вижу связи между одним и другим.
– Во всяком случае, – сказал он, – теперь я знаю, как писать твой портрет.
Через несколько дней после поездки к Матиссу – я сказала Пабло, что готова вернуться в Париж.
– Я хочу, чтобы ты, когда вернешься, перебралась жить ко мне, – настойчиво заявил он.
Пабло уже высказывал это желание, большей частью в полушутливом тоне, но я всякий раз отклоняла его предложение. Бабушка не ограничивала моей свободы. К тому же, мысль покинуть ее была мне неприятна. Она ведь меня не покинула. Я сказала, Пабло, что даже если б хотела этого, объяснить бабушке такой поступок будет невозможно.
– Правильно, – сказал он, – поэтому перебирайся, ничего ей не говоря. Я нуждаюсь в тебе больше, чем бабушка.
Я ответила, что очень привязана к нему, но совершить такой шаг еще не готова.
– Посмотри на это так, – заговорил Пабло. – То, что ты можешь дать бабушке, помимо любви к ней, не является чем-то жизненно важным. С другой стороны, если станешь жить вместе со мной, поможешь мне осуществить кое-что жизненно важное. Ввиду того, что я очень в тебе нуждаюсь, тебе логичнее и полезней находиться рядом со мной. Что до чувств твоей бабушки, есть поступки, которые все поймут, есть и такие, которые можно совершить только взбунтовавшись, поскольку они выходят за пределы понимания других людей. Пожалуй, даже лучше нанести удар, и когда люди от него оправятся, предоставить им смириться с произошедшим.
Я ответила, что мне это кажется несколько жестоким.
– Но есть вещи, от которых невозможно избавить других, – снова заговорил он. – Может, поступать так и тяжело, но в жизни бывают минуты, когда у нас нет выбора. Если одна необходимость преобладает над остальными, ты вынуждена поступать в каких-то отношениях плохо. Не существует полной, абсолютной чистоты, кроме чистоты отказа. В принятии страсти, которую человек считает в высшей степени важной, которое сопряжено для него с трагедией, он выходит за рамки обычных законов и вправе поступать так, как не поступил бы в обычных обстоятельствах.
Я спросила, как он пришел к такому заключению.
– В подобных случаях человек, причиняя страдания другим, тем самым причиняет их и себе, – ответил Пабло. – Это вопрос принятия собственной судьбы, а не бессердечия или бесчувственности. Теоретически можно сказать, что человек не вправе требовать своей доли счастья, как бы ни была она крохотна, если это счастье основано на несчастье других, однако на таком теоретическом основании решить этот вопрос невозможно. Мы постоянно находимся в смешении плохого и хорошего, доброго и злого, элементы любого положения всегда безнадежно перепутаны. Что для одного добро, то для другого зло. Предпочесть одного – значит в известном смысле убить другого. Поэтому надо обладать мужеством хирурга или, если угодно, убийцы, принимать на себя свою долю вины, а потом нести ее бремя как можно пристойнее. В определенных положениях ангелом быть нельзя.
Я сказала, что примитивному человеку следовать этим взглядам гораздо проще, чем тому, кто мыслит понятиями добра и зла и пытается строить свою жизнь в соответствии с ними.
– Брось ты свои теории, – сказал Пабло. – Пойми, что все в жизни имеет свою цену. Все обладающее большой ценностью – творчество, новые идеи – имеет и оборотную темную сторону. И это приходится принимать. Иначе застой, бездействие. Но в каждом действии есть своя отрицательная черта. С этим ничего не поделаешь. Всякая положительная ценность обладает отрицательными свойствами, и все поистине великое в каком-то отношении ужасно. Гений Эйнштейна ведет к Хиросиме.
Я ответила, что часто подумывала – он дьявол, а теперь убедилась в этом. Его глаза сузились.
– Зато ты ангел, – с презрением сказал он, – но только из преисподней. В таком случае, раз я дьявол, ты моя подданная. Пожалуй, надо тебя заклеймить.
Пабло приставил горящую сигарету к моей правой щеке. Должно быть, ожидал, что я отстранюсь, но я не доставила ему этого удовольствия. Он отвел руку с сигаретой от моего лица.
– Нет, это не особенно удачная мысль, вполне возможно мне еще захочется смотреть на тебя.
На другой день мы поехали в Париж. Пабло не любил ездить на заднем сиденье, поэтому мы сели на переднее рядом с Марселем, шофером. Пабло сидел посередине. Марсель непринужденно вступал в разговор. Пабло время от времени принимался спорить со мной о переселении к нему. Марсель поглядывал на нас, улыбался и подчас вставлял реплики, наподобие: «Думаю, тут она права. Пусть отправляется домой. Дайте ей время подумать». Пабло всегда прислушивался к Марселю. Поэтому по приезде в Париж я вернулась к бабушке без всяких комментариев со стороны Пабло. Но с того времени, он ежедневно склонял меня к мысли о том, что я должна жить вместе с ним
Однажды утром через несколько недель после нашего возвращения я работала у себя в мастерской. У меня была скверная привычка прямо со сна, неумытой, неодетой, голодной, надевать старый, уже заляпанный краской бабушкин халат, подпоясывать его веревкой, потому что он был мне велик, и с нечесаными волосами писать до полудня. Для меня это являлось чем-то вроде разминки, зато помогало работать во второй половине дня более упорядоченно и целеустремленно. В то утро я, с виду ведьма ведьмой, углубилась в работу, и вдруг дверь распахнулась. Я увидела Пабло в толстой, отороченной овчиной куртке цвета хаки, выглядывающего из-за двух дюжин белых роз на длинных стеблях. Оба мы, должно быть, испытали потрясение: он еще никогда не прятался от меня за белыми розами, и определенно не видел меня закутанной в такой халат, босой и непричесанной. Когда изумление прошло, мы рассмеялись Я сказала ему:
– Только не говори, что ты купил эти розы для меня.
– Нет, конечно, – ответил Пабло. – Мне их кто-то принес, но я решил, что уместнее будет преподнести их тебе. Теперь начинаю в этом сомневаться. Ни за что не поверил бы, что ты можешь так выглядеть.
Я попросила его подождать и зашла в ванную привести себя в порядок. Пока переодевалась, с нижнего этажа меня окликнул громкий, низкий мужской голос.
– Что такое? – произнес Пабло. – В доме мужчина?
Я ответила, что это не мужчина, а моя бабушка. Пабло, настроенный, как всегда, скептически, сказал:
– Хочу с ней познакомиться. У нее совершенно необычайный голос.
Уходя из дома на обед, мы столкнулись с бабушкой на лестничной площадке. Она вышла из своей гостиной, чтобы попрощаться. Это была историческая встреча. Бабушка была маленькой, но обладала очень сильным характером и незабываемой головой, напоминающей голову старого льва, с морщинистым лицом и седой, торчащей во все стороны гривой. Эта голова, крохотное тело и очень низкий, мощный голос составляли невероятное сочетание, и когда она обратилась к Пабло, он сказал мне сценическим шепотом: «Я вижу перед собой великого немецкого дирижера». Это прозвище закрепилось за ней. Мнения бабушки о Пабло я тогда не выяснила, но возвратясь с обеда, спросила, что она думает о нем. Бабушка ответила:
– Потрясающе. Ни разу не видела мужчины с такой гладкой кожей. Будто полированный мрамор.
Я сказала, что кожа у него не такая уж гладкая. Бабушка продолжала:
– Да, и он крепкий, твердый, как статуя. Уверяю тебя, совсем как статуя.
Думаю, манера Пабло глядеть на людей своими острыми, темными глазами очаровывала их и даже могла создавать впечатление чего-то гладкого. Во всяком случае, их мнения друг о друге остались неизменными.
Помимо нежелания покидать бабушку и всех прочих причин, серьезных и надуманных, моему переезду к Пабло препятствовала сохранявшаяся между ним и Дорой Маар связь. Разумеется, он уверял, что ни к кому так не привязан, как ко мне. Говорил, что дал Доре понять – между ними все кончено. Видя, что я не хочу верить его словам, он настойчиво приглашал меня отправиться к ней вместе с ним, самолично убедиться. Этого мне не хотелось совсем. Но он продолжал настаивать.
Через несколько недель после знакомства с моей бабушкой Пабло однажды утром подъехал вместе с Марселем к дому, чтобы отвезти меня на выставку французских гобеленов, где демонстрировалась знаменитая серия «Повелительница единорога» Уходя с выставки, мы остановились у стенда в центре взглянуть на бивень нарвала, ближайшего к представлению о единороге существа. Зал был почти пуст, но прямо перед нами я увидела Дору Маар, разглядывающую один из гобеленов. Ощутила легкое беспокойство, но Пабло, казалось, обрадовался встрече с ней и стал расспрашивать ее о выставке. После обсуждения гобеленов он спросил, глядя ей прямо в лицо: «Что скажешь насчет обеда вместе?» Когда она приняла приглашение, мне показалось, она сочла, что «вместе» означает вдвоем с ним. Тут Пабло сказал:
– Замечательно. Вижу, у тебя широкие взгляды. Раз так, я везу вас обеих в ресторан «У Франсиса».
На лице Доры отразились удивление и разочарование, но она промолчала. Мы втроем вышли к машине, где ждал Марсель, и поехали к площади дель Альма. Во время этой недолгой поездки Дора, насколько я поняла, оценила положение и пришла к выводу, что дело, судя по всему, вступило в нежелательную для нее фазу. Мы вошли в ресторан, сели и принялись изучать меню.
– Не возражаешь, если я закажу самое дорогое? – спросила Дора. – Надеюсь, право на какую-то роскошь у меня все еще есть.
– Пожалуйста, – ответил Пабло. – Заказывай, что угодно.
Дора заказала икру и все, что к ней подходило. Постоянно вела очень остроумный разговор, но Пабло над ее остротами не смеялся. Зато когда я пыталась сказать что-то более-менее умное, чтобы не оставаться совсем в тени, его вдруг обуревал неудержимый смех, что становилось неловко. До конца обеда он донимал Дору вопросами: «Разве она не чудо? Какой ум! Правда, я открыл поистине яркую личность?». Мне казалось, радости они Доре не прибавляли.
Когда мы поели, Пабло сказал ей:
– Дора, тебе не нужно, чтобы я вез тебя домой. Ты уже большая девочка.
Дора не улыбнулась.
– Разумеется, нет. Я вполне способна добраться домой сама. А вот тебе, кажется, нужно льнуть к маленьким. Думаю, пятнадцати минут хватит, чтобы почувствовать себя мужчиной.
Иногда, когда я приходила к Пабло после полудня, он предлагал пообедать вместе. Мне не особенно хотелось показываться с ним в ресторанах, поэтому либо Инес, горничная, что-нибудь стряпала нам, либо Пабло забирался в обильный запас консервов, накопившийся от подношений американских солдат, приходивших к нему во время Освобождения, и находил что-нибудь съедобное. Однажды вечером, когда мы разделались с порцией неизменных венских колбасок, Пабло сказал:
– Прогуляемся перед тем, как поедешь домой. Я подышу свежим воздухом, а потом снова примусь за работу. Давай пойдем в кафе «Флора».
Идти туда мне хотелось меньше всего; я знала, что там будет много знакомых, и на другой день все узнают, что нас что-то связывает. Когда объяснила это ему, он сказал:
– Ты права. В таком случае просто прогуляемся по бульвару Сен-Жермен.
Я отказалась; на этом бульваре мы бы скорее всего встретили тех же самых людей, идущих в кафе или оттуда.
– Да, верно, – согласился он. – Ладно, тогда пройдемся до улицы дель Аббе.
Я сказала, что когда дойдем до конца улицы, идущей параллельно бульвару, то окажемся в одном квартале от «Флоры».
– Тебе трудно угодить, – сказал Пабло. – Послушай. Мы не станем заходить внутрь; просто постоим снаружи, посмотрим.
Я наконец сдалась. Тогда еще не было крытой галереи, которая теперь работает возле «Флоры» в теплую погоду. Все сидели внутри. Когда мы пришли туда, Пабло сказал:
– Я только загляну в окно. Никто меня не узнает.
Но едва заглянул, произнес:
– О, там сидит с друзьями Дора Маар, она наверняка меня видела. И если мы не войдем, сочтет это очень странным.
Мы вошли. Пабло в превосходном настроении подошел к столу, где сидела Дора, и обратился к ней:
– Увидел тебя и решил зайти, поздороваться. Давно ведь не виделись. Франсуазу ты помнишь.
Моего присутствия Дора не заметила, но сказала, что если он только хотел увидеть ее, незачем было так далеко ходить; можно было зайти к ней в расположенную за углом квартиру.
– Конечно, – ответил Пабло, все еще исполненный хорошего настроения. – У тебя было бы гораздо лучше.
– Почему бы нет? – сказала Дора, видимо, опять предположив, что он имеет в виду только себя и ее. Когда мы вышли, Пабло сказал:
– Видишь? Она приглашает нас в гости.
Я ответила, что поняла это не так. И в любом случае не пойду к ней.
– Еще как пойдешь, – сказал Пабло. – Я так решил. Во-первых, мне надо кое-что с ней уладить, во-вторых, хочу, чтобы ты услышала от нас обоих, что между нами больше ничего нет.
Примерно неделю спустя Пабло подстроил еще одну «случайную» встречу с Дорой Маар во «Флоре». На сей раз он сказал, что хочет поговорить с Дорой через час у неe в квартире. Я страшилась этого визита. Сказала Пабло, что не хочу идти туда, но он не стал слушать. Когда мы появились, она недобро взглянула на нас, но держалась очень сдержанно. Чтобы разбить лед, Пабло попросил Дору показать нам кое-что из ее картин. Она показала пять или шесть натюрмортов. Я сказала, что нахожу их очень красивыми. Дора обратилась к Пабло:
– Мне кажется, вы пришли ради чего-то другого.
– Совершенно верно, – ответил он. – Ты знаешь, в чем дело. Я только хочу, чтобы Франсуаза это услышала. Она не хочет жить вместе со мной, так как думает, что окажется захватчицей твоего места. Я сказал ей, что между нами все кончено, и хочу, чтобы ты это подтвердила, дабы она поверила. Ей не дает покоя собственная ответственность во всем происходящем.
Дора бросила на меня испепеляющий взгляд и отвернулась. Сказала, что это правда; что между нею и Пабло все кончено, и я вовсе не должна считать себя причиной их разрыва. Что более нелепого предположения нельзя вообразить.
Я тогда выглядела значительно младше своего возраста. Тем вечером была в туфлях на низком каблуке, клетчатой юбке и просторном свитере; волосы распустила по спине; и на соблазнительницу нисколько не походила. В квартиру Пабло вошел, таща меня за руку, и когда заговорил, на эту тему, Дора наверняка решила, что он спятил. Сказала – надо быть сумасшедшим, чтобы думать, будто он сможет жить с «этой школьницей».
Поскольку Дора была лет на двадцать моложе Пабло, а я на сорок, я действительно в какой-то степени чувствовала себя школьницей, слушающей спор между учительницей и директором школы. Многое из того, о чем у них шла речь, было мне непонятно. К тому же, никто из них не обращался ко мне и не приглашал меня принять участие в разговоре. Если б Дора и обратилась ко мне, я вряд ли смогла бы ответить, потому что чувствовала себя очень неловко.
– Ты очень странный, – сказала ему Дора. – Принимаешь столько предосторожностей, начиная то, что продлится очень недолго.
И продолжала, что очень удивится, если я не окажусь брошенной через три месяца, поскольку он не способен ни к кому привязаться.
– Ты в жизни никого не любил, – сказала она Пабло. – Ты не умеешь любить.
– Не тебе судить, умею или нет, – ответил он.
Дора изумленно воззрилась на него.
– Думаю, нам больше не о чем говорить, – произнесла она наконец.
– Совершенно верно, – ответил Пабло и вышел из квартиры, волоча меня за собой. На улице я обрела дар речи. Сказала, что еду домой в Нейли, и он может проводить меня к станции метро «Новый мост». Когда мы шли по мосту к входу в метро на правом берегу Сены, я спросила Пабло, как он мог устроить такую неприятную для всех сцену, таким отвратительным образом проявлять свои чувства и причинять Доре в моем присутствии боль. Такое поведение демонстрирует полное непонимание других людей. Сказала, что это не толкнет меня в его объятья; наоборот. Я чувствовала себя совершенно отдаленной от него и очень сомневалась, что смогу понять склад такого ума. Пабло пришел в ярость.
– Я устроил это ради тебя, – сказал он, – лишь затем, чтобы тебе стало понятно, что никто не играет в моей жизни такой значительной роли, как ты. И вот благодарность за это – отчужденность и упреки. Ты совершенно неспособна к сильным чувствам. Не понимаешь, что представляет собой жизнь. Бросить бы тебя в Сену. Ты этого заслуживаешь.
Он схватил меня и втиснул в полукруглую нишу. Притиснул к парапету и повернул так, чтобы я смотрела на воду.
– Как бы тебе это понравилось?
Я сказала, пусть бросает, если хочет – стояла весна, и я хорошо плавала. Наконец Пабло выпустил меня, и я побежала к метро, оставив его на мосту.
После сцены, разыгравшейся в квартире Доры Маар, я отнюдь не охладела к Пабло. Случившееся там приоткрыло новые стороны его характера, которые беспокоили меня, однако мое чувство к нему усилилось до такой степени, что заглушало все тревожные сигналы. Трудно объяснить почему так получилось, но возможно, я смогу внести кое-какую ясность, если ненадолго обращусь к событиям моего детства.
У моего отца было четыре сестры, его мать овдовела, когда ему было пятнадцать лет. Думаю, он был по горло сыт женским окружением. Когда женился, моя мать родила ему лишь одного ребенка. Он часто укорял меня за то, что я не мальчик. Меня одевали по-мальчишечьи, коротко стригли, хотя тогда в нашем окружении это не было принято. Отец наблюдал за моей учебой в школе и требовал, чтобы я занималась спортом. Мне приходилось подвергаться тем же испытаниям, что и всем мальчишкам, бегать и прыгать не хуже мальчишек. Отец строго следил за этим.
Летом отец брал меня плавать под парусом. Приучил любить море. Когда скрывалась береговая линия, и мы оставались на парусной лодке совершенно одни, открытые лишь небу, то тогда и только тогда могли ладить. Отец был очень нелюдимым, и побережье Бретани, дикое, суровое, вполне его устраивало. В результате я выросла с любовью к одиночеству и диким местам. В таких местах он часто улыбался, чего не случалось дома, и свободно говорил со мной обо всем. Но когда мы возвращались в Париж, у нас постоянно происходили столкновения.
Зимой отец брал меня на охоту в Ла Бриер, болотистую местность в устье Луары, чуть южнее Бретани. Деревьев там почти нет, ландшафт состоит из островков и полуостровков. Все – даже вода и тростник – отливает жемчужными зеленовато-серыми тонами. Мы уплывали далеко в болота на плоскодонке. Там были сотни птиц – дикие утки: чирки, кроншнепы, дикие гуси, журавли, цапли – прилетавших вечерами с моря поспать в тех болотах, а утром улететь обратно. Я поднималась в пять часов, чтобы увидеть рассвет и понаблюдать, как птицы улетают к морю на фоне того зимнего, печального ландшафта. Видимо, там и запало мне в душу видение, легшее в основу моей живописи: тончайшие переливы меняющегося света на бледных серо-зеленых просторах.
В раннем детстве я боялась всего, особенно вида крови. Если мне случалось порезаться, и кровь текла обильно, я падала в обморок. Помню, еще меня пугали темнота и высота. Отец решительно боролся с моими страхами. Заставлял влезать на высокие скалы и прыгать с них. Я жутко боялась даже взбираться туда, а уж прыжки вниз были для меня сущим кошмаром. Поначалу я плакала и вопила, но пронять этим отца было невозможно. Если он решал, что мне надо что-то сделать, я могла протестовать часами, но, в конце концов, приходилось повиноваться. И едва я выполняла одно, он заставлял меня делать еще что-то, более трудное. Перед его волей я была бессильна. Единственной возможной реакцией для меня был гнев. И разрастался он так, что места для страха не оставалось. Но поскольку выказывать его было нельзя, я начала лелеять в душе тайное возмущение.
Отец хотел, чтобы я научилась плавать, но я боялась воды. Он принудил меня научиться, а потом заставлял плавать все быстрее, быстрее и с каждой неделей все дальше и дальше. К восьми годам я не боялась ничего; надо сказать, моя натура переменилась настолько, что я сама искала трудностей и опасностей. Стала, в сущности, другой личностью. Отец сделал меня бесстрашной и твердой, но в результате его воспитание бумерангом ударило по нему. Если я собиралась что-то сделать, зная, что он этого не одобрит, то рассчитывала заранее, какой будет его реакция, какому наказанию он меня подвергнет, и потом готовилась к нему. И делала, что хотела, но поскольку бывала подготовлена, реакция отца и наказание меня не тревожили.
Впоследствии эта тактика сработала и против меня. Когда я стала постарше, то, что пугало меня, пусть даже сильно, – вместе с тем и очаровывало. Я испытывала потребность зайти слишком далеко просто с целью доказать себе, что способна на это. И познакомившись с Пабло, поняла, что передо мной нечто очень значительное, с чем можно потягаться. Эта перспектива подчас казалась пугающей, но и страх может быть восхитительным чувством. Поэтому я решила: пусть наши силы настолько неравны, что я рискую потерпеть сокрушительное поражение, этот вызов отвергать нельзя. Вот так проявилось мое воспитание.
Была и другая причина, более конкретная и непосредственная: я знала, что хотя весь мир начал преклоняться перед Пабло по меньшей мере за тридцать лет до моего знакомства с ним, он очень одинокий человек в своем внутреннем мире, недоступном армии окружающих его поклонников и льстецов.