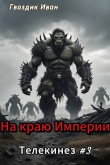Текст книги "Моя жизнь с Пикассо"
Автор книги: Франсуаза Жило
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
Мы с Пауло посмеялись над такой логикой, но это лишь озлобило Пабло еще больше. Он осмотрелся, ища, чем бы еще запустить в нас, но боеприпасы у него кончились, поэтому снова принялся орать.
– Господи, не представляю, как можно так себя вести! Немыслимо. Пытаться выбросить женщину из окна! Сумасшествие! Никогда не слышал ни о чем подобном.
Приняв ангельский вид, Пауло сказал:
– Папа, я удивляюсь тебе. Вот не думал, что у тебя такое скудное воображение. Уж ты-то должен понимать такие вещи. Неужели не читал маркиза де Сада?
Тут Пабло взорвался.
– Ты поистине отродье бедогвардейки! У меня самый отвратительный на свете сын. Буржуазный анархист! К тому же, ты тратишь слишком много денег. Только и знаешь, что накапливать долги. На что ты годен?
– Ага-хан наверняка тратит больше отцовских денег, чем я твоих, – с добродушным видом ответил Пауло.
Пабло стукнул по подушке.
– Стыдись! Сравниваешь меня с Ага-ханом. Какое неуважение! До того обнаглел, что ставишь меня на одну доску с этим отвратительным Буддой.
Я не могла сдержать смех и была выдворена из комнаты за свою дерзость. Пабло весь день не разговаривал с нами. Даже не поднялся с постели.
Вскоре после этого Пауло, устав от отцовских упреков, сказал ему, что умеет по крайней мере водить мотоцикл. Принял участие в мотогонки, стартовавшей из Монте-Карло, шедшей по извилистым Большому и Муайенскому горным карнизам и в соперничестве с профессиональными гонщиками пришел к финишу вторым. На Пабло это произвело сильное впечатление, но он так испугался, что Пауло убьется, если не бросит этого занятия, что больше ни разу не упрекал его в никчемности.
Думаю, Пауло добился бы многого, не сдерживай его мать. У него было в достатке и ума, и чувства юмора. Однажды утром в «Валиссу» приехал барон Филипп де Ротшильд. Он знал, что Пабло сделал «Человека с бараном», – статую, стоящую теперь на рыночной площади Валлориса, и хотел заказать ему изваяние барана для эмблемы своего вина «Мутон[ 28 ]28
Mouton (фр.) – баран
[Закрыть] Ротшильд», отлить его в бронзе и установить у въезда в свой замок с виноградниками возле Бордо.
– Мне нужен, – уточнил Филипп де Ротшильд, – баран с виноградными гроздьями во рту.
– Понятно, – ответил Пабло. – Желание вполне естественное. Но вы думаете, что раз я сделал козу и барана, то приму ваш заказ? Если б вы попросили меня сделать Бахуса, держащего во рту виноградные гроздья, я бы ответил: «Обращайтесь к Микеланджело. Вам нужен он». Но барана с гроздьями – вы, должно быть, не в своем уме. Никогда не слышал ни о чем подобном. Не стану даже обдумывать ваше предложение. И не знаю никого, кто стал бы.
Наверняка придя в замешательство, Филипп де Ротшильд в поисках выхода из неловкого положения обратился ко мне со словами:
– О, мадам, вы так прекрасно выглядите, это просто чудо.
Я спросила, почему.
– Знаете, я слышал, вы были парализованы.
Я поняла, что он принял меня за Ольгу, она тогда лежала в канской больнице, частично парализованная. Не ограничившись одной промашкой, он продолжал:
– Невозможно поверить, что у вас такой большой сын.
И указал на Пауло.
Тот расхохотался, потом сказал Филиппу де Ротшильду:
– Знаете, я родился преждевременно. Притом очень даже. В сущности, – и указал на меня, – раньше нее.
Тут Ротшильд догадался, что совершил самую вопиющую оплошность в жизни. Пауло закатал штанины до колен, полуприсел и принялся бегать по комнате, размахивая руками и выкрикивая: «Ма-ма, ма-ма!». Клоду, в то время трехлетнему, это так понравилось, что он последовал примеру брата, и Филипп де Ротшильд вынужден был отправиться восвояси, но без барана.
Николь Вердре изучала философию: в Гейдельберге, написала несколько романов, затем обратилась к съемке фильмов. Она добилась значительного успеха фильмом «Париж 1900», который сделала, сведя фрагменты старых лент в панораму периода с девятисотого по девятьсот четырнадцатый год. Фильм был сделан с немалой долей остроумия, сценарий был великолепен, музыка, которую написал наш друг Ги Бернар, представляла собой превосходный аккомпанемент. Пабло смотрел фильм и остался очень доволен. Однажды Николь приехала в Валлорис и сказала нам, что собирается сделать новый фильм, обращенный не к прошлому, а к будущему. Она хотела пригласить для участия в нем нескольких выдающихся современников, которых можно счесть значительными для потомков и в известной степени определяющими будущее. Среди прочих она выбрала Жолио-Кюри для разговора о ядерной физике, Жана Ростана о биологии, Сартра о философии и Андре Жида о литературе.
Для разговора о живописи ей был нужен Пикассо. Николь была дружна с Жидом уже давно. Пикассо и Жид не только всегда держались в отдалении друг от друга, но и питали легкую взаимную антипатию. Пабло упрекал Жида за полное отсутствие вкуса в живописи, поскольку тот отдавал предпочтение, основанное на чувстве дружбы, таким художникам как Жак-Эмиль Бланш. А Жид считал, что Пабло не понимает «духовных проблем», и они его почти не волнуют.
Несмотря на прохладное отношение к Жиду, Пабло согласился участвовать в фильме. Жиду тогда было уже за восемьдесят, а Пабло шестьдесят восемь. Хотя оба не имели ничего против того, чтобы другой снимался в фильме, никто из них не подозревал, что Николь Вердре сведет обоих лицом к лицу. Однако именно это и произошло, двое Ахиллов вышли из шатров и встретились на более-менее нейтральной территории музее Антиба. Там был отснят большой эпизод, в котором Жид расспрашивал Пабло о его выставленной там керамике, а Пабло объяснял ему тайны гончарного искусства. Ничего особенно волнующего в этом эпизоде не было. Историческими были сама встреча и тот факт, что оба на нее согласились.
Лицо Жида походило на китайскую театральную маску с неизменной гримасой. Живыми были только глаза, все еще необычайно яркие. Однажды мы обедали с ним в антибской гавани. С Жидом был Пьер Эрбор, собиравший материал о нем, который вскоре появился в печати, и еще один молодой человек, смуглый и очень красивый. За едой Жид сказал Пабло: «Мы оба достигли безмятежной старости», потом, указав подбородком на своего молодого человека и меня, добавил: – «И с нами наши очаровательные аркадские пастушки».
Пабло, естественно, отверг эту эстетическую интерпретацию жизни.
– Я никакой безмятежности не испытываю, – ответил он, – и плюс к тому очаровательных лиц не существует.
В другой день Жид приехал к нам с визитом. Я с ним прекрасно ладила, и это уменьшало неприязнь Пабло к нему. Спускаясь по лестнице от дома к дороге Жид обратился к Пабло:
– Во Франсуазе мне очень нравится одна черта. Она из тех людей, которые могут испытывать раскаяние, но не сожаление.
– Не представляю, о чем вы, – ответил Пабло.– Думаю, Франсуаза ни о чем не жалеет, тем более, ни в чем не раскаивается.
– Сразу видно, – сказал Жид, – что вам недоступно целое измерение ее внутренней жизни.
Это явилось концом их отношений, так как Пабло не мог допустить мысли, что Жид обнаружил во мне что-то такое, чего не разглядел он сам. Больше они не встречались.
По замыслу автора фильма мне нужно было встречать Пабло, когда он покидал музей Антиба, и делать массу других вещей, совершенно мне не свойственных. Такие сцены приходилось снимать по десятку раз, если не больше, потому что нас обоих разбирал смех. Обычно либо мы проводили целые дни вместе, либо каждый отправлялся по своим делам, но у меня никогда не было обыкновения бежать навстречу ему к музейным дверям, как те женушки, что ждут у завода или конторы мужей после тяжких дневных трудов.
Был еще один эпизод, показывающий Пабло за работой в гончарной. Снимать это было очень сложно, потому что в тот день многие рабочие бездельничали и шли поглазеть на происходящее.
Жак Превер смешил всех до колик тем, что брал изготовленные Пабло тарелки и прикладывал к лицу, словно маску. Снимать эту сцену пришлось много раз. К тому же, то и дело перегорали предохранители, свет гас. Все, кроме электриков, очень веселились.
Был эпизод на пляже, в котором режиссер намеревался показать нас в минуты отдыха. На нас смотрели все купальщики, вся съемочная группа, все наши друзья-пришедшие туда по такому случаю, так что держаться естественно было нелегко. Мы вбегали, брызгаясь, в воду, выбегали оттуда, и Пабло растягивался на песке, словно мы были совершенно одни на необитаемом острове, хотя пляж никогда не бывал так переполнен, как в тот день. Заниматься этой чепухой было не особенно приятно, а уж видеть это на экране и вовсе не было желания. Так что этот фильм я не смотрела.
До лета сорок девятого года Пабло довольствовался тем, что два-три дня в неделю работал в «Мадуре», но тут вдруг керамика ему надоела, и он стал искать места, где можно заниматься живописью. Сперва мы искали жилье побольше, чтобы он мог работать дома, но не нашли ничего подходящего за ту цену, которую Пабло не считал бы грабительской. Потом ему пришла мысль снять здание старой парфюмерной фабрики на улице дю Фурне.
Оно было Г-образной формы, с хорошим северным освещением. Над просторными помещениями первого этажа находились маленькие комнаты, где можно было бы жить, не будь они в таком скверном состоянии. Пабло превратил правое крыло в скульптурную мастерскую, в левом занимался живописью. В комнатках наверху хранил керамику. Нам потребовалось два месяца, чтобы привести все в порядок, и в октябре Пабло начал работать там. Обычно он приходил туда после обеда и работал допоздна.
Здание было очень примитивной постройкой, без центрального отопления, поэтому нам пришлось устанавливать в каждой комнате большую печку. Скульптурная мастерская была большой, с высоким потолком, примерно тридцать пять на двадцать пять футов. Туда требовалась и соответствующая печь с идущими по всем стенам трубами. А поскольку черепичная крыша было отнюдь не сплошной, тепло уходило через нее, поэтому печь нужно было топить все утро. Там были еще две живописные мастерские, каждая с большой печью. Все эти печи приходилось затапливать в восемь утра; иначе работать там днем было холодно.
Пабло мягко, но не двусмысленно, дал мне понять, что лишь когда я развожу огонь, помещение прогревается настолько, что он может находиться там в течение долгих часов, поэтому, терпеливо оживив поутру отопительную систему в «Валиссе», я ехала на велосипеде к мастерской и растапливала печи там. Разумеется, перед этим приходилось убирать из них вчерашнюю золу. С начала ноября до конца апреля у меня это было ежедневной утренней гимнастикой.
Я бы не имела ничего против этого распорядка дня даже зимой, только мы с Пабло обычно ложились очень поздно, и я спала мало: не больше шести часов. Пабло спал, как правило, до полудня, но на мне лежала обязанность заботиться о доме и организации его дня. Растопка печей в «Валиссе» и мастерской являлась только прелюдией. Я разбирала почту, отбирая письма, требующие немедленного прочтения. Поскольку Пабло никогда не отвечал на них, писать ответы приходилось мне. Телефона в «Валиссе» не было, и я бывала вынуждена ходить в гончарную, смотреть, что нужно сделать там. Иногда показывала людям его изделия. Но прежде всего требовалось одеть и умыть детей, а когда они подросли, – собрать их в детский сад, куда они ежедневно отправлялись с Марселем на машине. После рождения Клода Пабло стал делать фрейдистскую обмолвку, довольно забавную: всякий раз, имея в виду ребенка, l’enfant, он говорил argent, деньги. На улице Великих Августинцев Клод спал в комнате, смежной с нашей. Мы укладывались в постель около часа или двух ночи, когда Пабло заканчивал работу. Однажды часа в три Пабло внезапно сел в постели и сказал:
– Аржан умер. Я не слышу его дыхания.
Я совершенно ничего не поняла. И видя, что сказано это не во сне, спросила, что он имеет в виду.
– Прекрасно знаешь, что ребенка, – ответил он.
Я сказала, что такой странной оговорки ни разу не слышала .
– Ты сама не знаешь, что говоришь, – ответил Пабло. – Это самая естественная на свете вещь. Даже Фрейд так считает. В конце концов, ребенок – это богатство матери. Деньги – другая разновидность богатства. Ты ничего не смыслишь в таких вещах.
Я сказала, что явственно слышу дыхание сына в соседней комнате.
– Это ветер, – возразил он. – Мой аржан умер. Сходи, посмотри.
Я пошла взглянуть на Клода. Он преспокойно спал. Возвратясь в спальню, я сказала Пабло, что ребенок жив. Так происходило раза два в неделю. Клод, когда я подходила к нему, часто просыпался; приходилось проводить с ним около получаса, пока он не засыпал снова. Разумеется, такая забота приучила ребенка удваивать требования родительской любви и внимания к себе.
Впоследствии, когда мы жили главным образом в Валлорисе, и Клод спал в дальней комнате, мне приходилось ходить к нему чуть ли не еженощно, потому что часа в три Пабло начинал беспокоиться, не задохнулся ли Клод, уткнувшись лицом в подушку. Иногда после первой моей проверки он успокаивался. Иногда через десять минут приходил в беспокойство снова. В иные ночи, в зависимости от степени его беспокойства мне приходилось подниматься пять-шесть раз. Летом, когда Пабло много двигался на пляже, такое случалось редко, но зимой это было его излюбленным развлечением. После рождения Паломы Пабло начал все заново, так серьезно и настойчиво, словно мы это еще не проходили. Он был очень заботливым: все двери между комнатами требовал оставлять открытыми, чтобы ему все было слышно. Поскольку зимы там ветреные, по спальням гулял сквозняк, и мы все часто простужались.
Днем его беспокойство не утихало. Зачастую, приходя домой, он спрашивал: «Где аржан?». Иногда я отвечала: «В чемоданчике», потому что Пабло повсюду носил с собой старый чемоданчик из красной кожи с пятью-шестью миллионами франков, чтобы, по его выражению, «располагать суммой на пачку сигарет». Но если я думала, что Пабло имеет в виду кого-то из детей, то отвечала: «В саду», он зачастую говорил: «Нет, я про деньги в чемоданчике. Надо их пересчитать». Пересчитывать деньги не имело смысла, потому что чемоданчик всегда бывал заперт, единственный ключ находился у Пабло, и он всегда держал его при себе.
– Считать будешь ты, – говорил он, – а я тебе помогу.
Пабло вынимал все деньги, упакованные в банке в маленькие пачки по десять купюр, и раскладывал небольшими стопками. Иногда он пересчитывал купюры в пачке, и у него оказывалось одиннадцать. Отдавал ее мне, и у меня получалось десять. Он снова считал сам и на сей раз насчитывал девять. Это вызывало у него подозрение, поэтому нам приходилось по очереди проверять все пачки. Пабло очень восхищался тем, как Чаплин считал деньги в фильме «Месье Верду» и пытался делать это так же быстро. В результате делал все больше и больше ошибок, соответственно пересчитывать вновь приходилось все больше и больше. Иногда на этот ритуал у нас уходило по часу. В конце концов Пабло, устав от этой игры с купюрами, сдавался и говорил, что удовлетворен, независимо от того, сходилось сумма в итоге или нет.
В промежутках между всевозможными делами мне удавалось выкраивать время, чтобы писать самой. Придя жить на улицу Великих Августинцев, я забросила кисти года на три и все свободное время отдавала рисунку. Мне казалось, если я буду писать, то работая рядом с Пабло, не смогу избежать его влияния. А если сосредоточусь на структурных особенностях рисунка, то скорее буду добиваться успехов в своем самобытном развитии, и если окажусь под влиянием Пабло, это будет легче заметить, потому что в графике меньше элементов, чем в живописи. В сорок восьмом году я начала работать гуашью, а в сорок девятом вернулась к маслу.
Работать в мастерской Пабло я не могла, хотя места там хватало. Дома у меня было больше помех, но я имела возможность приглядывать за детьми и не только за ними. Палома редко беспокоила меня. Она была, как часто говорил Пабло, идеальной девочкой. Почти все время спала, ела все, что давали, и вела себя образцово.
– Она будет превосходной женщиной, – говорил Пабло, – пассивной и послушной. Всем девочкам надо быть такими. Они должны точно так же спать до двадцати одного года.
Он подолгу писал и рисовал Палому спящей, действительно, она была до того пассивной, что редко разговаривала с ним или со мной. Однако когда бодрствовала, мы слышали, как она болтает с Клодом без умолку. Потом Клод разговаривал с нами за обоих. Казалось, она хотела оставаться малышкой. Подносила нам цветы, лепеча по-детски, еще долго после того, как стала нормально разговаривать с братом. Никогда не пререкалась. Клод же вступал в спор по любому поводу. После одного из затянувшихся разговоров с ним Пабло сказал ему:
– Ты сын женщины, говорящей «нет». Вне всяких сомнений.
Должно быть, большую часть времени дети чувствовали себя одиноко: отца почти не видели, а мать запиралась в мастерской, когда удавалось улучить часок-другой.
Однажды во время работы над картиной, которая мне никак не давалась, я услышала робкий стук в дверь.
– Да, – ответила я, не кладя кисти. Из-за двери раздался тихий голос Клода.
– Мама, я люблю тебя.
У меня возникло желание выйти, но в ту минуту я никак не могла оторваться от картины.
– И я тебя, дорогой, – ответила я, продолжая работать. Прошло несколько минут, и я вновь услышала его голос.
– Мама, мне нравятся твои картины.
– Спасибо, дорогой, – ответила я. – Ты ангел.
Через минуту Клод снова заговорил:
– Мама, то, что ты делаешь, великолепно. В твоих картинах есть фантазия, но они не фантастические.
От этих слов рука у меня замерла, но я промолчала. Клод, видимо, почувствовал, что я колеблюсь. И сказал погромче:
– Они лучше папиных.
Я подошла к двери и впустила его.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
Из всех художников, которых Пабло знал и навещал в те годы, что я с ним провела, никто не значил для него так много, как Матисс. Когда мы нанесли ему первый визит в феврале сорок шестого года /Пабло тогда приехал проведать меня в дом месье Фора в Гольф-Жуане/, он жил на вилле под названием «Мечта» в Вансе. Он переехал туда из Симьеза, городка на холмах над Ниццей, где приходил в себя после двух операций, перенесенных в Лионе весной сорок первого года. Сиделка, которая ухаживала за ним в Симьезе, решила стать монахиней. Она была молодой, хорошенькой, позировала для всех рисунков, которые Матисс сделал для изданных Териаде «Писем португальской монахини». В сорок третьем году он переехал в Ванс. Через улицу напротив его виллы находился доминиканский монастырь. Впоследствии его бывшая сиделка – ныне сестра Жак – поступила туда послушницей и часто заходила к нему. В один из визитов она принесла свой эскиз для витража в новой капелле, которую собирался строить монашеский орден. В результате их обсуждений и дискуссий с доминиканцем-послушником братом Рессегю и отцом Кутюрье, тоже доминиканцем и ведущим представителем современного искусства в церковных кругах, Матисс был назначен главным руководителем строительства и оформления доминиканской капеллы в Вансе.
Три четверти дня Матисс был прикован к постели, но это не охлаждало его энтузиазма. Он велел прикреплять лист бумаги к потолку над кроватью и по ночам, поскольку спал мало, угольным карандашом, привязанным к концу длинной бамбуковой палки, набрасывал портрет святого Доминика и другие элементы росписи. Потом, разъезжая на кресле-каталке, переносил свои рисунки на большие керамические плиты, покрытые полуматовой эмалью, по которой мог рисовать черным.
Матисс считал, что в капелле не должно быть ничего цветного, кроме света из витражных окон. Делал макеты витражей почти в той же манере, что и аппликации, на которые потратил значительную часть своих последних лет. Он поручил Лидии раскрашивать большие листы бумаги в разные цвета для фона и прикалывать их кнопками в указанных местах. Потом показывал палкой, куда прикладывать вырезки другого цвета, из которых составлял композицию. Он сделал три серии макетов. Первая была строго геометрической и по-своему очень удачной, но он отверг ее, потому что она не создавала желаемого эффекта. Другая была в духе таитянского лиственного орнамента, сходного с тем, на котором он, в конце концов, остановился, но с другими пропорциями. Палитра, которой он работал, включала в себя ультрамарин, темно-желтый и зеленый цвета. Он хотел, чтобы все элементы витража были примерно одинаковой величины, дабы проходящий через них свет равномерно разделялся. Поэтому просил о том, что не применялось раньше: чтобы стекла снаружи были матовыми. Считал, что в противном случае, к примеру, синий цвет будет гораздо менее ярким, чем желтый. А с матовыми стеклами яркость будет везде одинаковой. Но когда эти окна установили в капелле, из них падал одинаковый розовато-лиловый свет. И отражаясь на керамических плитах, которые оказались не полуматовыми, а блестящими, он становился фиолетовым. Это производило не особенно приятное впечатление; определенно не то, какого добивался Матисс.
Пабло счел эту работу неудачной.
– Если Матисс понимал, что свет внутри будет розовато-лиловым, – сказал он после одного из наших посещений капеллы, – следовало б использовать внутри какие-то другие цвета, чтобы противодействовать этому эффекту. Если капелла замышлялась черно-белой, там никакого цвета не было нужно, разве что пятно, но красного или какого-либо другого резкого цвета, но не этого розовато-лилового. Из-за него капелла напоминает ванную.
Однажды мы приехали к Матиссу, когда он работал над эскизами к витражам, ризам и всем элементам оформления капеллы. В тот день там был отец Кутюрье, главный посредник, с которым Матисс виделся в связи со своей работой. Он был мне знаком. В доминиканском колледже, который я посещала в ранней юности, во мне видели одну из главных возмутительниц спокойствия и часто были вынуждены отправлять меня вести дискуссию на высоком богословском уровне с несколькими священниками в надежде, что они смогут ответить на мои каверзные вопросы – мне было очень трудно принимать некоторые догмы, например, что вне церкви нет спасения души. В этой связи я и встречалась с отцом Кутюрье.
В наш предыдущий приезд Пабло сказал Матиссу:
– Ты спятил, взявшись делать капеллу для этих людей. Веришь ты во всю эту ерунду или нет? Если нет, стоит ли делать что-то ради идеи, в которую не веришь?
В тот день, когда мы приехали, Матисс рассказывал об этом отцу Кутюрье, и тот ответил:
– Можете говорить что угодно о Пикассо, но он пишет собственной кровью.
Видимо, это было сказано, чтобы угодить Пабло, но он был не в том настроении, чтобы обольщаться фразой, какой бы лестной она ни была, и вновь заговорил с Матиссом на ту же тему, что и в прошлый приезд:
– Так почему ты делаешь эти вещи? Я бы это одобрил, если б ты верил в то, что они символизируют, но раз не веришь, то, по-моему, не имеешь морального права делать их.
– Для меня, – ответил Матисс, – это прежде всего произведение искусства. Я только привожу себя в состояние духа, соответствующее тому, что делаю. Не знаю, верю в Бога или нет. Пожалуй, я в некотором роде буддист. Но тут главное привести себя в состояние духа близкое к молитвенному.
Отец Кутюрье определенно решил извлечь из этого всю возможную духовную выгоду, как бы она ни отдавала буддизмом. Обращаясь ко мне, он сказал:
– Вы же прекрасно знаете, что мы открыты всем идеям. Не пытаемся всех уподобить себе. Нам гораздо важнее быть открытыми для всех духовных перспектив.
И в подтверждение широты своих доминиканских взглядов сослался на дискуссии, которые вел со мной в колледже. На это я ответила ему:
– С тем обаянием, которым располагаете, вы будете делать все – даже пойдете в мир кино и театра – для уловления тех немногочисленных несчастных душ, какие еще возможно уловить. А что вы делали, когда обладали могуществом? Во главе испанской инквизиции стояли доминиканцы. Ваше оружие меняется в зависимости от ваших возможностей.
Пабло потирал руки, довольный тем, что наконец-то я реагирую в наступательной манере, за отсутствие которой часто упрекал меня. Я нередко замечала, что в подобных ситуациях он словно бы давал мне полную волю, и когда я оказывалась на высоте положения, сиял, словно гордый владелец молодой кобылы, пришедшей первой на скачках.
Что до Матисса, буддиста ли, христианина, он лучился безмятежностью, которую я нашла очень трогательной. И однажды сказала ему об этом.
Он ответил:
– Я не надеялся встать после второй операции, но раз поднялся, то, видимо, доживаю последние дни. Каждый новый день является для меня подарком. Я принимаю его с благодарностью, не загадывая, что будет завтра. Совершенно забываю свои физические страдания, все неприятности нынешнего положения, и думаю только о радости снова видеть восходящее солнце и иметь возможность немного поработать, пусть даже мне это трудно.
Матисс, по рассказам Пабло, характером и замашками напоминал до операции буржуа. Пабло говорил, что недолюбливал Матисса, когда они были моложе, и не мог долго находиться в его обществе. Но с тех пор, как мы стали жить на юге, они стали видеться все чаще и чаще. Пикассо питал к Матиссу чуть ли не благоговение, потому что в манерах его отражались внутренняя уравновешенность, невозмутимость, умиротворяющие даже таких людей, как Пабло. К тому же, мне кажется, Матисс выбросил из головы всяческие мысли о соперничестве, и это сделало возможной их дружбу. Его самоотрешенность была определенно положительным элементом в их отношениях. Матисс мог позволить себе роскошь быть другом Пабло. Для него было важно видеть Пабло, несмотря на саркастические замечания и проявления дурного нрава, которые тот иногда позволял себе. К Пабло у него было какое-то отеческое отношение, и это тоже помогало, потому что в дружбе Пабло неизменно брал, а отдавали другие. При их встречах Пабло бывал активной стороной, Матисс пассивной. Пабло всегда старался очаровать Матисса, словно танцор, но в конце концов Матисс покорял Пабло.
– Мы должны разговаривать как можно больше, – сказал ему однажды Матисс. – Когда один из нас умрет, останутся предметы, о которых другой не сможет разговаривать больше ни с кем.
Впоследствии, когда Матисс опять жил в отеле «Регина» в Симьезе, мы раза два в месяц приезжали повидаться с ним. Пабло почти всегда привозил показать ему свои последние картины или рисунки, иногда и я привозила свои. Матисс поручал Лидии показать нам то, что сделал, или если он работал над аппликациями, мы видели их приколотыми кнопками на стенах.
Однажды, когда мы приехали, у Матисса был только что купленный халат китайского мандарина, очень длиннополый, из лилово-розоватого шелка, отороченный мехом барса из пустыни Гоби. Он мог стоять на полу, и Матисс поставил его перед светло-лиловой арабской драпировкой. Халат был очень толстым, с высоким белым воротником.
– В нем будет позировать моя новая натурщица, – сказал Матисс, – но сперва я хотел бы взглянуть, как он выглядит на Франсуазе.
Пабло не понравилась эта мысль, но Матисс настаивал, поэтому я примерила халат. Он доходил мне до макушки, и я полностью утонула в этом сужающемся книзу одеянии.
– О, я мог бы сделать из этого нечто замечательное, – сказал Матисс.
– Если сделаешь, – сказал Пабло, – тебе придется отдать мне картину, а ей халат.
Матисс пошел на попятный.
– Знаешь, халат на Франсуазе выглядит замечательно, но для твоих картин он совсем не годится.
– Ничего, – сказал Пабло.
– Нет, – заявил Матисс. – У меня есть кое-что более для тебя подходящее. Из Новой Гвинеи. Статуя человека в натуральную величину, совершенно дикарская. Для тебя в самый раз.
Лидия принесла ее. Она была сделана из древовидного папоротника, с яркими синими, желтыми и красными полосами, очень примитивная и не особенно старая. Больше натуральной величины, довольно помятая, ноги были привязаны веревками – вся из кусочков, кое-как подогнанных друг к другу, увенчанная оперенной головой. Гораздо некрасивее многих вещей из Новой Гвинеи, какие мне доводилось видеть. Пабло взглянул на статую и сказал, что у нас в машине некуда погрузить ее. Пообещал Матиссу прислать за ней на другой день.
Матисс неохотно согласился.
– Но пока вы не уехали, хочу показать вам свой платан, – сказал он. Мне стало любопытно, как он смог втащить дерево в гостиничный номер. Тут вошла великанша лет двадцати, никак не меньше шести футов ростом.
– Вот мой платан, – сказал Матисс, лучезарно улыбаясь.
Когда мы вышли, Пабло заговорил:
– Заметила, как расстроена Лидия? Там что-то происходит, можешь быть уверена. Но не кажется ли тебе, что вести себя так с женщинами в его возрасте несколько нелепо? Ему следовало бы слегка остепениться.
Я сказала Пабло, что меня удивляет, как он может относиться так по-пуритански к другим, когда себе позволяет все, что вздумается. К тому же, добавила я, не виду ничего дурного в том, что такой больной и старый человек как Матисс находит тепло и радость в том, что позволяет взгляду и духу следовать по изгибам тела молодой женщины.
– Терпеть не могу эту эстетическую игру глаз и мысли, – сказал Пабло, которой увлекаются эти знатоки, эти китайские мандарины, «ценящие» красоту. Да и что такое красота? Никакой красоты не существует. Я ничего не «ценю», ничем не «восхищаюсь». Я люблю или ненавижу. Когда люблю женщину, это буря, которая крушит все – особенно мою живопись. Меня все осуждают за то, что я не боюсь открыто жить своей жизнью – возможно, с большим нарушением приличий, чем большинство остальных, но притом определенно с большей прямотой и смелостью.
Еще больше меня разряжает, что поскольку я не стесняю себя условностями и живу такой жизнью, все думают, что я не выношу изящных вещей. Когда сорок лет назад я заинтересовался африканским искусством и создал то, что именуется негритянским периодом в моем творчестве, произошло это потому, что я был противником того, что именуют красотой в музеях.
Для большинства людей тогда африканская маска являлась этнографическим предметом. Когда я впервые по настоянию Дерена пошел в музей Трокадеро, запах сырости и гнили стеснил мне дыхание. Мне захотелось уйти, но я остался и внимательно все осмотрел. Люди делали эти маски и прочие вещи для священной, магической цели, как своего рода щит между собой и неведомыми враждебными силами, окружающими их, чтобы преодолеть свои страхи и ужасы, придав им обличье и образ. Тогда-то я и понял, что ради этого и существует живопись. Она не эстетическое действо; это форма магии, предназначенная служить щитом между этим непонятным, враждебным миром и нами, это способ обрести силу приданием обличья нашим страхам и нашим желаниям. Уразумев это, я понял, что нашел свой путь.