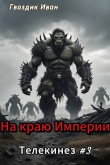Текст книги "Моя жизнь с Пикассо"
Автор книги: Франсуаза Жило
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
К «Мастерской шляпника» и «Серенаде» мы прибавили написанную в тридцать шестом – тридцать седьмом годах серо-белую сидящую фигуру, красивую «Голубую эмалированную кастрюлю» сорок пятого года, «Кресло-качалку» сорок третьего, «Музу» тридцать пятого, натюрморт тридцать шестого с лимоном и апельсинами, еще один сорок третьего года с тремя стаканами и миской черешен, портрет Доры Маар в голубых тонах сорок четвертого и более ранний многокрасочный, написанный в тридцать восьмом.
Хотя картины предназначались для музея современного искусства, Жорж Саль распорядился сперва отправить их в Лувр, где находился его кабинет. Однажды он позвонил и пригласил нас приехать во вторник, когда музей закрыт для публики. Ему пришло в голову устроить забавный эксперимент. Он сказал, что поручит охранникам переносить картины Пабло в разные части музея, чтобы посмотреть, как они выглядят рядом с шедеврами прежних времен.
– Вы будете первым из художников, увидевшим при жизни свои работы в Лувре, – сказал Жорж Саль.
В ближайший вторник Пабло поднялся по его понятиям очень рано, и к одиннадцати часам мы были готовы к поездке в Лувр. Он казался более серьезным, чем обычно, почти не разговаривал. Жорж Саль повел нас на верхний этаж в большое хранилище, где находились картины Пабло. В помещении почти ничего не было, кроме большого старого холста, закрывавшего большую часть пола. Охранники взяли все картины Пабло за исключением двух больших, и мы пошли по лежавшему холсту устраивать эксперимент. Внезапно на лице Жоржа Саля отразился ужас.
– Да вы же идете по изнанке моего Делакруа, – спохватился он. – Ради Бога, сойдите.
Громадное полотно Делакруа покрылось сырыми пятнами, и его сняли для просушки и реставрации. Оно лежало лицевой стороной вниз, поэтому изображения не было видно.
Когда мы пришли в картинные галереи, Жорж Саль спросил, рядом с чьими картинами Пабло хотел бы видеть висящими собственные.
– Прежде всего с сурбарановскими, – ответил Пабло. Мы подошли к «Святому Бонавентуре на смертном одре», где святой изображен в окружении людей, пришедших в последний раз поклониться ему. Тело святого расположено на полотне диагонально, поднимаясь от нижнего левого угла к верхнему правому. Пабло неизменно восхищался этой смелой композицией и тем, как Сурбаран сумел уравновесить ее другими силовыми линиями на картине. Пабло часто водил меня в Лувр разглядывать ее вместе с ним. Он пристально смотрел, как охранники поднимали одну за другой четыре его картины и держали рядом с Сурбараном, однако ничего не сказал. Потом попросил меня посмотреть некоторые его полотна рядом со «Смертью Сарданапала», «Резней на Аиосе» и «Алжирскими женщинами» Делакруа. Он часто говорил мне о создании собственной версии «Алжирских женщин» и примерно раз в месяц водил меня в Лувр рассматривать эту картину. После Делакруа охранники подержали его картины рядом с «Мастерской» и «Похоронами в Орнане» Курбе. Потом Жорж Саль спросил, не хочет ли он посмотреть свои картины рядом с полотнами итальянской школы.
Пабло ненадолго задумался.
– Меня интересует только Уччелло – «Битва при Сан-Романо». Хотелось бы видеть рядом с этой картиной одно из своих кубистских полотен. Поскольку под рукой нет ни одного, думаю, на сегодня достаточно.
Когда мы уходили, он не высказал ни единого замечания. Дома сказал, что ему было особенно интересно увидеть свою картину рядом с полотном Сурбарана. Казалось, он удовлетворен этим экспериментом. Я спросила, как он относится к Делакруа. Слегка прищурившись, Пабло ответил:
– Настоящий мастер, черт бы его побрал.
Живя в Париже, мы часто бывали в кафе «Брассери Липп» в Сен-Жермен-де Пре. Если Пабло хотелось снять нервное напряжение, там можно было посидеть, поговорить с другими художниками. Одним из его любимых собеседников был скульптор Джакометти. Всякий раз, когда мы видели его в том кафе, руки его казались измазанными в глине, волосы и одежда бывали покрыты серой пылью.
– Тебе следует повидать мастерскую Джакометти, – однажды вечером сказал мне Пабло. – Мы наведаемся к нему.
Когда мы покидали «Брассери Липп», он спросил скульптора, в какое время можно застать его там.
– В любое время до часу дня наверняка застанете, – ответил тот. – Я поднимаюсь ненамного раньше.
Несколько дней спустя по пути на обед мы зашли в мастерскую Джакометти на славной маленькой улочке в районе Алесия. Это тихий, скромный квартал с маленькими бистро и мастерскими ремесленников, с духом неизменности и дружелюбия, утраченным во многих частях Парижа. Чтобы попасть к Джакометти. мы вошли из переулка в небольшой дворик с маленькими деревянными мастерскими по обеим сторонам. Пабло показал мне две смежные комнаты скульптора и примыкающую к ним другую мастерскую, где работал его брат Диего. Этот весьма одаренный ремесленник целиком отдавал себя работам брата. Джакометти часто трудился допоздна, делая глиняные этюды для скульптур. Наутро у него могло возникнуть желание уничтожить их, если они его не удовлетворяли, но Диего поднимался, когда брат еще лежал в постели, и начинал формовать глиняные слепки, делать прочие технические работы, к которым брат не имел склонности, чтобы продвинуть и сохранить начатое. Он служил посредником между Джакометти и отливщиком.
Джакометти стал знаменитым задолго до того, как начал достаточно зарабатывать. Диего работал за двух помощников – нанять которых его брату было не по карману. Изготавливал также красивые вещи, спроектированные братом – подставки для настольных ламп, торшеры, дверные ручки и люстры – что помогало им сводить концы с концами. Когда Джакометти начал заниматься не только ваянием, но и живописью, Диего стал одним из основных его натурщиков – это было чуть ли основной его работой, потому что Джакометти неустанно делал эскизы с натуры.
Когда мы вошли в мастерскую, меня поразило, до какой степени ее вид напоминал картины Джакометти. Деревянные стены так напитались цветом глины, что казались глиняными, мы находились в центре мира, целиком созданного Джакометти, мира, состоящего из глины и населенного изваянными им статуями, и очень высокими, и еле видимыми. Все было однообразно серым. Видя Джакометти в его родной стихии, я поняла, что поскольку все предметы в мастерской – щетки, арматура, бутылки со скипидаром – обрели этот цвет, он сам не мог избежать той же участи. Маленькая смежная комната была точно такой же, только там еще стоял диван, серый, утративший свой первоначальный окрас.
Примерно через год после этого визита, к нам явилась хорошенькая швейцарская девушка по имени Аннетта, желавшая стать секретаршей Пабло. Он обратил ее просьбу в каламбур.
– Хорошей секретарше нужно уметь хранить людские секреты, – сказал он ей. – Но какой дурак станет их выбалтывать? С другой стороны, если у меня нет секретов, секретарша мне не нужна.
В ее услугах он не нуждался и высказал ей это таким образом. Вскоре после этого она вышла замуж за Джакометти и прекрасно вписалась в тональность его мастерской. Ее и так очень белое лицо стало еще белее. Но две черты добавляли к общему фону черные штрихи: ее глаза и волосы. С Аннеттой Джакометти обрел вторую тень. Она стала еще одной неустанной моделью, способной подобно Диего позировать всю ночь, если у Джакометти было желание работать, а отсыпаться днем.
Иногда муж и жена с течением времени начинают походить друг на друга. Внешне Аннетта на Джакометти совершенно не походила. Она была худощавой, бледной, с правильными чертами лица, прорезанного глубокими морщинами; с большой львиной головой, обладающей величественностью и благородством. Но несмотря на хрупкость, Аннетта стала обретать нечто сурово-львиное в осанке наряду с пропорциями, какие Джакометти придавал своим стройным, изящным статуям: совершенным каноном, который он использовал в своих скульптурах.
Джакометти объяснил нам, что одна из главных его забот – уловить характерную черту или соотношение, которые дают возможность узнать знакомого человека издали – понять, что это не просто мужчина или женщина, а конкретная личность.
– Находящийся вдали человек в наших глазах лишен индивидуальных черт, подобно булавке, если мы не знаем его, – сказал он. – Если это наш знакомый, мы его узнаем, и он становится для нас личностью. Почему? Благодаря соотношениям между его объемами и размерами. Если у него ввалившиеся глаза, тени на щеках длиннее. Если у него большой нос, на этом месте более заметно световое пятно, и он для нас уже больше не булавка. Поэтому дело скульптора – заставить эти выпуклости и впадины создавать индивидуальность, выявляя те существенные черты, которые говорят нам, что это тот человек, а не другой.
Статуи Джакометти обычно статичны в том смысле, что их руки опущены вдоль тела, а ноги не предполагают ходьбы. Но всякий раз, когда я видела изваяния там, в глинисто-серой мастерской, у меня, может быть, из-за их всевозможных размеров, создавалось впечатление, что все они движутся либо ко мне, либо от меня. Со временем, по его словам, он стал больше думать об улице и делать статуи человека на бронзовой пластине, словно бы идущего между двумя другими пластинами, изображающими дома. В связи с этими вещами нельзя говорить о схваченном движении, потому что все как раз наоборот. Это нечто почти статичное в процессе становления динамичным через свое намерение. Впечатление движения или жизни создается благодаря чувству пропорций у Джакометти. Он создает иллюзию, что его люди движутся, не имитацией какого-то жеста, а пропорциональностью и вытягиванием материала. Одна из его скульптур изображает человека совершенно статичного, но на колеснице с колесами. Это движение и вместе с тем неподвижность.
Если Пабло работал над какой-нибудь скульптурой, то когда Джакометти приходил на улицу Великих Августинцев повидаться с ним, они обсуждали эту скульптуру до малейших деталей. Однажды Пабло казался очень довольным скульптурой, которую завершил, включив в нее отдельную вещь, обладающую собственной жизнью и самобытностью: женской фигурой высотой пять футов четыре дюйма, одно из предплечий ее было сформировано добавлением скульптуры с острова Пасхи. Осмотрев ее, Джакометти сказал:
– Ну что ж, голова хороша, но может, все прочее не стоит оставлять в таком виде? Ты хотел сделать именно это? Мне представляется более важным воплотить заложенный принцип, чем извлекать пользу из счастливой случайности. Это не больше, чем счастливая случайность, избавься от нее и доведи работу до той ступени, когда станет видно, что ты сделал скульптуру в соответствии с порождающей ее силой.
Думаю, из всех, кто приходил на улицу Великих Августинцев Джакометти единственный, с кем Пабло охотнее всего обсуждал такие вопросы, потому что интересы этого скульптора не были чисто эстетическими. По словам Пабло, Джакометти неизменно задавался коренными вопросами бытия, чтобы прояснить подлинную цель своих работ.
– Большинство скульпторов озабочено вопросами стиля, – говорил Пабло, – не меняющими радикально сущности проблемы.
Он считал, что Джакометти часто меняет что-то в сущности проблемы, что-то важное для скульптуры в целом, и это придает его работам восхитительное единство.
– Когда он изображает в скульптуре, как люди переходят улицу, идут из дома в дом, то видно, что это люди, идущие по улице, и ты находишься на определенном расстоянии от них, – говорил Пабло. – Скульптура для Джакометти – то, что остается, когда все подробности улетучиваются из памяти. Он озабочен некоей иллюзией пространства, далекой от моего подхода, но это до сих пор не приходило никому в голову. Это поистине новый дух в скульптуре.
С Ольгой Хохловой, женой Пабло, я познакомилась примерно через месяц после того, как поселилась на улице Великих Августинцев, незадолго до нашей поездки в Менерб. Мы тогда пошли на выставку картин Доры Маар в галерее Пьера Леба. Когда вышли оттуда и сворачивали с улицы де Сен на улицу Мазарини, к нам подошла невысокая рыжеволосая женщина средних лет с тонкими, плотно сжатыми губами. Это была Ольга. Пабло представил мне ее. Когда она приближалась, я обратила внимание, что она ходит мелкими, твердыми шажками, словно цирковой пони. Лицо ее было веснушчатым, морщинистым, каревато-зеленые глаза во время разговора бегали, не обращаясь прямо на собеседника. Она повторяла все, что говорила, будто заигранная пластинка, и когда ушла, стало ясно, что, в сущности, не сказала ничего. Увидев ее, я сразу поняла, что она в лучшем случае крайне нервозна.
Я только впоследствии догадалась, что она, должно быть, ждала возле галереи, обозленная тем, что Дора Маар, до сих пор казавшаяся ей самой серьезной соперницей – хотя Пабло покинул Ольгу более десяти лет назад, и не из-за Доры, а ради Мари-Терезы Вальтер – устроила выставку, и Пабло, очевидно, там. Увидев, что он уходит из галереи с другой женщиной, Ольга, видимо, почувствовала облегчение, так как немного поболтала с нами, держалась вполне любезно и не соответствовала той характеристике, какую дал ей Пабло. Однако узнав, что я, в сущности, заняла место Доры Маар, радикально изменила свою тактику. Лютую ненависть, которую совершенно неоправданно питала к Доре, она перенесла на меня.
Ольга, хотя Пабло оставил ее в тридцать пятом году, взяла манеру всюду следовать за ним. Когда он жил в Париже, приезжала в Париж. Когда уезжал на юг, ехала за ним туда и останавливалась в отеле по соседству. Летом сорок шестого года я ее на юге не видела. Думаю, она еще не знала о моей роли. Но когда родился Клод, она разнюхала все подробности нашей совместной жизни и с тех пор не давала нам ни минуты покоя. Летом сорок седьмого года всякий раз, когда мы приходили на пляж – и с нами часто бывал ее сын Пауло – Ольга усаживалась вблизи. Сперва начинала заговаривать с Пабло. Он не слушал или даже поворачивался к ней спиной. Тогда обращалась к сыну: «Видишь, Пауло, я здесь и хочу поговорить с твоим отцом. Я должна поговорить с ним. Сказать ему нечто очень важное. Не знаю, как он может делать вид, что меня тут нет, я же здесь».
Пауло пропускал ее слова мимо ушей. Тогда Ольга придвигалась поближе к Пабло и заявляла: «Мне надо поговорить с тобой о твоем сыне». Не получив ответа, она снова обращалась к Пауло: «Мне нужно поговорить с тобой о твоем отце. Это очень важно». Зачастую она угрожала Пабло физическим увечьем, если он немедленно не оплатит ее счет в отеле.
Ольга принялась преследовать нас на улице. Однажды схватила Пабло за руку, требуя внимания, и осыпала такой руганью, что он обернулся и влепил ей пощечину. Тут она принялась вопить. Успокоить ее удалось лишь словами: «Если не прекратишь, я вызову полицию». Ольга притихла и отстала от нас на три-четыре метра, но продолжала таскаться за нами повсюду. Поведение ее я находила в высшей степени неприятным, но злобы к ней не испытывала. Ольга была очень несчастным существом, неспособным найти выход из создавшегося положения. Более одиноких людей, чем она, я не видела. Все избегали ее. Люди боялись остановиться и поговорить с ней, понимая, на что обрекли бы себя.
В течение первого года Ольга не предпринимала прямых выпадов против меня. Ограничивалась тем, что повсюду следовала за нами и осыпала Пабло всевозможными угрозами. Ежедневно писала ему, большей частью по-испански, чтобы я не поняла, но этот язык она знала еле-еле, поэтому нетрудно было разобрать: «Ты не тот, что был раньше. Твой сын ничего собой не представляет и становится все хуже. Как и ты». Живя в Париже, мы были относительно избавлены от ее назойливости, лишь ежедневно получали письма с угрозами. Однако на юге большую часть времени проводили вне дома и едва ступали за порог, она увязывалась за нами.
В декабре сорок седьмого мы вернулись в Париж. Когда в феврале снова поехали на юг, я оставила няню в Париже, поэтому сама занималась сыном. Стоило мне вывезти Клода в коляске на прогулку, Ольга тащилась за мной. Моя бабушка приехала туда и жила по соседству с домом месье Фора. Иногда она сопровождала меня, когда я прогуливалась с ребенком. Ольга неизменно шла по пятам, выкрикивая угрозы и обвинения в том, что я увела у нее мужа.
Я не отвечала, понимая, что это лишь еще больше разъярит ее. Бабушка слышала плохо, однако время от времени говорила: «Не понимаю, почему эта женщина все время ходит за нами». Ей не нравилось мое положение, поэтому я не могла объяснить ей, что это жена Пабло.
Неделя шла за неделей, а остервенение Ольги нисколько не убавлялось. Если она не следовала за мной, когда я вывозила Клода, то дожидалась у дома месье Фора моего возвращения. Пока я доставала ключи и отпирала дверь, держа при этом сына на руках, Ольга подходила ко мне сзади, щипалась, царапалась и в конце концов втискивалась в дом впереди меня со словами:
«Это мой дом. Здесь живет мой муж» и выставляла руки, не впуская меня. Если б я даже захотела сопротивляться, то с ребенком на руках не смогла бы.
Месье Фору, старому печатнику, в доме которого мы жили, было тогда восемьдесят пять лет. Его жене около пятидесяти. Она всегда не особенно меня жаловала и однажды, заслышав происходящую у двери сцену, подошла к окну и окликнула Ольгу:
– Я вас помню. Вы ведь жена Пикассо? Мы познакомились много лет назад, когда мой муж работал печатником у Воллара.
Обрадованная этой неожиданной удачей, Ольга ответила:
– Да, конечно. И я пришла выпить с вами чаю. С того дня Ольга ежедневно приходила к мадам Фор. Садилась у окна, и если кто-нибудь приходил к Пабло, выкрикивала:
– Моего мужа нет дома. Он ушел на весь день. И, как видите, я снова живу с ним.
Приехав в Валлорис, Пабло ежедневно работал в «Мадуре», и принимать нападки Ольги приходилось мне. Всякий раз при встрече в коридоре или на лестнице она шлепала меня. Вступать в драку с ней у меня не было желания, но терпеть такое я не собиралась. Я сказала Пабло, что так продолжаться не может, надо немедленно найти другое жилье. Он попросил Рамье подыскать для нас что-нибудь.
Тем временем на юг приехали Кюттоли, и я попросила месье как сенатора воздействовать на Ольгу. Мне казалось, если он напишет ей письмо на официальном бланке, в официальном тоне, оно хоть и не будет обладать юридической силой, но заставит ее присмиреть. Месье Кюттоли отправил к Ольге комиссара районной полиции, тот сказал ей, что если она не уймется, окажется в очень неприятном положении. После этого Ольга притихла. Но к тому моменту я по горло была сыта и мадам Фор, и ее домом, выходками Ольги. Однако было ясно, что Пабло ничего не предпримет, если его не принудить, поэтому я твердила ему изо дня в день о своем недовольстве. В конце концов, он объявил в мае, что Рамье нашли дом в Валлорисе, который можно купить и тут же в него въехать. Назывался он «Валисса». Мы поехали осмотреть его. Это была небольшая, довольно неприглядная вилла, но чтобы не жить больше у Форов, я согласилась бы и на худшую. В течение недели нам побелили внутри стены, мы купили две кровати, два некрашеных стола, два кресла, четыре стула и были готовы к переезду.
В то утро, на которое мы наметили переезд, Пабло пребывал в дурном настроении.
– Не знаю, зачем мне все это, – сказал он. – Если б я переезжал всякий раз, когда женщины начинают из-за меня драться, у меня почти не оставалось бы времени ни на что другое.
Я ответила, что не имею желания драться с кем-то из-за него.
– Жаль, – сказал Пабло. – Обычно меня это забавляет. Помню, однажды, когда я писал «Гернику» в большой мастерской на улице Великих Августинцев, со мной была Дора Маар. Пришла Мари-Тереза. Увидя там Дору, рассердилась и заявила ей: «У меня ребенок от этого человека. Находиться рядом с ним положено мне. Уходите», – Дора ответила: «У меня не меньше оснований находиться здесь, чем у вас. Я не родила ему ребенка, но это ничего не меняет». Я продолжал писать, а они продолжали спорить. В конце концов, Мари-Тереза обратилась ко мне: «Решай, кому из нас уходить». Принять такое решение было трудно. Мне нравились они обе, по разным причинам: Мари-Тереза была ласковой, послушной, а Дора умной. Я решил, что делать выбор не буду. Существующее положение вещей меня вполне устраивало. И сказал, что это им придется разрешить путем борьбы. Тут они сцепились. Это у меня одно из самых приятных воспоминаний.
Судя по тому, как Пабло засмеялся, так оно и было. Я не видела в этом ничего смешного. Чуть погодя он успокоился, и мы вернулись к вопросу о переезде.
– Послушай, – сказал Пабло, – заниматься этим переездом я не хочу. Это нарушит мою работу. Может, тебе жить у Форов неприятно, но меня жизнь здесь вполне устраивает. Так что переезжаем мы только ради тебя, и ты должна позаботиться, что бы ход моей жизни нисколько не нарушался. Возьми в помощники Марселя и Пауло, но к вечеру все должно быть закончено. Завтра я переберу все свои вещи, и если пропадет хотя бы клочок бумаги, тебе достанется. Словом, даю тебе целый день. Принимайся за дело.
Марсель, Пауло и я до вечера курсировали между домом Фора и новым жильем. «Валисса» окружена садом площадью около двух акров и расположена на вершине холма, куда ведет длинная лестница. После того, как мы сорок раз поднялись по ней с грузом, она стала казаться нам крестным путем. К вечеру мы совершенно валились с ног.
И все-таки, живя с тех пор в Валлорисе, мы часто бывали в Гольф-Жуане. Вскоре Ольга снова принялась таскаться за нами по улице, но уже на расстоянии, не приставая к нам. Потом стала появляться и на пляже. Однажды, когда я сидела там, опираясь на вытянутые за спину руки, Ольга подошла сзади и принялась расхаживать, метя высокими каблуками в кисти моих рук. Пабло увидел, что у нее на уме, и громко захохотал. Всякий раз, когда я снова опиралась о песок руками. Ольга пыталась наступить на них. Наконец я не выдержала, схватила Ольгу за ступню, вывернула ее, и она повалилась лицом в песок. То был единственный раз, когда я попыталась дать ей отпор, и видимо, это подействовало, потому что больше она ко мне не приближалась.
Однако в новом доме мое настроение улучшилось не сразу. На одной из сделанных в то время на пляже фотографий, у меня вытянутое лицо – задумчивое, пожалуй, даже угрюмое. Однажды Пабло спросил, что со мной.
– Я перенес все неприятности переезда, – сказал он, – однако ничего не изменилось.
Это правда, ответила я, но проблемы переезда не сравнимы с трудностью попыток избавиться от тяжкого бремени, его постоянно напоминающего о себе прошлого, которое начинает казаться альбатросом, привязанным к моей шее[ 22 ]22
В поэме Семюэля Кольриджа «Сказание о старом мореходе» моряки призывают мертвого альбатроса на шею его убийцы.
[Закрыть].
– Я знаю, что тебе нужно, – сказал Пабло. – Наилучший выход для недовольной жизнью женщины – родить ребенка.
Я ответила, что его соображение меня не убеждает.
– Оно логичнее, чем тебе кажется, – ответил Пабло. – Рождение ребенка приносит новые проблемы и отвлекает от старых.
Поначалу это заявление показалось: мне просто циничным, но когда я обдумала его, оно стало обретать для меня смысл, правда, совсем по иным соображениям. Я была единственным ребенком в семье и страдала от этого; мне хотелось, чтобы у моего сына появились брат или сестра. Поэтому я не стала возражать против предложенной Пабло панацеи. Вспоминая нашу совместную жизнь, я поняла, что видела его в неизменно хорошем настроении – не считая периода с сорок третьего по сорок шестой год, до того, как стала жить вместе с ним – лишь когда была беременна Клодом. Лишь тогда он был веселым, спокойным, счастливым, без всяких проблем. Это было очень приятно, и я надеялась, что снова добьюсь того же результата ради нас обоих.
Я понимала, что не смогу родить десятерых, дабы постоянно держать Пабло в этом расположении духа, но сделать, по крайней мере, еще одну попытку могла – и сделала.