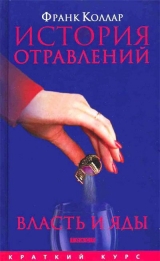
Текст книги "История отравлений"
Автор книги: Франк Коллар
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
Итак, миф об отравлении Александра обладал невероятной повествовательной плодотворностью и выражал вневременную склонность человеческого сознания видеть зло и тайну в тени сильных мира сего. Вместе с тем он был непосредственно связан с развитием толкования политики и власти в период от эпохи эллинизма до Средневековья. На этические и философские идеи Античности накладывалось христианское миропонимание, которое постепенно становилось центральным.
Прежде всего, отравление парадоксальным образом подтверждало могущество царя-воина, доблести которого так высоко ценились средневековым благородным сословием. Враги Александра не могли одолеть его на поле битвы. Устранить непобедимого полководца им удавалось лишь в обход правил ведения войны. Феррето Феррети подчеркивал, что яд применяют противники того, кого невозможно победить ни в каком бою. Таким образом, смерть через отравление способствовала героизации. Понимание этого обнаруживается уже у Юстина в III в., но распространяется, прежде всего, в средневековых текстах. «Его не мог сразить меч, но погубил гнусный яд», – разъяснял Александр Парижский. И всякий раз, когда автору нужно было восславить скончавшегося правителя, ему на ум приходила модель, связанная с Александром Македонским. В августе 1313 г., как утверждали, «не от меча, а от яда» скончался император Генрих VII, осаждавший Сиену. В окружении усопшего очень скоро родилось сочинение «Обеты ястреба». Картина смерти монарха в нем показательно соответствует романам об Александре. Подобной интерпретации противоречит, однако, некая деталь, которая лучше заметна в изложениях античных историков: полководца отравили не внешние враги, а собственные военачальники. Это обстоятельство бросает тень на фигуру воинственного властителя.
Таким образом, связанный с Александром эпизод имел и свои отрицательные стороны. Прежде всего, он иллюстрировал идею переменчивой судьбы. Язычники поклонялись богине Фортуне,а христиане видели в превратностях судьбы волю Божию. Разумеется, гибель в бою находившегося на гребне славы монарха сама по себе демонстрировала капризы фортуны. Однако яд, разящий внезапно, настигал правителя в тот момент, когда он отнюдь не думал подвергать себя опасности. «Фортуна его вознесла, благодаря ей он и споткнется», – говорили убийцы в РоманеАлександра Парижского. Английский поэт Чосер, рассказывая о македонском полководце, также ставил рядом слова «яд» и «изменчивая фортуна».
Кроме всего прочего, отравление, резко менявшее судьбу человека, выражало хрупкость земного могущества. В одном из вариантов произведения Псевдо-Каллисфена царь говорил так: «Д который прошел весь населенный мир, / И необитаемую, темную землю, / Я оказался недостаточно силен, чтобы избежать судьбы. / Я погибаю из-за маленького кубка».Маленький кубок с ядом был ничтожен по сравнению с тем, что совершил Александр. Однако он мгновенно разрушил все. Властелин мира вынужден повиноваться предначертанному. Смерть низводит его до обычного человека, уделом которого является страдание и уход из жизни.
Понятно, почему христианские писатели подчеркивали этот аспект сюжета. Отравление могущественного монарха как ничто другое демонстрировало равенство людей перед лицом всемогущего Господа; герой-полубог превращался в человека. Александр в средневековом повествовании преодолевал искушение броситься в реку и слиться с потоком. Данный факт восходил к античной традиции, согласно которой собиравшийся покончить с собой царь по дороге встречался с последовавшей за ним царицей. У средневековых авторов эта деталь обретала огромную значимость. Она интерпретировалась как отказ от гордыни, приятие божественного решения и возможное искупление через подлинное страдание (Александр умер в том же возрасте, что и Христос). Именно так раскрывал ситуацию Томас Кентский в «Романе о совершенном рыцарстве». И Жан Воклен живописал истинное страдание и образцовую смерть царя, выглядевшего уже практически по-христиански. Отказавшись от самоубийства, Александр принимал решение умереть как подобает монарху, демонстрируя подданным ясность ума, смирение и политическую мудрость, т. е. осуществив раздел своих владений.
Участь героя должна была напоминать средневековым властителям о суетности земной славы. В 1160–1170 гг. нормандский поэт Роберт Вас сочинил для Генриха II Английского «Роман о Ру (Роллоне)». «Александр был могущественным царем. /В завоеваниях ему не было равных, /Однако его отравили, и он умер», – говорилось в романе. А двумя веками позже французский поэт Эсташ Дешан задавался вопросом: «Почему Александр умер от яда, /Он, такой могущественный и такой счастливый, / Он, который покорил мир, будучи совсем юным, /Он, который начал в 15лет отроду, /Свои завоевания?…»Дешан сам себе отвечал: происходит все, чего хочет Бог, в том числе и с самыми могущественными людьми; судьба Александра – тому подтверждение. Таким образом, трагический удел полководца становился своего рода напоминанием – momento mori.Оно должно было стоять перед глазами императоров и королей, призывая их к смирению. Миф об отравлении Александра потому и оказался столь распространен в Средние века, что идеально соответствовал христианской концепции translatio imperii,согласно которой Бог дает и отнимает власть без предупреждения.
Подобное осмысление сюжета придавало ему в первую очередь моральное, а не политическое значение. Впрочем, этим дело не ограничивалось. В продолжение традиции Платона и Аристотеля яд в истории Александра свидетельствовал об отсутствии у завоевателя чувства меры в его безграничном стремлении к власти. Эта чрезмерность уподоблялась тирании. Сильней всего она проявлялась в двух подробностях пресловутого отравления македонского царя.
Первая появилась уже в античных рассказах. У Псевдо-Каллисфена Антипатр утверждал, что полководец преисполнился гордыни за свои деяния и в неутолимой жажде власти перешел все границы. Выпитый залпом кубок с ядом стал своего рода символом этой жажды. Именно она сеяла ужас среди слуг царя. Царица Олимпиада требовала, чтобы сын наказал наместника Антипатра. Последний пребывал в страхе и совершил убийство, которое ждет всякого тирана. Античная традиция не случайно связывала с преступлением против Александра имя Аристотеля, автора «Политики». Не исключено, что это объяснялось в первую очередь его репутацией политического мыслителя, который не мог принять превращения власти царя в тиранию. Обширность же знаний Аристотеля о природе, его осведомленность в области отравляющих веществ, возможно, играли здесь второстепенную роль.
В Средние века история отравления завоевателя служила, помимо всего прочего, доказательству неотменимости божественной воли. Речь шла о том, что, когда тирания слишком могущественных монархов становилась причиной страданий подданных, их избавлял Господь. Александр погиб в Вавилоне, деспотических правителей которого Бог и прежде уже наказывал. Печальный удел, определенный македонскому царю Провидением, был призван внушать всем остальным монархам умеренность. Для Орозия полководец был жаждавшим крови язычником. Александр Парижский и Томас Кентский, со своей стороны, подчеркивали, что царь правил единолично и лишь один раз созвал своих советников на суд. Подобная власть порождала страх и смертельную ненависть. У Винсента из Бове рассказу об отравлении предшествовал пассаж о том, сколь незавидна была участь солдат завоевателя, если они позволяли себе злословить на его счет.
К литераторам и историкам присоединялись политические мыслители. Жиро из Камбре около 1217 г. и л и чуть позже написал трактат Deinstructione principis liber,предназначенный для наследника Филиппа II Августа, будущего Людовика VIII. На примере династии Плантагенетов автор размышлял о превращении монаршей власти в деспотию. Целая глава была посвящена смерти тиранов. Среди правителей, злоупотреблявших своим могуществом, фигурировал и Александр. «Приближенные подстроили ему смертельную ловушку, подав огромный кубок отравленного вина» (suorum insidiis vino cui trans modestiam datus fuerat periit venenato– 1,17). Чрезмерность в употреблении напитка символизировала в данном случае отсутствие у героя чувства меры в политике.
В начале XIV в. примерно в том же духе высказывался автор Лиса-самозванца– раздражающим фактором в тот момент являлся авторитаризм Филиппа Красивого. Монарх, «который все присваивает себе, /Который все забирает и никогда не расплачивается»,ограбил Антипатра. В результате тот мстит, как может. Конец македонского царя должен послужить уроком правителям и всем сильным мира сего. Им следует остерегаться участи Александра, «отравленного собственным народом», как писал Джеффри Чосер, автор «Кентерберийских рассказов». Смысл данного утверждения в том, что чрезмерная властность государя может подтолкнуть «народ» к весьма решительным действиям против тирана. Внутри regnum Italiaeбессовестных правителей, обуреваемых амбициозной жаждой безграничной власти, точно так же ненавидел Феррето Феррети из Виченцы, который являлся приверженцем идеала коллективного управления. Он ссылался на Платона, утверждая, что в качестве средства борьбы против тиранов философ допускал человекоубийство, в принципе отвратительное. Феррето Феррети без колебаний ставил Александра рядом с Дионисием Сиракузским, как правителей-тиранов, карьера которых была по справедливости и вовремя прервана ядом. Сходными были и взгляды Петрарки. Поэт отмечал, что, воспринимая восточные обычаи, царь Македонии превратился в деспота.
Александр Парижский, со своей стороны, тоже клеймил произвол властителя. Вопреки традиции и даже вопреки последовательности собственного рассказа он сделал убийцами наместников Тира и Сидона. «Восточное» происхождение само по себе не означало ничего хорошего. Название Тирсвязывалось со словом тиран,а оно, в свою очередь, возводилось в Средние века к латинскому слову tyrus – гадюка.Организаторы заговора были жалкими людишками, «подлейшими рабами», опрометчиво возвышенными по воле царя. Всякому правителю, окружавшему себя не баронами, по праву призванными советовать монархам, а слугами низкого происхождения, приходилось задуматься о примере македонского царя. Таким образом, Александр Парижский, по-новому излагая сюжет, проявлял в первую очередь не буйство фантазии и даже не стремление заклеймить неверных вассалов. Он формулировал внятное послание правителям своего времени, окруженным низкими льстецами. Последних разоблачал также и Жан Солсберийский. Литераторы и мыслители говорили совершенно об одном и том же.
Итак, миф об отравлении Александра Македонского оказался столь живуч потому, что позволял авторам разграничивать власть благотворную и власть пагубную. Там, где поклонники рыцарства видели средство победить непобедимого, озабоченные ростом могущества монархов клирики обнаруживали следствие тирании. Еще один важный момент, проявляющийся во всей этой истории, это то, какую роль может играть обвинение в отравлении. Ссылки на применение яда широко использовались в пропаганде преемников Александра. Они служили идеологическим оружием для борьбы с претендентом на политическое наследство, например с Антипатром. Яд становился инструментом не только устранения правителя, но и дискредитации противника. Причем жало клеветы разило так же уверенно, как и реальные отравляющие вещества.
Власть, сведущая в ядах. О некоторых восточных деспотахСо смертью Александра Великого в Восточном Средиземноморье начался период эллинизма. Гигантская держава оказалась разделенной на несколько государств под властью сподвижников македонского полководца: Грецию и Македонию, царство Селевкидов, Египет. Сохранившиеся в Малой Азии и в Палестине династии также находились под влиянием эллинистической культуры. В Греции основой политической организации продолжал оставаться полис, тем не менее вокруг все прочнее утверждалась монархическая система с ее дворами, интригами, т. е. обстановкой, благоприятствовавшей преступлению. В 312-64 гг. до н. э. не менее дюжины правителей династии Селевкидов погибли в результате убийства, а в египетской династии Птолемеев (Лагидов), правившей в 323-30 гг. до н. э., убийство стало практически обычным способом наследования. Культура дворов властителей эллинистического мира во многом восходила к традициям персидской монархии с ее ритуалом «предварительного опробования» блюд во время царской трапезы. Эти правители очень интересовались наукой и всегда готовы были использовать знания для укрепления своей власти. Именно поэтому яд оказывался здесь весьма «ко двору». Наилучшим воплощением всего сказанного является царь Митридат.
В течение века, последовавшего за эпопеей Александра, в эллинистическом мире не прекращалась борьба. Политические элиты оспаривали друг у друга власть, а государствам приходилось противостоять завоевательной политике Рима. Яд использовали, чтобы расправиться с неудобными претендентами на трон и чтобы достичь успеха тайными средствами там, где невозможно было победить силой традиционного оружия.
Можно привести много примеров, чтобы проиллюстрировать первую ситуацию. У Лисимаха, правившего Фракией и Македонией в начале III в. до н. э., был сын Агафокл. Его решила устранить с помощью яда новая супруга царя, желавшая обеспечить трон собственному сыну. Против него применили какое-то токсическое вещество, которое, впрочем, не оказало ожидаемого эффекта.
Очень часто яд пускался в ход при дворе Селевкидов. В 246 г. до н. э. царица Лаодика убила своего брата и супруга Антиоха II Теоса. Дело было в Эфесе, куда монарх приехал, чтобы помириться с Лаодикой. Последняя мстила таким образом за недавнюю женитьбу царя на Беренике, дочери Птолемея II, угрожавшую ее политическому влиянию и обеспечивавшую Антиоху наследников. Несмотря на подорванное излишествами здоровье правителя, едва достигшего сорока лет, немедленно после его кончины распространился слух, что его отравила супруга. В 192 г. до н. э. от яда погиб 27-летний наследник Антиоха III. Это преступление тоже было совершено в семейном кругу. На этот раз сам царь счел молодого человека слишком предприимчивым и слишком популярным. Данный пример показывает, какие распри раздирали верхушку монархии Селевкидов, где обладавшие многочисленным потомством правители легко могли пожертвовать кем-то из наследников. Это напоминает ситуацию, складывавшуюся позже в мусульманских государствах. Упомянутые преступления не доказаны, но тем лучше они свидетельствуют о том, как однозначно реагировали люди на внезапную смерть представителей правящей династии, немедленно приписывая несчастье преступлению. В 121 г. до н. э. произошло еще одно аналогичное семейное событие. Царица Клеопатра Tea, которая уже убила одного своего сына Селевка V, попыталась отравить другого – Антиоха VIII, которого ревновала к его жене. Царю был подан освежительный напиток, содержавший смертоносное вещество. Однако царь, получивший донос о намерениях матери, предложил ей первой омочить губы в кубке. Клеопатра пала жертвой собственного злодеяния. «В стремлении обратить свое веретено в скипетр, царицы не останавливались ни перед чем», – отмечал А. Буше-Леклер, историк, написавший по книге о династиях Селевкидов и Птолемеев. В то же время яд служил отнюдь не только женщинам. У Юстина содержится упоминание о попытках отравления Антиохом VIII его единоутробного брата и соперника Антиоха IX Кизикского, который правил меньше года в 96–95 гг. до н. э.
Отравления были широко распространены также и при дворе Птолемеев. Нельзя сказать, что они преобладали, потому что, как и в царстве Селевкидов, в борьбе за власть использовалось множество разных средств. Тем не менее яд занимал среди них значительное место. У Полибия есть рассказ о том, что в 204 г. до н. э. в течение короткого промежутка времени умерли Птолемей IV Филопатор и его жена Арсиноя. Тогда возникло множество подозрений, хотя определенных обвинений никто не высказывал. Когда в 180 г. до н. э. скончался Птолемей V Эпифан, распространился слух, что его отравили военачальники, не желавшие отправляться в поход против Селевка IV, да еще и оплачивать этот поход, как предполагал царь. Впрочем, об этой смерти во цвете лет двадцатидевятилетнего Птолемея V не упомянул Полибий. О том, что этот монарх якобы погиб от «губительного искусства», мы знаем от святого Иеронима. Буше-Леклер считал, что средневековые авторы слишком часто и поспешно связывали те или иные события с употреблением яда, но он не объяснял, почему это происходило. А ссылка на отравление, содержащаяся у Иеронима, имела свои причины. Христианский автор стремился заклеймить аморальность языческого режима, широко применявшего яд для достижения своих целей. Об этом в раннее Средневековье знали, например, из рассказа Плиния Старшего в «Естественной истории» о продаже богатств царя Кипра в 58 г. до н. э. Среди них обнаружили шпанских мушек, которых продал Катон Утический, после чего был обвинен в торговле отравляющими веществами.
Вторая характерная ситуация, когда отравление становилось орудием политики в эллинистическом мире, – это война. В таком случае яд заменял собой бой. Сын Филиппа V Македонского Персей в 170 г. до н. э. нанял некоего Раммия из Бриндизи, дабы отравить римского полководца и его офицеров, непосредственно участвовавших в третьей Македонской войне. Македонские правители, впрочем, использовали яд не только против внешних врагов. Деметрий, прежде чем погибнуть во время пиршества в 180 г. до н. э., пытался точно так же отравить своего брата Персея. Однако преемники Александра отличались весьма прагматическим применением этого средства, которое они по случаю чередовали с ударом из-за угла мечом или кинжалом.
В одной из версий «Диалога Плацида и Тимеона», относящейся примерно к 1300 г., царем, который послал к Александру Македонскому деву-отравительницу, является Митридат. Такой анахронизм весьма показателен: он иллюстрирует тот факт, что еще в эпоху Средневековья царь Понта имел репутацию изощренного отравителя. В те времена, впрочем, больше интересовались его смертью, чем деяниями: именно о ней писал еще Гийом Бретонец, находившийся на службе Филиппа II Августа. Имя понтийского монарха изо всех сил увековечивали не только литераторы и историки. Оно мелькало и в медицинских текстах, т. к. слово митридатозначало противоядие, которым, как считалось, пользовался царь. Утверждалось, что интерес Митридата к отравляющим веществам имел двойственный характер: он не только ими пользовался, но и являлся их знатоком. Властитель Понта враждовал с Римом, он был, как говорят, последним, кто имел возможность остановить наступление Рима на Восток. Таким образом, с точки зрения Европы он воплощал в себе восточный деспотизм, одна из характерных черт которого состояла в применении яда.
У Митридата VI Евпатора существовало среди властителей Малой Азии немало предшественников, которые могли служить образцами в том, что касалось интереса к ядам. Теодор Рейнах, автор классической и непревзойденной работы о Митридате (1890 г.), упоминал в этой связи современника своего героя, царя Вифинии Никомеда III Эвергета, а также правившего раньше царя Пергама Аттала III Филометора. Их любознательность обычно связывают с тем, что после завоеваний Александра греческая культура открылась влиянию культуры Индии. К этому наблюдению, впрочем, следует относиться с осторожностью.
Аттал III Филометор был последним царем Пергама и правил с 138 по 133 гг. до н. э. Приобщенный к власти отцом Атталом II, он, по словам Плутарха, увлекался лекарственными и ядовитыми растениями вместо того, чтобы заниматься управлением. Греческий биограф уточнял, что царь выращивал белену, морозник, аконит и цикуту, которые сеял в своих садах, дабы изучить их плоды и узнать, каков их сок. «Морскими свинками», на которых по необходимости проверяли «свойства вещей», как станут говорить в Средние века, служили рабы. И хотя Плутарх отмечал невнимание Аттала к делам государства, вряд ли полученные в результате его экспериментов знания совсем не имели отношения к политике. Разумеется, этот эллинистический правитель, о котором плохо отзывалась античная историография, стремился проникнуть в тайны природы из «научного» любопытства. Он интересовался не только токсичными растениями, но садоводством и земледелием вообще. Но являлись ли эти специфические занятия простым развлечением? Не скрывалась ли за ними глобальная цель укрощения природы, дабы тем лучше управлять людьми и застраховать себя от их козней? Если такие мысли на самом деле имели место, то, будучи неотделимыми от политической функции, они предполагали ее наилучшее осуществление.
Как бы то ни было, вопрос о том, использовал ли царь Пергама свои знания и умения для решения проблем власти, остается открытым. У Диодора Сицилийского описывается, какую жестокость он проявлял к приближенным, которым приписывал смерть матери и нареченной, однако не видно, чтобы в этом деле какую-нибудь роль играл яд. Юстин изобразил правителя сумасшедшим и свидетельствовал, что он сам посылал придворным ядовитые растения в качестве презента. В любом случае хорошо известно, что – благодаря Атталу или нет – Пергам являлся центром распространения ядов в Средиземноморье. Именно из этого города происходил врач, которого во времена Августа обвинили в намерении открыть что-то вроде школы ядов в Марселе. Его защищал тогда римский политик и оратор Асиний Полион. Что же касается Митридата, то этот персонаж оказался гораздо определеннее связан в сознании людей с ядом, если не сказать – с отравлением.
Митридат VI Евпатор, имевший иранское происхождение, рано столкнулся с преступлением. Его мать подстроила убийство мужа «друзьями царя». Правда, Митридата IV Эвергета не отравили, а закололи холодным оружием. Сыну и наследнику царя было тогда 12 лет. Митридат бежал в горы, вынужден был скитаться, но через шесть лет возвратился к власти. Он стремился изгнать из Азии римлян и разгромить их местных союзников, царей Каппадокии и Вифинии. В 89 г. до н. э. Митридат начал длительную войну против Рима. Добиваясь союза с греческими полисами, он демагогически превозносил их исконную свободу, которую сам же стал нарушать, как только они ненадолго перешли на его сторону. Для того чтобы победить царя Понта, римлянам понадобилось целых три военных кампании. После того как Лукулл, а вслед за ним Помпеи завоевали владения упорного противника, Митридат умер в Крыму, в городе Пантикапее.
Обстоятельства смерти понтийского царя определенно связываются с ядом. Можно даже сказать, перефразируя знаменитую формулу Клемансо по поводу генерала Буланже, что Митридат умер так же, как и жил: отравителем. [5]5
Когда в 1891 г. генерал Жорж Буланже застрелился на могиле своей возлюбленной, Клемансо отозвался на его смерть эпитафией: «Здесь покоится генерал Буланже, который умер так же, как и жил: младшим лейтенантом».
[Закрыть]Вернее – хотел умереть. Источники, литература, научные исследования свидетельствуют, что в момент, когда побежденному монарху угрожала опасность попасть в плен к собственному сыну, он не смог отравиться, т. е. умереть, как считалось в античной традиции, легко и достойно. Царь вынужден был просить человека из своей охраны нанести ему смертельный удар. Сказался долговременный прием противоядия, а вслед за ним токсинов малыми дозами. Вместе с Митридатом якобы умерли две его дочери, потребовавшие яду, который незамедлительно оказал свое действие. Известно, что понтийский правитель и прежде использовал аналогичное средство для «освобождения» от плена женщин своего окружения, с переменным, впрочем, успехом. По его поручению им доставлялась отрава. О двух таких случаях рассказали соответственно Плутарх и Аппиан. Возможно, впрочем, речь у них идет об одном и том же эпизоде, хотя место действия и характер родства женщин с Митридатом в их повествованиях разнятся. В общем, этот человек великолепно знал яды и лекарства от них.
Источники донесли до нас немало сведений о своеобразном гении знаменитого царя Понта, все знавшего об отравляющих веществах и умевшего предохраняться от них. Гораздо меньше мы знаем о том, как он использовал эти знания для совершения политических или семейных убийств. Такие факты, впрочем, имеются. В одной из резиденций монарха победивший его Помпеи обнаружил якобы составленный самим правителем список подобных деяний. Считается, что около 100 г. до н. э. Митридат пытался отравить свою сестру Лаодику или организовал ее отравление. Лаодика отомстила ему тем же. Правитель расправился со своим племянником Ариаратом (место которого на каппадокийском троне занял собственный сын царя Понта), и, наконец, с Алкеем из города Сарды. Что касается последнего, то он имел неосторожность обогнать обидчивого монарха во время конных соревнований. Такого рода «преступление» можно вообразить только в тираническом режиме, где носитель власти не приемлет даже малейшего сомнения в своем верховенстве и коварно мстит, вопреки здравому смыслу. Таким образом, знание pharmakaпозволяло Митридату как защищать свое могущество, так и атаковать. У Аппиана Александрийского (II в. н. э.) сказано, что царь Понта знал все яды, которые можно подмешать в пищу. Он мог использовать их против других, но мог и защитить от них самого себя.
В 112 г. до н. э., после смерти отца Митридата VI, Понтийское царство потрясли волнения. Еще раз это случилось в 87 г. до н. э., возможно, в результате заговора, организованного Римом. Не исключено, что эти события, а также покушение на возвратившегося из скитаний царя его сестры и супруги Лаодики посеяли в душе монарха страх перед насильственной смертью. Он стал искать неуязвимости и добился ее благодаря наблюдениям и опытам. По рассказу Плиния Старшего, Митридат имел обыкновение каждое утро натощак принимать лекарство, приготовленное из двух сухих орехов, двух ягод инжира, двух листиков руты, смешанных с кровью утки. Царь собственной рукой переписал рецепт, породивший столько комментариев. Он на самом деле полагал, что кровь понтийских уток, вскормленных на ядовитых растениях, несла в себе иммунитет и способна была служить противоядием. Считалось, что прием смеси нейтрализует действие отравляющих веществ, которые тоже принимались ежедневно, с целью появления сопротивляемости к ним. Именно этот антидот, обогащенный еще пятьюдесятью четырьмя ингредиентами, позже получил имя своего царственного изобретателя. Он был хорошо известен не только Плинию Старшему, отрицавшему действенность препарата. Гален писал о нем в трактате De anti-dotis,его знали арабские врачи, еврейский ученый XII в. Моисей Маймонид. В XVI в. о «митридате» упоминал знаменитый французский врач Амбруаз Паре. Антидот долгое время прописывали средневековым государям. Имеются свидетельства, что в 1439 г. он содержался, например, в дижонских аптеках, а значит, доходил и до более широкой клиентуры.
Итак, знание токсикологии, которым обладал царь Понта, ценное само по себе, имело еще и утилитарный аспект. Однако помимо всего прочего, оно демонстрирует нам определенное отношение к природе, которое невозможно отделить от понимания политики. Считалось, что правителю подвластно все, включая природу. Плиний Старший напоминал, что понтийский монарх приказывал собирать информацию о природе своих владений, богатой ядовитыми растениями, минералами и животными. Одно время ему была подвластна даже и мифическая Колхида. Феофраст отмечал, что в Гераклее Понтийской произрастал самый лучший аконит. Согласно Плинию, Помпеи обнаружил в архиве дворца Митридата целую библиотеку заметок и рецептов. Он приказал своему врачу, вольноотпущеннику Ленею, разобрать их, классифицировать и перевести. Так было положено начало изучению лекарственных растений в Риме. Царя Понта интересовало именно двойное действие pharmaka,лекарств и ядов одновременно. Стремление понять свойства веществ, которые могли приносить организму и пользу, и вред, а потом использовать эти свойства, намного превосходила у него желание упрочения власти. Оно составляло часть концепции господства над миром через проникновение в тайны природы. А эта концепция, в свою очередь, сближала Митридата с колдовством и волшебством. В конце XIV в. это увидел поэт Эсташ Дешан, приписывавший смерть царя его склонности к колдовству (с которым связывались отравления) и гаданию. Начиная с I в. новой эры в понтийском регионе распространились амулеты, которые якобы делали людей неуязвимыми для яда. Носившие их верили, что, обращаясь к «царю царей» (как называли Митридата VI), найдут нематериальную защиту от отравителей.
Жан де Малейси, написавший книгу «История яда», главу, посвященную Митридату, назвал «Царь Понта, царь ядов». Формула верна в том смысле, что царь Понта в высокой степени овладел знаниями о токсических веществах. Вместе с тем неверно думать, что он правил с помощью яда. Этот монарх использовал множество других средств борьбы как внутри государства, так и против внешних врагов. Например, в 88 г. до н. э., воюя против римских провинций Вифинии и Каппадокии, он устроил резню 80 000 живших там римлян. Засвидетельствовано, что Митридат всегда носил на поясе, как меч, мешочек с ядом. Редкие отравляющие вещества хранились в его сокровищнице, и мы не знаем, было ли это удовлетворение страсти познания или устрашающий арсенал. Так или иначе, власть и яд в данном случае оказались беспрецедентно близки друг к другу. Неуязвимость царя к яду, ставшая результатом воли и знания, отличала его от других непобедимых властителей, которых могли одолеть лишь отравители. Однако становился ли понтийский правитель от этого более почитаем? Или же, наоборот, вставал в ряд с государями-тиранами, злоупотреблявшими властью, о смерти которых Боккаччо в трактате De casibus virorum illustrium(«О злосчастьях знаменитых мужей») писал как об уготованном Провидением освобождении? Очень может быть, что именно любознательность Митридата послужила примером царю Мавритании Юбе II, сочинившему трактат о молочае. Не исключено, что она вдохновляла султанов, которые, если верить итальянцу XV в. Антонио Гвайнерио, писавшему со слов берберского врача, постоянно принимали яд в небольших дозах, дабы обрести неуязвимость, как Митридат. Однако все подражатели царя Понта жили на Востоке, нравы которого не одобрялись на Западе. На взгляд европейца, он воплощал в себе тип дурного правителя. И разумеется, «римская пропаганда», в которую включились и авторы-греки времен империи, изображала Митридата не царем-ученым, а тираном-отравителем и жертвой отравления; врагом «гражданских свобод», которые якобы защищал от него Рим.








