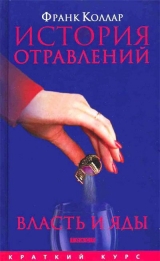
Текст книги "История отравлений"
Автор книги: Франк Коллар
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
Во всех этих сочинениях содержалась рекомендация иметь при себе предметы, предназначенные предотвращать преступления, определяя наличие ядов на столе, в подаваемых блюдах. Некоторое количество подобных предметов встречается в инвентарных описях папских сокровищ. Это лангъе,металлическая или коралловая подставка для «змеиных зубов», вес которой мог достигать шести фунтов (название происходит от слова langue– язык; имелся в виду змеиный язык). Понтифики брали их взаймы или получали в качестве новогоднего подарка. В описи, заказанной в 1295 г. Бонифацием VIII в связи с его избранием на папский престол, в рубрике лангъенасчитывалось пятнадцать предметов. В описи, составленной в связи с восшествием на престол Климента VI в 1394 г., насчитывается двенадцать лангъеили arbores pro proba.Прикосновением такого предмета проверялись блюда папского стола. Бенедикт XIII вскоре после своего избрания также захотел посмотреть, сколько у него лангъе,и насчитал их семь. В XV в. практическая и эстетическая ценность приспособлений, призванных защищать от яда, не уменьшалась. В 1464 г. лангъев форме дерева было обнаружено после смерти Пия П.
Еще более ценным и обладавшим более универсальным действием, нежели змеиные зубы и язык, считался рог единорога, мифического зверя из средневекового бестиария. Однажды он якобы очистил воду в зараженном пруду, и этот случай символизировал искупление людских грехов Христом. Естественно, что Папы проявляли большой интерес к этому предмету. Неизвестно, когда возникла вера в чудесные свойства рога единорога. Амбруаз Паре писал, что о его достоинствах ничего не знали ни Аристотель, ни Гиппократ, ни Гален. В эпоху Средневековья верили, что от прикосновения рога единорога яд горячей природы закипает, а холодной природы – дымится. Реальные обереги представляли собой бивни нарвала, рога орикса или носорога, а иногда и более распространенных животных. В папской сокровищнице Бонифация VIII их насчитывалось четыре, а у его преемника – три. Бенедикт XIII хранил довольно большие и увесистые куски «рога единорога». А в сокровищнице Григория XII (1416) он содержался в целом виде. Один немецкий торговец продал «рог единорога» Папе Юлию III (1550–1555) за гигантскую сумму в 12 000 экю. Амбру аз Паре высказывал по этому поводу большой скептицизм. Тем не менее именно этот знаменитый французский врач в ответ на насмешку какого-то посетителя, что рог из папской сокровищницы слишком мал, заметил, что драгоценный предмет уменьшился из-за слишком частого применения. Это был рог, купленный в 1520 г. Львом X, что не помешало этому Папе быть отравленным.
Кроме всего прочего, Папы владели еще и драгоценными камнями: кварцами, хризопразами, рубинами. Согласно трактатам о ядах, камни меняли свой цвет, если находились вблизи ядов. В описи папских сокровищ 1353 г. числился кожаный сундучок, содержавший семь таких камней. В январе 1390 г. Климент VII купил у ремесленника из Компь^еня золотые кольца с маленькими камешками, для того чтобы определять наличие или отсутствие яда. Все перечисленные предметы были весьма недешевы. При этом они не являлись предметом коллекционирования, а постоянно применялись на практике.
С 1305–1307 гг. при папском дворе полагалось, чтобы повара и виночерпии пробовали пищу перед лицом Его Святейшества. Правила церемониала зафиксировали избыточные меры предосторожности. Разумеется, проба снималась с каждого блюда, которое передавалось конклаву кардиналов. То же самое делалось и с гостией, которой причащался понтифик. Собственно, гостии готовилось три. Одна предназначалась для Папы, а две другие – для пробы. В присутствии Папы проверялось также и вино. В конце XV в. процедуру папского причастия описал церемониймейстер Иннокентия VIII Августин Патриций Пикколомини. Дьякон брал с дискоса одну гостию, предварительно прикоснувшись к ней и к двум другим (возможно, специальным предметом, лангье).Первую он давал съесть ризничему. Затем он брал одну из двух оставшихся и проводил ею по внутренней и внешней стороне диксоса и потира. После этого и ее съедал ризничий. Наконец, он пробовал вино и воду из священных сосудов. Только после всего этого дьякон передавал Папе диксос с гостией.
Викарии Христа и сами не останавливались перед применением яда в борьбе с противниками, как внутри Церкви, так и за ее пределами. Разумеется, обличители упадка духовенства или непомерных претензий понтифика, беспрестанно выдвигавшие обвинения в отравлении, могли преувеличивать. Однако не все подобные разоблачения являлись сочиненным в пылу полемики вымыслом.
Вслед за распрями второй половине XI в. яд сопровождал борьбу гвельфов и гибеллинов, т. е. папства против Штауфенов: германского императора и короля Сицилии Фридриха II, а потом его потомков, вплоть до 1268 г. Фридрих II обвинял Папу Иннокентия IV в подлом использовании яда.
В 1249 г. к больному, как утверждалось, вследствие отравления императору приехал врач из Пармы, нанятый Римом. Под предлогом лечения он должен был убить монарха. Однако больного предупредили, и он проверял лекарства на заключенных. На следующий год Фридрих II все-таки умер, и его наследник Конрад IV не преминул обвинить папство. Тем не менее современные исследователи, начиная с Э.Канторовича, единодушны в том, что все разговоры о заговорах с целью отравления императора не находят подтверждения. Скорее всего, он умер от болезни.
В свою очередь, Конрада IV в 1252 г. тоже пытались отравить, и он с трудом выздоровел. В окружении Штауфенов говорили, что Рим опасался мести Конрада IV за отца. Таким образом, черный образ Папы, лишенного совести, в представлении гибеллинов обязательно включал в себя отравление. Партия гвельфов отождествлялась с ядом. Когда 24 августа 1313 г. император Генрих VII умер в окрестностях Сиены, которую он осаждал, естественно, возникли слухи. Сиена являлась городом гвельфов, и Папа Климент V подозревался в том, что руководил преступными действиями предполагаемого убийцы: духовника государя доминиканца Бернардина де Монтепулчиано. Действительно, появление Генриха VII в Италии сцелью восстановления императорской власти угрожало позициям Папы и его союзников. Императорский врач мог сколько угодно заявлять перед папскими властями, что отравления не было. Непримиримые враги Церкви все равно стояли на своем и в течение нескольких десятилетий поддерживали веру в «гвельфское» отравление германского государя.
В XV в. обвинения в применении яда вновь использовали во внутрицерковной борьбе. Это произошло в 1417 г. на соборе в Констанце, призванном прекратить соперничество трех имевшихся на тот момент понтификов. Собор обвинил Иоанна XXIII в отравлении предыдущего Папы Александра V, который скончался в 1410 г. В 1433 г. умер кардинал Вителлески, и появились обвинения в адрес Папы Евгения IV. Верно ли связывать их с зарождавшимся конфликтом между понтификом и Базельским собором? Предполагаемая жертва считалась близкой к миланскому герцогу, что придавало делу внешнеполитический аспект. Кроме того, Вителлески отнюдь не являлся проводником «базельской линии». Напротив, он энергично выступал за наведение порядка в Риме, что могло, в конце концов вызвать беспокойство Папы.
Возникавшие беспрестанно, подобные слухи укрепляли в сознании людей убежденность, что Папа Римский вполне способен применить яд. Обычно это делалось от случая к случаю, когда диктовалось обстоятельствами. Систематически это средство стал использовать Александр VI, настоящий «серийный отравитель». Реальные или вымышленные коварные злодеяния этого Папы окончательно подорвали авторитет католической церкви. Он преследовал цели, никак не связанные со службой Святому престолу, действуя только в интересах семьи Борджиа. Автор книги о Борджиа Иван Клула (1987) полагает, что дурная репутация Александра VI и его сына как отравителей стала складываться после убийства в 1495 г. пленного брата турецкого султана, который являлся важной фигурой в международных отношениях. В последние три года правления Папы Борджиа таких дел было очень много. В 1500 г. прошел слух, что внезапно сраженный лихорадкой кардинал Джованни Борджиа пал жертвой Папы. Как раз в тот момент он собирался овладеть от имени Святого престола Форли, что нарушало планы Чезаре Борджиа, кузена кардинала. В феврале 1503 г. умер содержавшийся в заключении кардинал Орсини. «Он выпил вино причастия!» – кратко записал в своем дневнике Буршар. И ни демонстрация тела по приказу Папы, ни свидетельства врачей не смогли развеять подозрение. В сообщении, посланном в Венецию, утверждалось, что Папа обратился к помощи врачей, «дабы доказать естественный характер вышеупомянутой смерти и то, что ни сила, ни яд не применялись». В апреле после двухдневной болезни и сильной рвоты скончался Джованни Микиели, кардинал Сент-Анджело и епископ Падуи и Виченцы. Опять возникло подозрение в отравлении, так же как и в отношении кардиналов Джованни Лопеза, епископа Капуи, Джованни Баттиста Феррари, епископа Модены. Франческо Гвиччардини так писал о сыне Папы Чезаре Борджиа в «Истории Италии»: «Общеизвестно, что употребление яда вошло в обыкновение у его отца и у него самого. Они использовали отравление, не только мстя своим врагам или защищаясь от тех, кто вызывал подозрения. Они утоляли таким образом свою подлую жадность, грабя собственность богатых людей, кардиналов и других придворных. Они поступали так даже с людьми, которые никогда ничем их не оскорбили (как это было с очень богатым кардиналом Сент-Анджело); даже со своими друзьями или родственниками, даже с теми из них, кто (как епископы Капуи и Модены) были очень полезны и преданно им служили». Дож Джироламо Приули подтверждал, что, когда Папа и его сын встречались с могущественным и богатым кардиналом, они добивались приглашения на обед к несчастному, которому слуга Папы вручал яд, так что тот не мог его предварительно проверить. Патриций Пикколомини разъяснил эту циничную хитрость: в присутствии Папы не полагалось предварительно пробовать никакие блюда, кроме блюд Папы. Забавляясь этой опасной игрой, отравитель, в конце концов, сам погиб от яда. Он замышлял убийство кардинала Адриана Кастеллези де Сорнето и приказал отравить три бутылки вина. Слуга перепутал бутылки и принес Папе и его сыну Чезаре отравленное вино. Молодого Чезаре спасли врачи, а Папа скончался к великой радости Приули, который восхвалял Провидение, обратившее грех отравителя против него самого. Гвиччардини рассказывал, что в Риме собралась огромная толпа, желавшая поглазеть на ужасающий труп того, кто, как змея, сеял смерть ядом, коварного, властолюбивого и невероятно жестокого негодяя. Буршар сообщал, что останки выглядели отвратительно, но не рассказывал историю смерти Папы. Вполне возможно, что Александр VI умер от малярии. Однако слишком хорош был случай, позволявший приписать смерть Папы тому средству, с помощью которого он погубил столько людей.
Фигур, подобных Александру VI, после 1503 г. больше не встречалось в истории Церкви; этот Папа остался исключением. Конфессиональные споры и политическими распри усиливались. Папа Пий V выпустил специальную буллу, разрешавшую убийство врагов папской власти. Все это порождало новые обвинения Рима в использовании яда. Однако ни один понтифик не достигал такого масштаба преступлений. Нравы пап соотносились с нравами Нерона, это напоминало об эпохе упадка древнего Рима и совсем не соответствовало всеобъемлющим теократическим устремлениям папства XIII в., согласно которым отравление тирана являлось справедливым, если ставкой было спасение мира.
Внутри церкви или против нее: яд двойного действияПод «двойным действием» в данном случае понимается не высокая токсичность того или иного вещества, о которой сообщали средневековые фармакологические трактаты. Речь идет об использовании рассказов об отравлениях в пропаганде. Властям необходимо было сплотить людей вокруг правителя, сформировать определенное общественное мнение, что развивало «политическую коммуникацию». Яркие эмоциональные характеристики, клеймившие отравления, вроде формулы Иоанна XXII horrendum scelus (ужасающее преступление),употреблялись еще чаще, чем раньше. И может быть, в первую очередь их распространяла и использовала Церковь, наряду с другими средствами пропаганды. Число случаев, когда говорили о яде, увеличилось. По-видимому, они становились инструментом воздействия на умы, причем весьма эффективным, поскольку реальность отравления, так же как и применения магии или колдовства трудно как доказать, так и опровергнуть. Помимо всего прочего, римское право квалифицировало отравление как преступление особо тяжкое. Таким образом, обвиненные в нем люди выставлялись низкими подлецами. Подобные утверждения выполняли сразу несколько функций.
В церковном сообществе обвинения в употреблении яда выдвигались против тех, кого стремились устранить или отодвинуть. В начале XX в. антиклерикальная историография рассматривала обвиняемых в отравлениях почти исключительно как жертв операций по чистке рядов, организовывавшихся властями. Так, например, соответствующие «разоблачения» Бернара де Кастане являлись частью общей политики Климента V, стремившегося ограничить влияние людей Бонифация VIII.
Еще более выразительным выглядит случай епископа Кагора Гуго Жеро. Духовное лицо обвиняли одновременно в применении яда и в колдовстве, т. е. в преступлениях в высшей степени тяжких. Враждебный Иоанну XXII германский хронист Иоанн Витодуран полагал, что Гуго Жеро осудили несправедливо в результате лживых обвинений и дурного сна Папы. Не заходя так далеко, можно сделать вывод, что обвинение протеже Климента V выражало волю кагорца Иоанна XXII нейтрализовать «гасконскую партию», верную его предшественнику. Речь шла также о стремлении наказать прелата, методы которого не нравились некоторым семьям Кагора, близким к Папе. Карьера Гуго Жеро к моменту начала дела была сильно подпорчена, и его просто добили. Епископа ожидала ужасная смерть: скорее всего, его сожгли живьем.
Обвинение антипапы Иоанна ХХIII также вписывалось в логику чистки. В 1417 г. собор в Констанце искал повода для его низложения и вспомнил об умершем семь лет назад Александре V. Тогда эту смерть никто не связывал с убийством. Напротив, бальзамирование Папы не выявило ничего подозрительного; тело долго оставалось выставленным. Правда, данный аргумент считался сомнительным. Он мог одинаково хорошо служить как утверждавшим, что наступила естественная смерть и не оставила следов на теле, так и думавшим, что останки выставили, чтобы усыпить подозрения в реальном, но невидимом преступлении. В любом случае то, что вменялось в вину антипапе, подходило к его личности, ибо он был жаден до власти и никак не желал отказываться от тиары. На одиннадцатой сессии собора было составлено обвинительное заключение против Бальтазара Коссы (как звали в миру Иоанна XXIII). В статье двадцать девятой говорилось об отравлении. При этом обвиняемого отнюдь не приговорили к смерти. Впоследствии он стал архиепископом во Флоренции.
Впрочем, обвинения в использовании ядов, так же как и сами яды, не всегда оказывались одинаково эффективными. Им приходилось подчас уступить место более действенным способам борьбы. Доброе имя Бернара де Кастане восстановило послание Папы Климента V, снимавшее с него обвинения, отпускавшее грехи и даровавшее милость. Начиная процесс главы францисканцев-спиритуалов Бернара Делисье, Иоанн XXII попытался инкриминировать ему отравление Папы Бенедикта XI, скончавшегося за тринадцать лет до этих событий. Однако это обвинение в конце концов было отвергнуто.
Осталось рассказать еще об одном специфическом случае, когда мишенью стал не один человек, а целый орден. Он связан с последствиями смерти Генриха VII в 1313 г. Преступление совершил якобы проповедник-доминиканец Бернарден из Монтепульчано, так что в глазах соперников доминиканского ордена внутри Церкви он весь оказался запятнан. В конце XIV и начале XV в. эпизод получил новое развитие. В это время враждебность к ордену усиливалась из-за той роли, которую доминиканцы играли в инквизиции, а также из-за отрицания ими непорочного зачатия Богородицы. Обвинения, выдвинутые в 1390 г., хорошо вписывались в этот контекст. Составитель «Хроники монаха из Сен-Дени» излагал их скорее с осторожностью, чем с негодованием. Границы между ядом, которым несчастные горемыки отравляли источники Франции, как говорили, по наущению братьев-якобитов, и ядом инакомыслия оказывалась размытой. Так что очень возможно, что этот странный эпизод отражал враждебность и зависть к ордену, который не был так близок к народу, как францисканцы. В 1400–1430 гг. обвинение в отравлении императора стало главным оружием противников доминиканцев. Иаков из Эша в качестве «доказательства» вины приводил знаки бесчестья, которыми были отмечены члены ордена и которые свидетельствовали о святотатственном преступлении одного из них. Хронист отмечал, что после смерти Генриха VII «святой отец, кардиналы, епископы и легаты, принцы и сеньоры приказали, чтобы отныне доминиканцы не служили и не принимали тело Господа нашего правой рукой, а только левой рукой. Им запрещалось носить облачения до пят, а только до колен, для того, чтобы навсегда сохранилась память о вышеуказанном злодеянии, когда упомянутый проповедник отравил упомянутого императора». Ужасная клевета основывалась на особенностях доминиканской евхаристической литургии. Братья ордена святого Доминика с большим трудом очищались от нее, тогда как некоторые братья-минориты вполне сознательно извлекали из сложившегося положения выгоду.
Согласно тексту 1389 г., орден доминиканцев во Франции оказался на грани роспуска. Однако не следует приписывать кому-то из францисканцев стремления добиться его уничтожения. Достаточно было дискредитировать противников. Таким образом, данная история очень хорошо иллюстрирует пропагандистское использование обвинения в отравлении.
В декабре 1574 г. в Авиньоне в возрасте 50 лет умер кардинал Лотарингский Шарль де Гиз. Кардинал заболел за восемнадцать дней до смерти, у него очень сильно болела голова. «Согласно распространявшемуся слуху, ему дали яд», – писал Пьер де л'Этуаль. Знаменитый автор подчеркивал здесь очень важный аспект всех дел об отравлениях: они позволяли манипулировать общественным мнением или, по крайней мере, как-то влиять на него. Такие слухи распространялись не столько для того, чтобы пробудить сочувствие к несчастным якобы попавшимся в ловушку жертвам, сколько для того, чтобы вызвать отвращение к предполагаемым отравителям, нанести ущерб их чести и репутации.
Внутри Церкви клеймить пап-отравителей начали с XV в. Это было фоном борьбы между понтификами и соборами. Для соборов подобное обвинение не являлось, конечно, главным. Скорее его использовали как аргумент, пусть поверхностный, но производивший впечатление. Он напоминал о том, что употребление яда можно ассоциировать с тиранией. Собравшиеся в Констанце прелаты решительно не соглашались принимать сильную папскую власть, поэтому неудивительно, что они приписывали папам один из атрибутов тирана – кубок с ядом. А выразитель «примирительной» точки зрения Базельского собора, швейцарский поэт, церковный деятель и дипломат Мартин Ле Франк в поэме «Защитник дам» восклицал: «В самом деле многие Папы / Под видом меда подносят яд». Впрочем, очень может быть, что в его сознании это была всего лишь метафора.
Отвратительные злодеяния Борджиа порождали несколько другую пропаганду. Зарождавшаяся Реформация подвергала скандальное папство позору и поруганию. В то же время, похоже, что обличения Александра VI исходили не от реформаторов, не от наследников стремившихся к компромиссу деятелей соборов XV в. По-видимому, их скорее инициировали знатные римские семейства, например Колонна, которые устали от безобразий Папы. Буршар приводил памфлеты, направленные против Борджиа. Они имели хождение в 1501–1502 гг. и, по мнению автора дневника, печатались в Германии, где их мог читать молодой Лютер. В памфлетах перечислялись преступления, в том числе и отравления. Одна такая книжица летом 1502 г. попала в руки кардинала Модены, который прочитал ее Папе. Тот очень смеялся… Что ж, в разных ситуациях аргумент воспринимался по-разному.
В реформаторской пропаганде Рим сопоставлялся с великой вавилонской блудницей, которая не изображалась по преимуществу отравительницей. В сознании Лютера Папа связывался с сатаной. Конечно, реформатор считал, что итальянцы владеют искусством ядов, однако в его полемических сочинениях мотив Рима-отравителя роли не играл. Начиная с 1520 г. Лютер критиковал папство с точки зрения экклезиологии, а с 1545 г. просто подвергал его грубым нападкам. Напротив, именно этот мотив был основным в тексте кардинала Бенно против Папы Григория VII. Его перепечатали во Франкфурте в 1581 г., протестантские типографии охотно брали этот памфлет, обличавший григорианское правление, как породившее все несчастья.
Во Франции в 1570–1580 гг. переживали расцвет памфлеты и брошюры, направленные против католической церкви или против Лиги. Их авторы не отказывали себе в удовольствии изобразить служителей Церкви чудовищами и преступниками. Дюплесси-Морне, например, использовал в полемике обвинение в отравлении и колдовстве, а следовательно, в общении с дьяволом, для того чтобы представить противника Антихристом. В тридцати девяти главах «Легенды об отце Клоде де Гизе», приписываемой Жану Дагоно или Жильберу Реньо, представлялась целая серия злодеяний аббата Клюни, связанных с ядом. Этот аббат провозглашал себя внебрачным сыном Клода Лотарингского, первого герцога де Гиза, и племянником кардинала Лотарингского. Впечатляющим был список приписанных ему жертв, убитых при пособничестве слуги Клода Гарнье, недаром прозванного «святым Варфоломеем». В их числе предполагаемый отец (или дядя) аббата, принц Конде, адмирал де Колиньи, граф де Порсьен, королева Наваррская. И это все – не считая преступных замыслов против Карла IX, его брата Генриха III и Генриха Наваррского. Изображение подобной криминальной активности должно было замарать имя Гизов, что подчеркивалось лицемерным посвящением текста Генриху Меченому.
Беспрестанно разоблачались лицемерие и тираноборческие теории иезуитов, «отравлявшие народ», как заявлял в 1694 г. генеральный адвокат Тулузского парламента. Протестанты же, особенно англикане, клеймили их за использование яда. Этьен Паскье, крупный юрист и сторонник французской галликанской церкви писал о них так: «До появления иезуитов мы в нашей Церкви и не ведали, что королей и принцев, наших государей, можно заманивать в ловушки и убивать. Этот товар поступил к нам из их лавки». Паскье выражал убеждение, что они не прекратят «распространять свой яд», если останутся во Французском королевстве. И в данном случае это, конечно, была метафора. Но в то же время автор задавался вопросом, не намеревался ли Пьер Барьер, прозванный Перекладиной (la barre),покушавшийся в 1593 г. на Генриха IV по наущению некоего члена Общества Иисуса, использовать кинжал, «натертый каким-нибудь смертоносным и ядовитым составом». В сочинении «Катехизис иезуитов» Паскье рассказывал о множестве заговоров, например, как в 1597 г. члены Общества Иисуса готовили отравление английской королевы. Направленный иезуитами отравитель произносил формулу пожелания доброго здоровья королеве, натирая седло ее лошади ядом. При этом в мыслях он желал ей прямо противоположного. Очевидно, это было что-то вроде магических заклинаний, призванных активизировать яд замедленного действия. Вице-короля Ирландии графа Эссекса планировали отравить, намазав ядом ручки его кресла. И это были не первые случаи. В тексте приводился рассказ об ужасной смерти графа Дерби в 1594 г. Иезуиты якобы отравили его, используя одновременно колдовство и наводя порчу в наказание за нежелание участвовать в их кознях против королевы.
Роль вопроса об отравлениях в жизни Церкви оказывалась столь значительной, что впору было бы говорить об отравлении общественного мнения, если бы такое определение не смешивало все обвинения и зловредные измышления. Но в любом случае все они выполняли определенную политическую функцию.
Итак, Ecclesia non abhorret a veneno(Церковь не испытывает отвращения к яду). Когда переживавшая кризис Церковь XIII–XVI вв. употребляла яд, это было не метафорическое отравление ядом ереси или ядом греха, хотя проповедники часто привлекали подобные образы. Речь шла о настоящем материальном яде. Понтификам, как и прежде, приходилось на себе испытывать его смертоносную силу, однако и сами они не гнушались пускать его в ход. Этот второй факт может показаться противоестественным. Еще Филон Александрийский сильнее осуждал отравителей, чем насильников, потому что сближал яды с колдовством. В XVI в. этой же идеи, что колдовство «имеет какие-то связи с ядом», придерживался Жак Гревен. Правда, Пьер де Бурдей Брантом (1540–1614) демонстрировал разницу между двумя составляющими veneficium:«Кюре, ненавидит колдуна, который предается дьяволу, дабы получить яды и отравляющие вещества, способные умерщвлять людей. Он говорит, что следовало бы, не вступая в связь с дьяволом, обращаться только к аптекарю и покупать у него хорошие яды, которые называются именами. Он подмешивает их в еду и питье; короче говоря, убивает ими кого угодно, вовсе не предаваясь дьяволу». И все же в эпоху, когда восприятие Зла становилось все ярче и отчетливее, оружие, связанное с нечистой силой, вроде бы должно было исчезнуть из практики римской апостолической церкви. Однако, напротив, мы видим, что естественное доверие к духовному лицу коварно использовалось в целях убийства себе подобных.
Очевидно, что фактор применения яда ощутимо присутствовал как на вершине церковной иерархии, так и во всем корпусе духовенства. Вместе с тем его нельзя назвать решающим в развитии кризиса института Церкви. Протестанты клеймили богатство и роскошество высшего духовенства, его стремление к выгодным должностям, чересчур мирской образ жизни и связанный с этим абсентеизм, его злоупотребление духовной юстицией и неверную трактовку Божественного слова. Практику отравлений не критиковали. Она оставалась эпифеноменом, несколько преувеличенным богатством источников и улучшением коммуникации. В то же время некоторые дела об отравлении рассматривались как следствие выше перечисленных зол. Например, «токсикомания» Папы Александра VI Борджиа (если можно в данном смысле употребить это слово) в глазах его хулителей как раз символизировала жадность прелатов, развращенных земными благами, коррумпированных, усвоивших манеры светских владык и их свиты. И теперь стоит посмотреть, как часто употреблялся яд в этом мире за пределами Церкви.








