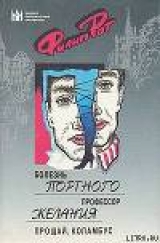
Текст книги "Профессор Желания"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
– При «воздержании»… – сказал он сочувственно. – Это ужасно.
– Иногда мне кажется, что, возможно, «Замок» связан с проблемами Кафки на сексуальной почве. Многое в книге говорит об этом.
Он смеется над моими предположениями, но, как и раньше, мягко и с обезоруживающим дружелюбием. Да, таким вот мудрым примиренцем является этот профессор на пенсии, попавший словно между молотом и наковальней, между совестью и режимом, совестью и тупой болью и желудке.
– Стало быть, – говорит он, положив мне по-отцовски руку на плечо, – каждому обструкционисту – его собственный Кафка.
– А каждому разгневанному мужчине – его собственный Мелвилл, – отвечаю я.
– Что же еще делать литераторам с великой прозой…
– … как не вгрызаться зубами в нее, вместо того, чтобы в руку, которая их душит.
В конце дня мы сели в трамваи, его номер профессор Соска написал карандашом на обложке пачки открыток, которую он церемонно вручил Клэр у дверей нашего отеля. На открытках – сам Кафка, его семья, и достопримечательные места Праги, связанные с его жизнью и творчеством. Этот набор открыток нельзя сейчас купить в магазинах, объяснил нам Соска. После того, как русские оккупировали Чехословакию, Кафка объявлен вне закона. Кафка – вне закона!
– Надеюсь, у вас остался другой набор, – сказала Клэр, – для себя?
– Мисс Овингтон, – сказал он, вежливо поклонившись. – У меня есть Прага. Пожалуйста, позвольте мне. Я убежден, что каждому, кто видит вас, хочется сделать вам подарок.
Тут он посоветовал нам посетить могилу Кафки, куда он не считает благоразумным нас сопровождать… и, помахав нам рукой, он обращает наше внимание на человека, прислонившегося спиной к припаркованному такси метрах в. пятнадцати от входа в отель. Это тот человек в штатском, информирует он нас, который ходил за ним и миссис Соска по пятам в течение нескольких месяцев после вторжения русских, в то время, когда профессор помогал организовать нелегальную оппозицию новому марионеточному режиму, а его двенадцатиперстная кишка еще была цела.
– Вы уверены, что это именно тот? – спросил я.
– Абсолютно уверен, – сказал Соска, быстро наклонившись, поцеловал руку Клэр и резвой смешной походкой, как на соревнованиях по спортивной ходьбе, смешалсея с толпой, спешащей по широкой лестнице подземного перехода, в метро.
– Господи, – говорит Клэр, – как это ужасно. Эта страшная улыбка, и это бегство!
Мы немного растеряны, особенно я, чувствующий себя, защищенным и неприкосновенным, со своим паспортом кармане и молодой женщиной рядом.
Трамвай увозит нас из центра Праги на окраину, туда, где похоронен Кафка. Окруженное высокой стеной, еврейское кладбище граничит с одной стороны с большим православным кладбищем, сквозь ограду которого нам видны посетители. Стоя на коленях, они приводят в порядок могилы, напоминая терпеливых садовников. По другую сторону этого кладбища пролегает оживленная улица, по которой движутся потоки машин из города и в город. Ворота еврейского кладбища закрыты цепью. Я стучу этой цепью и кричу в сторону того сооружения, в котором, по-видимому, находится сторож. Через какое-то время выходит, женщина с маленьким мальчиком. Я говорю ей по-немецки, что мы прилетели из самого Нью-Йорка, чтобы посетить могилу Кафки. Кажется, она поняла, но говорит, что в этот день нельзя. Приходите во вторник, говорит она. Я профессор литературы, говорю ей я и протягиваю через прутья ограды пачку крон. Появляется ключ, ворота открываются, и в сопровождении мальчика мы идем, следуя надписи на указателе. Надпись сделана на пяти языках – так много людей очаровано пугающими фантазиями этого аскета, миллионы запутанных людей:
«К hrobu / К могиле / Zum Grabe / То the grave of / a' la tombe de / FRANZE KAFKY»
Подумать только! Каменное надгробье Кафки представляет собой прочный, вытянутый и суживающийся кверху фаллос из светлого камня. Вокруг не видно ничего подобного. Это первый сюрприз. Второй заключается в том, что сын, которого третировала семья, похоронен между матерью и отцом, который пережил его. Я беру камешек с посыпанной гравием дорожки и кладу его сверху каменной горки, насыпанной теми паломниками, которые побывали здесь раньше меня. Я никогда не делал ничего подобного для моих дедушки и бабушки, похороненных вместе с тысячами других людей на кладбище, протянувшемся вдоль скоростного шоссе в двадцати минутах езды от моей нью-йоркской квартиры; не навещал больше могилы моей матери на тенистом кладбище в Катскилле после того, как мы с отцом присутствовали при установке надгробья. На прямоугольных плитах, высящихся повсюду – знакомые еврейские фамилии. Я словно перелистываю свою записную книжку или смотрю через мамино плечо в список отдыхающих в «Королевском венгерском»: Левин, Гольдшмидт, Шнайдер, Хирш… Множество могил, но только за могилой Кафки, кажется, присматривают по-настоящему. У остальных не осталось никого, кто бы пропалывал цветы или обрезал плющ, который оплел ветви деревьев, образовав сплошной навес над могилами усопших евреев. Кажется, только один бездетный холостяк оставил после себя живущее потомство. Большей иронии, чем a' la tombe de Franze Kafky, трудно себе представить.
Напротив могилы Кафки высится стена. Я вижу имя его верного друга Брода. Здесь тоже я кладу камешек и вдруг впервые замечаю таблички вдоль всей этой стены с именами евреев-пражан, истребленных в Терезине, Аусшвице, Белзене и Дахау. Я не смог бы найти такого количества камешков здесь вокруг.
Мы с Клэр направляемся к выходу. За нами молча следует мальчик. Дойдя до ворот, Клэр фотографирует этого застенчивого мальчика, на пальцах объясняется с ним, просит написать на листке бумаги, как его зовут и его адрес. С помощью жестов и мимики, открывших для меня, как много еще детского в этой молодой женщине – и каким непосредственным, как ребенок, стал я сам, – она ухитряется объяснить мальчику, что, когда фотография будет готова, она вышлет ее ему. Через две или три недели профессор Соска тоже получит от Клэр фото, которое сегодня гром она сделала около магазинчика сувениров в том доме, где Кафка когда-то жил целую зиму.
Почему я хочу запомнить, какие чувства вызывает во мне ее детская непосредственность? Почему я не ценю своего счастья? Не надо ему мешать! Хватит бросать ему вызов. Будь доволен тем, что есть! Смирись с этим!
Вышла женщина, чтобы открыть нам ворота. Мы снова обмениваемся с ней парой фраз по-немецки.
– Много посетителей приходит на могилу Кафки? – спрашиваю я.
– Не очень. Но всегда это выдающиеся люди, профессор, как вы. Или серьезные студенты. Он был великим человеком. У нас тут в Праге жило много известных еврейских писателей. Франц Верфель. Макс Брод. Оскар Баум, Франц Кафка. А сейчас, – говорит она, впервые покосившись на мою спутницу, – никого не осталось.
– Может быть, ваш мальчик вырастет и станет великим еврейским писателем.
Она переводит мои слова на чешский, а потом переводит мне то, что ответил мальчик, опустив голову и уставившись на свои ботинки.
– Он хочет стать летчиком.
– Скажите ему, что люди не приезжают через весь земной шар, чтобы посетить могилы летчиков.
Снова они обменялись с мальчиком несколькими фразами и, с улыбкой посмотрев на меня – да, она улыбается только еврейскому профессору, – она говорит:
– Ему это безразлично. Сэр, а как называется ваш университет?
Я говорю ей.
– Если хотите, я покажу вам могилу парикмахера господина Кафки. Он тоже здесь похоронен.
– Спасибо, вы очень любезны.
– Он был также парикмахером отца господина Кафки.
Я объясняю Клэр, что предложила женщина.
– Если хочешь, иди, – говорит Клэр.
– Лучше не надо, – говорю я. – Начнем с парикмахера, а к вечеру закончим могилой того, кто делал Кафке подсвечники.
– Боюсь, что это невозможно сегодня, – говорю я кладбищенской сторожихе.
– Ваша жена тоже, конечно, может пойти, – живо реагирует она.
– Спасибо, но нам пора возвращаться в отель.
Теперь она смотрит на меня с неприкрытым подозрением, как будто я вовсе не профессор уважаемого американского университета. Она пошла на то, чтобы открыть ворота в тот день, когда кладбище закрыто для посещений, а я оказался таким несерьезным, видимо, просто любопытствующим посетителем, может быть, и евреем, но в компании женщины, которая совершенно очевидно – арийка.
На трамвайной остановке я говорю Клэр:
– Ты знаешь, что сказал Кафка тому человеку, с которым он вместе работал в страховой компании? Увидев, как в обеденный перерыв тот ест сосиску, Кафка содрогнулся и сказал ему: «Единственной подобающей пищей для мужчины является половинка лимона».
Она вздыхает и грустно произносит: «Бедняга», посчитав предписанную великому писателю диету оскорбительной для здоровой девушки из Скенектади (штат Нью-Йорк), которой не приходится сетовать на свой аппетит.
Когда мы сели рядышком в трамвае, я взял ее руку и вдруг почувствовал, что освободившись после посещения кладбища от духа Кафки, я раз и навсегда освободился от призрака Бригитты после посещения того ресторана с террасой в Венеции. Мои тяжелые дни действительно остались позади.
– О, Кларисса, – говорю я, поднося ее руку к своим губам, – я чувствую, что прошлое больше не потревожит меня. Я больше ни о чем не жалею. И все мои страхи тоже ушли. И все это благодаря тому, что я нашел тебя. Мне кажется, что тот бог, который раздает женщин, посмотрев на меня, сказал: «Раз этому никак не угодишь, черт с ним!» и послал мне тебя, Клэр.
Вечером, после ужина в нашем отеле мы идем к себе в номер, чтобы собрать вещи к отъезду завтра рано утром. Пока я укладываю в чемодан свою одежду и книги, которые я читал в самолете и вечером в постели, Клэр засыпает среди вещей, разложенных на стеганом одеяле.
Кроме дневников Кафки и биографии Брода – они служили мне дополнительными путеводителями по Праге – у меня с собой книги Мисимы, Гомбровича и Жене, над которыми мы будем работать в следующем году. Я решил посвятить следующий семестр теме эротических желаний, начав с нашумевших современных романов, в которых речь идет о порочной сексуальности (эти книги волнуют студентов, волнуют читателей типа Баумгартена, потому что в них авторы подчеркивают свою личную причастность к тому, что едва ли не безнравственно), и закончив тремя шедеврами о запретной и неукротимой страсти: «Мадам Бовари», «Анна Каренина» и «Смерть в Венеции».
Стараясь не разбудить Клэр, я беру ее вещи и укладываю их в ее чемодан. Перекладывая ее вещи, я чувствую, как меня переполняет любовь. Потом я пишу ей записку, что выйду прогуляться и вернусь через час. Проходя через вестибюль, я вижу через стеклянные двери гостиничного кафе, что там теперь сидят парами и по одной человек пятнадцать или двадцать хорошеньких молодых проституток. Днем я видел только трех, сидящих за одним столиком и весело болтавших между собой. Когда я спросил профессора Соску, каким образом это все уживается с социализмом, он объяснил мне, что большинство пражских проституток – это секретарши и продавщицы, которые по совместительству занимаются проституцией с молчаливого одобрения правительства. Некоторые из них состоят на службе в Министерстве внутренних дел, чтобы собирать всю возможную информацию от членов различных делегаций с Востока и Запада, которые останавливаются в крупных отелях. Стайка девушек в мини-юбках, которых я вижу в кафе, видимо, собирается заняться представителями болгарской торговой миссии, которые оккупировали весь этаж под нами. Одна из них, та, что гладит по животу свернувшуюся у ее ног коричневую таксу, улыбается мне. Я улыбаюсь ей в ответ (что мне стоит) и выхожу на Старую Площадь, где любили гулять по вечерам Кафка и Брод. Уже больше девяти вечера. Просторная меланхоличная площадь пуста, только падают тени от старых домов, окружающих площадь. Площадка, посыпанная гравием, где днем стояли туристические автобусы, тоже опустела. Здесь нет ничего, но остались тайна и загадка. Я сижу один на скамейке под фонарем и вглядываюсь через туман, скользя взглядом мимо смутно виднеющейся фигуры Яна Гуса, в здание церкви, куда мог тайно подглядывать из своего убежища еврейский писатель.
Именно здесь мне приходят в голову первые строчки моей будущей вступительной лекции, навеянные «Докладом Академии» Кафки и показавшиеся мне поначалу причудой. Это история о том, как человекообразная обезьяна выступает перед ученым собранием. Это небольшой рассказ, в котором не больше, чем несколько тысяч слов, но я его очень люблю, особенно начало, которое кажется мне одним из самых очаровательных и поразительных в литературе: «Уважаемые члены Академии! Вы оказали мне большую честь, пригласив меня рассказать Вашей Академии о том, как я жил, когда был человекообразной обезьяной».
«Уважаемые члены литературного совета…», – начал я, но к тому времени, как я вернулся в отель и сел с карандашом в руке за свободный столик в углу кафе, до меня дошел сатирический оттенок, с которым я начал свое обращение к членам совета колледжа. Взяв фирменную бумагу отеля, я начал набрасывать официальную вступительную лекцию (хотя и не без влияния безупречного профессорского стиля выступления обезьяны), которую мне захотелось прочитать, но не в сентябре, а прямо сейчас, в этот самый момент!
Через два столика от меня сидит проститутка с маленькой таксой. К ней подходит подруга, которая вместо собачки ласкает свои собственные волосы. Она гладит их так, как будто это не ее волосы, а кого-то другого. Оторвавшись от своей работы, я прошу официанта принести каждой из этих милых, занятых на работе, девушек, обе из которых не старше Клэр, коньяк, и заказываю коньяк и себе.
– Ваше здоровье! – говорит проститутка, ласкающая собачку.
Мы, все трое, обмениваемся улыбками, и я продолжаю писать то, что побудила меня написать моя новая счастливая жизнь.
«Вместо того, чтобы первый день занятий посвятить списку литературы и общей концепции данного курса, я хотел бы рассказать вам о себе то, что я никогда раньше не рассказывал никому из моих студентов. Я не собирался этого делать, и до того момента, как вошел в эту аудиторию и сел за свой стол, не был уверен в том, что решусь на это. И все еще могу изменить это решение. Потому что, как я могу доверить вам самые интимные факты моей личной жизни? В течение следующих двух семестров мы будем собираться каждую неделю, чтобы на протяжении трех часов обсуждать книги. По своему опыту я знаю, как знаете и вы, что между нами могут установиться очень тесные отношения. Тем не менее, мы знаем также, что это не дает мне право позволить себе то, что может показаться наглостью.
Как вы уже, наверное, догадались – по тому, как я одеваюсь, и по стилю моего вступления – я всегда, даже в предшествующие неспокойные годы, придерживался традиционных отношений между студентами и преподавателями. Мне говорили, что я один из последних профессоров, которые обращаются к студентам в аудитории не по именам, а «мистер» и «мисс». Если вы даже будете одеваться в стиле гаражного механика, попрошайки, официанта кафе или угонщика скота, – я предпочту все равно представать перед вами в костюме и галстуке… хотя наблюдательный человек может заметить, что это будет один и тот же косном и галстук. А когда ко мне придут на консультацию студентки, они увидят, если потрудятся посмотреть, что в течение всего разговора я буду преднамеренно держать дверь открытой. Некоторых из вас удивит также и то, что я снимаю с руки часы, как только что сделал, и кладу их рядом со своими записями в начале каждой лекции. Я сейчас точно не помню, кто из моих профессоров следил так за временем, но это произвело на меня впечатление и впоследствии стало свидетельством профессионализма. Хотелось бы думать, что это присуще и мне.
Все это не означает, что я хочу скрыть от вас, что у меня есть определенные человеческие слабости, или что я понимаю, что они присущи и вам. К концу года вы, вероятно, устанете от той настойчивости, с которой я буду говорить о связи тех произведений, которые вы читаете по учебной программе, даже самых эксцентричных и одиозных, с тем, что вы пока знаете о жизни. Вы обнаружите, что я не всегда согласен с моими коллегами относительно программы.
Я могу выходить к вам в пиджаке и галстуке, могу называть вас «мадам» и «сэр», но собираюсь требовать от вас, чтобы вы воздержались говорить в моем присутствии о «структуре», «форме» и «символах». Мне кажется, что многие из вас достаточно запуганы первым годом учебы в колледже, и надо дать вам возможность оправиться от испуга и снова обрести тот интерес к художественной литературе, который, очевидно, и привел вас сюда. В качестве эксперимента вы даже можете попытаться в течение этого года обойтись без всей этой классной терминологии типа «сюжет», «герой» и перестать пользоваться любимыми многими из вас возвышенными словами, такими, как «прозрение», «персона» и, конечно, «существующий». Я предлагаю это в надежде на то, что, если вы будете говорить о «Мадам Бовари» более или менее тем же языком, каким вы говорите со своим бакалейщиком или любимым человеком, вам, вероятно, удастся установить более личный и интересный контакт с Флобером и его героиней.
Одной из причин того, что произведения, которые мы будем рассматривать в первом семестре, в большей или меньшей степени связаны с эротическими желаниями, является мое убеждение в том, что чтение на тему, с которой вы все уже в какой-то мере знакомы, поможет вам определить место этих книг в вашей жизни и в дальнейшем противостоять соблазнам путем использования изобразительных средств, метафорических тем и вымышленных прототипов. Больше того, я надеюсь, что читая эти книги, вы узнаете что-то ценное о жизни и одном из ее самых загадочных и сводящих с ума аспектов. Я надеюсь почерпнуть что-то и для себя.
Итак, достаточно разговоров на эту тему. Пора приступать к описанию того, что не поддается описанию – истории страстей самого профессора. Но я не могу этого сделать, пока не могу. Сначала надо дать удовлетворительные объяснения, если не вашим родителям, то, по крайней мере, самому себе, почему мне пришло в голову сделать вас своими судьями и наперсниками, почему я решил поделиться своими секретами с людьми, которые почти в два раза моложе меня, с людьми, почти со всеми из которых я не был даже раньше знаком. Почему мне понадобилась аудитория, в то время, как подавляющее большинство мужчин и женщин предпочитают или держать такие вещи при себе, или доверять их только самым близким и преданным друзьям? Что побуждает меня, вашего учителя, и уместно ли это вообще рассказывать вам, молодым, не знакомым мне людям о себе, сделав это темой первой лекции первого семестра?
Позвольте мне ответить, обращаясь к вашим сердцам. Мне нравится преподавать литературу. Редко мне доводится испытывать такое удовольствие, которое я получаю, стоя здесь, со всеми своими конспектами, книгами с пометками, перед вами. С моей точки зрения ничто в жизни не может сравниться с атмосферой классной комнаты. Иногда в середине нашего разговора, когда кто-то из вас одной фразой показывает, что постиг самую суть какого-нибудь произведения, мне хочется закричать: «Друзья мои! Цените это все!» Почему? Потому что, когда вы покинете эти стены, вы почувствуете, что люди не будут или очень редко будут разговаривать с вами или слушать вас так, как разговариваете и слушаете вы друг друга или меня в этой маленькой скучной комнате. Не так легко получить возможность говорить о том, что случилось с большинством людей, остро чувствовавших жизнь, таких как Толстой, Манн или Флобер. Вы даже не представляете себе, как это замечательно слушать, как вы вдумчиво и со всей серьезностью рассуждаете об одиночестве, болезнях, страстях, потерях, страданиях, потере иллюзий, любви, гневе, коррупции, бедствиях и смерти… Это трогает, потому что вам по девятнадцать-двадцать лет; потому что большинство из вас из благополучных, обеспеченных семей; потому что вы еще не знали болезней. А еще потому, что, как ни печально, может быть, это ваша последняя возможность просто размышлять о той жестокости, с которой со временем вам всем придется столкнуться, хотите вы этого или нет!
Надеюсь, что я ясно объяснил, почему я нахожу, что наша классная комната является сам подходящим местом для меня, чтобы поведать историю моей интимной жизни. Надеюсь, то, что я сказал, достаточно хорошо объясняет мое злоупотребление вашим временем, терпением и платой за обучение? Скажу прямо: эта классная комната значит для меня то же, что церковь для истинно верующего человека. Одни преклоняют колена на воскресной службе, другие каждое утро надевают амулеты… я же три раза в неделю надеваю галстук, кладу на стол часы и рассказываю вам о великих произведениях.
Меня переполняют сильные эмоции весь этот год. Я дойду и до них. Но сейчас, если можно, постарайтесь понять мое настроение. Я собираюсь вручить вам свой мандат на преподавание литературы. Какими бы неблагоразумными, непрофессиональными и отталкивающими не показались вам мои откровения, я продолжу и открыто расскажу вам о том, какую жизнь вел я раньше, будучи обыкновенным человеком. Я очень люблю художественную литературу и обещаю со временем рассказать все, что я о ней знаю, но моя жизнь занимает в моей душе не меньшее место».
Две хорошенькие проститутки, все еще невостребованные, продолжают сидеть за своим столиком. В белых кофточках из ангоры, светлых мини-юбках, темных чулках в сеточку и туфлях на высоченных каблуках, они напоминают детей, которые, опустошив мамин шкаф, нарядились как билетерши какого-нибудь кинотеатра, где идут порнофильмы. Держа в руке пачку листов, я поднимаюсь, чтобы уйти из кафе.
– Письмо вашей жене? – спрашивает та, что гладит собачку и немного говорит по-английски.
– Детям, – отвечаю я.
Она кивает своей подруге, той, что гладит волосы. Да, они знают этот тип, к которому принадлежу я. В свои восемнадцать они уже знают все типы.
Ее подруга говорит что-то по-чешски, и они весело смеются.
– До свидания, сэр, спокойной ночи, – говорит та, что немного владеет английским, усмехнувшись, когда я уклонился от встречи.
Кажется, они думают, что я исчерпал свои возможности, поставив им коньяк. Может быть, и так. Истинная правда.
Вернувшись в номер, я обнаружил, что Клэр, переодевшись в ночную рубашку, легла теперь под одеяло. На подушке – записка: «Любимый мой, я ощущала сегодня такую любовь к тебе! Я сделаю тебя счастливым! К.»
Меня любят! Доказательство – на моей подушке!
Что же касается моих мыслей, изложенных на листках, которые я держу в руках, то они уже не кажутся мне наполненными таким смыслом, как тогда, когда я торопился вернуться в отель со Старой Площади, умирая от желания взять в руки бумагу и написать свой доклад своей академии. Перегнув листочки пополам, я укладываю их имеете с книгами на дно чемодана вместе с запиской Клэр, обещающей сделать своего любимого счастливым. Я охвачен ликованием.
Рано утром я просыпаюсь от того, что этажом ниже, там, где спят болгары, и один из них, без сомнения, с маленькой чешской проституткой, у которой собачка, хлопает дверь. Проснувшись, я не могу восстановить в памяти запутанные сны, навалившиеся на меня ночью. Мне казалось, что я буду крепко спать, а я проснулся весь в поту и в первые секунды не мог сообразить, где я и с кем. Потом, слава Богу, я обнаружил Клэр, – большое теплое животное одного со мной вида и другого пола. Обняв ее, я начинаю вспоминать длинный оскорбительный эпизод сна, который более-менее выглядел так:
Меня встречает у поезда чешский гид, он говорит, что его зовут Икс. Как букву алфавита, объясняет он. Я уверен, что на самом деле он Герберт Братаски, но не признаюсь в этом.
– Что вам удалось уже увидеть? – спрашивает меня Икс, когда я выхожу из поезда.
– Ничего. Я же только что приехал.
– Тогда я предложу вам, с чего начать. Как вы отнесетесь к идее встретиться с проституткой, к которой ходил Кафка?
– А что, есть такая, и она еще жива?
– Вы хотели бы, чтобы я вас к ней отвел, чтобы вы могли с ней поговорить?
Я отвечаю ему, предварительно убедившись, что нас никто не подслушивает:
– Я всегда только об этом и мечтал.
– А как вам Венеция без той шведки? – спрашивает меня Икс, когда мы садимся с ним в кладбищенский трамвай.
– Мертвая.
Квартира, в которую мы идем, оказывается на четвертом этаже ветхого дома у реки. Женщине около восьмидесяти. У нее изуродованные артритом руки, ослабшие челюсти, седые волосы, чистые и ясные голубые глаза. Она сидит в кресле-качалке. Существует на пенсию покойного мужа, анархиста. «Вдова анархиста, а получает пенсию от правительства?» – думаю я про себя.
– Он был анархистом всю свою жизнь? – спрашиваю я.
– С двенадцати лет, – отвечает Икс. – С того момента, как умер его отец. Он объяснил мне однажды, как это случилось. Увидев труп своего отца, он подумал: «Этого человека, который мне улыбается и который любит меня, больше не существует. Никогда больше ни один человек не будет так улыбаться мне и так меня любить, как он. Куда бы я не попал, я всю свою жизнь везде буду чужим и врагом». Видимо, отсюда и берутся анархисты. Я думаю, что вы не анархист.
– Нет. Мой отец и я любим друг друга и по сей день. Я верю в правоту закона.
Я обращаюсь к группе своих студентов:
– Здесь, мальчики и девочки, на берегу реки – плавательный бассейн, где любили плавать Кафка и Брод. Видите, все, как я вам и говорил. Кафка существовал на самом деле. Брод его не выдумал. И я существую на самом деле. Никто не может меня выдумать, кроме меня самого.
Икс и старуха разговаривают по-чешски. Икс говорит мне:
– Я сказал, что вы – выдающийся американский авторитет по творчеству великого Кафки. Можете задавать ей любые вопросы.
– Что она из него сделала? – спрашиваю я. – Сколько ему было лет, когда они встречались? Сколько лет было ей? И где точно все это происходило?
Икс переводит:
– Она говорит: «Когда он ко мне пришел, я посмотрела на него и подумала: «Чем этот еврейский парень так расстроен?» Она думает, что это было в 1916 году. Она говорит, что ей тогда было двадцать пять, а Кафке чуть больше тридцати.
– Тридцать три, – говорю я. – Он родился, ребята, в 1883 году. И как вы уже узнали за время вашей учебы, если отнять от шести три, получится три. Отнять восемь от единицы нельзя, мы должны занять единицу из предыдущей цифры. От одиннадцати отнять восемь, получится три, от восьми – восемь, будет ноль. И от одного отнять один, тоже будет ноль. Вот почему тридцать три – это правильный ответ на вопрос: сколько лет было Кафке, когда он начал платить этой проститутке? Следующий вопрос: какое отношение имеет (если имеет) проститутка, к которой ходил Кафка, к сегодняшнему рассказу «Голодный артист»?
Икс спрашивает:
– А что еще вы бы хотели узнать?
– Как у него обстояло дело с эрекцией и оргазмом? Дневники не дают на это исчерпывающего ответа.
Ее глаза загораются огнем, когда она отвечает, хотя изуродованные руки неподвижно лежат на коленях. В середине ее неразборчивой речи на чешском я улавливаю слово, которое заставляет учащенно биться мое сердце: Франц!
Икс мрачно кивает.
– Она говорит, что с этим не было проблем. Она знала, что делать с такими, как он.
Может, спросить? А почему бы и нет? В конце концов, я приехал не просто из Америки, я приехал из небытия, куда снова скоро отправлюсь.
– Что же она делала?
Она говорит Иксу о том, что делала, чтобы разбудить автора таких…
– Назовите произведения Кафки в порядке их написания. Оценки будут вывешены на доске около кафедры. Все, кому нужны рекомендации для дальнейших занятий литературой, пожалуйста, встаньте в очередь около моего кабинета…
– Она хочет, чтобы вы дали ей денег. Американских, не кроны. Дайте ей десять долларов, – говорит Икс.
Я протягиваю деньги. Какая польза от них в небытие? Они не нужны в финале.
Икс ждет, когда она закончит, и переводит:
– Она его надула.
Наверное, я переплатил за то, чтобы узнать это. Существует такое понятие, как «небытие», и такое понятие, как «надувательство», которое мне тоже не нравится. Наверняка, эта женщина никто, а Братаски забрал себе половину денег.
– А о чем Кафка говорил? – спрашиваю я и зеваю, чтобы показать, как серьезно я отношусь к происходящему.
Икс переводит ответ старухи слово в слово.
– Я уже ничего не помню. Я не помню даже того, что со мной случилось накануне. Знаете, эти еврейские парни иногда вообще ничего не говорят. Как птички, иногда даже и не пискнут. Хотя, должна вам сказать, они никогда меня и пальцем не тронули. И были чистыми. Чистое белье. Чистые воротнички. Никогда не позволяли себе прийти даже с грязным носовым платком. Конечно, я всех мыла с мочалкой. Я всегда соблюдала гигиену. Но они не нуждались в этом. Они были чистоплотными и вели себя как джентльмены. Бог свидетель, они никогда не били меня. Даже в постели вели себя прилично.
– Она что-нибудь помнит о Кафке? Я приехал к ней, сюда, в Прагу, не для того, чтобы слушать о хороших еврейских мальчиках.
Она думает над моим вопросом. А скорее, не думает. Просто сидит как мертвая.
– Понимаете, в нем не было ничего особенного, – наконец говорит она. Я не хочу сказать, что он не был джентльменом. Все они были джентльменами.
Я говорю Герберту (он больше не притворяется, что он чех, которого зовут Икс):
– Честное слово, я не знаю, что бы еще спросить, Герберт. Я боюсь, что она может путать Кафку с кем-нибудь другим.
– У этой женщины память острая, как бритва, – отвечает Герберт.
– Тем не менее, я не могу сравнить ее с Бродом в этом вопросе.
Старая проститутка, видимо, почувствовавшая, что что-то не так, снова заговорила.
– Она хочет спросить, не хочешь ли ты взглянуть на нее, – говорит Герберт.
– Это еще зачем? – говорю я.
– Мне спросить?
– Да, пожалуйста.
Ева (Герберт утверждает, что именно так зовут женщину) подробно отвечает.
– Она предполагает, что это может быть тебе интересно, как литератору. Другие, те, что, как и ты, приходили к ней из-за ее дружбы с Кафкой, очень этого хотели, а поскольку у них были серьезные рекомендации, она с удовольствием демонстрировала им себя. Она говорит, что поскольку ты здесь по моей рекомендации, она позволит тебе взглянуть на нее.
– Герберт, какой интерес может это представлять для меня? Ты знаешь, я в Праге не один.
Перевод:
– Она честно говорит, что не понимает, чем может быть кому-то интересна. Она говорит, что рада, что может иметь какие-то, пусть небольшие деньги на том, что была дружна с молодым Кафкой, и польщена тем, что все посетители – сами известные люди. Разумеется, если джентльмен не хочет…








