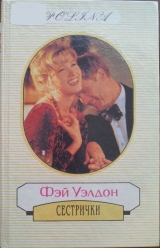
Текст книги "Сестрички"
Автор книги: Фэй Уэлдон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Глава 8
– Во что обходится нынче идеальная кухня! – восклицает Джемма. – Кто вообще мечтает об идеальной кухне, кроме тех, кто уже не мечтает о любви?
Что может ответить на это Эльза? Она пока держит язык за зубами. Джемма привела ее в святая святых – в кухню. Здесь трудятся Джонни и Энни – важные, неприступные, в своих национальных одеждах они бродят в этих стерильно-белых владениях, придирчиво смотрят своими чужестранными глазами на европейские продукты и горстку местных «на подхвате». Царство чистоты и порядка завоевало не только кухню, оно простирается и дальше, в кладовую, прачечную, бельевую, буфетную и так далее.
Работа идет как идеально отлаженный механизм – гудят кухонные машины, жужжат кондиционеры, вентиляторы и вытяжки, эти смертельные враги чада, гари и запахов, стучат ножи, которыми к ужину шинкуют капусту, строго по часам добавляется во взбиваемый майонез растительное масло. Джемма собирается печь именинный торт – один большой торт для Эльзы и Уэнди. Джемма указывает на туристические плакаты с красотами чужой природы – пена прибоя, бело-золотые пляжи, райские кущи, женщины с корзинами фруктов на голове…
– Я была в этих местах, – печально сообщает она. – Мне нет нужды дурачить кого-нибудь и собирать эти картинки по турагентствам, как это делают некоторые. К тому же эти плакаты часто далеки от реальности. А если нет, то много ли радости в бесконечной череде отелей и заунывной песчаной полосе вдоль моря? Лучше сто раз услышать, чем один раз увидеть такое. Боюсь, для многих достижение мечты влечет жестокое разочарование, тебе не кажется?
– Нет.
– Но к чему ты все-таки стремишься Эльза? На что надеешься?
– Что я никогда не буду похожа на мать. Все, – отвечает она.
Джемма устраивает свою коляску в углублении кухонного стола, вероятно, сделанного по особому заказу, и ждет, пока миска, деревянная ложка и все продукты для приготовления торта не будут ей поданы. В руках у нее кулинарная книга бабки Мэй, потемневшая, читанная-перечитанная, но аккуратно подклеенная и подшитая. Джемма начинает с тщательного взвешивания муки, сливочного масла, сахара и яиц.
– Конечно, это будет не настоящий бисквит, – замечает она. – Настоящий бисквит исключает сливочное масло, но зато и получается сухой и хрупкий.
Одно из яиц выскальзывает у нее из пальцев, она пытается удержать его… яйцо расползается. Скорлупа его необычно тонкая, как бумага.
– Какое гадкое яйцо! – восклицает Джемма. – Какое уродство! Скоро в мире не останется ничего совершенного!
Джемма протягивает Эльзе испачканную руку. Та вытирает ее салфеткой – запястье, розовую ладонь, тонкие пальцы и почти незаметный шрам на месте безымянного. Энни немедленно заменяет яйцо. Процесс взвешивания возобновляется.
– Тебе противна моя рука? – интересуется Джемма, взбивая миксером масло с сахаром.
– Нет, – говорит Эльза, бедная Эльза. – Ну, не очень…
– Честно говоря, не могу понять, зачем я живу, – жалуется Джемма. – Я не только не могу совершить ничего полезного, я еще и людям внушаю отвращение. Бедный Хэмиш, не надо было жениться на мне. Сущее несчастье для богатого человека иметь жену-калеку.
– Я не думаю, что так уж важно иметь детей, – заявляет Эльза. – Смысл жизни не обязательно только в этом.
– Однако это так, – вздыхает Джемма, вбивая по одному яйца в тесто. – Это так. Ты, впрочем, повторяешь слова Виктора.
– Неважно. Но мы с ним детей заводить не хотим. У него уже есть дочь, а что касается меня, то я знаю, чего мне не хватает в жизни.
Джемма изумлена.
– Надеюсь, не все девушки с тобой согласны. Иначе мои друзья никогда не увидят внуков.
Джемма высыпает в миску оставшуюся порцию муки.
– По-моему, ты говорила, что любишь Виктора, – продолжает она. – Соответственно, ты хочешь материализовать свою любовь, сделать ее осязаемой для будущих поколений. Разве тебе не интересно посмотреть, каков будет результат вашего генного дуэта?
– Я не говорила, что не хочу ребенка от Виктора, – возражает Эльза. – Я не хочу вообще. Меня не волнует будущее. Мои интересы все здесь, сейчас. К тому же на земле детей и так больше, чем нужно.
– Не так уж и много, насколько я могу судить, – резко говорит Джемма. – Хотя припоминаю, что в твои годы я рассуждала точно так же, ухаживая за Гермионой, Ханной, Гортензией, Хелен и Элис. Но сейчас я начинаю чувствовать боль – я засохшая ветвь рода человеческого. Природа поставила на мне крест. Она покровительствует червеподобным угрям, электрическим скатам, крикливым чайкам, стадам планктона, рыбам, которые краснеют при виде особи другого пола, – всем, кроме меня. Мне не позволено оставить потомство. Я – худшая из худших, презренная из презренных. Меня наказали жизнью.
– Ты всегда можешь воспитать чужого ребенка, – рассудительно подсказывает Эльза. Ее тон раздражает и успокаивает одновременно.
– Это далеко не одно и то же! – Страсть в голосе Джеммы не угасает. – Хотя я пробовала. Не так много чужих детей, которых можно усыновить. В наши дни только идиотки сохраняют нежелательную беременность, а кому нужен ребенок идиотки? После окончания военных действий во Вьетнаме Хэмиш отправился туда со мной. Ему нужно было в определенное время года подобрать орхидеи для разведения, а я… я искала себе ребенка. Безуспешно. Зато я встретила там Энни – беременную вдову, привезла ее в Англию, чтобы проследить за беременностью, но вдовой она оказалась мнимой (просто супруг ее скрывался от властей), а роды – преждевременными. Ребенок появился на свет мертвым. Короче, я осталась с Энни и Джонни, но по-прежнему без ребенка. Всю жизнь я гонялась за нежеланным дитятей, и всю жизнь судьба была против меня. Даже с этим тортом я не уверена в успехе. Малейшая небрежность – и корж не поднимется. Когда я жила с бабкой Мэй, то могла просто побросать все в миску, перемешать наскоро – и торт выходил на диво хорош! А сейчас благодать не снисходит на меня, и жизнь моя ограничена бытом. Правда, мать никогда не могла испечь достойный торт – так говорила мне бабка Мэй.
Джемма хватается за ожерелье. Эльзе оно кажется дешевым и убогим… какие-то блеклые искусственные жемчужины.
– Но мне, по крайней мере, – надрывно повышает голос Джемма, – не придется испытывать все прелести беременности, все эти отеки, пятна, боли, не придется и через унижение родов проходить.
– Вот эта сторона меня как раз волнует меньше всего, – говорит Эльза. – Даже забавно. Но вот после… Никуда не выйди без соски, бутылки, мешка подгузников, ваточек, тряпочек, не поспи, не поешь! И никогда больше не делать ничего, что хочется именно тебе!
– Ну, для этого на свете существуют няни, – отмахивается Джемма. – Мне бы только твой темперамент. Мне бы только твое тело. Только бы…
Она пристально смотрит на Эльзу. Девушка начинает ерзать. Ноги у нее не совсем чистые.
– Точно не знаю, – беспомощно говорит она, – но, возможно, я бесплодна. Гормональные пилюли пью с самого начала.
– Эльза, я уверена, – твердо отвечает Джемма, – что ты не просто плодовита, ты царственно плодовита, и на твоем месте я бы выбросила к черту все пилюли и проверила бы это.
Эльза слишком шокирована, чтобы сразу отвечать. Джемма берет бисквитную форму, застилает бумагой, промасливает, посыпает мукой (чуть-чуть, чтобы комков не было) и на две трети заполняет легким, белым, живым тестом, которое, кажется, едва сдерживает свою силу, чтобы не подняться и не затвердеть. Мужская сущность бисквита очевидна, как очевидна женственность печки с ее горячим лоном. Дверцы электропечки снабжены специальным магнитным затвором, предупреждающим проникновение толчков холодного воздуха и, как следствие, усадку теста. Кому понравится опавший, квелый бисквит?
– Ты готова встретиться завтра со своей падчерицей? – беспечно интересуется Джемма.
– Я могла бы уехать. Виктор отнюдь не настаивает на этом знакомстве.
– Надеюсь, он не стыдится тебя?
– Нет. Если он кого и стыдится, то их, – заявляет Эльза невинно. – А поскольку я Виктору не жена и не собираюсь ею стать, то и Уэнди я не мачеха. Пора покончить с семейными «титулами» – жена, муж, свекровь, теща, мачеха, зять, падчерица… конца края нет. Одни эти слова уже навлекают на нас неприятности.
– Ты можешь пренебречь этими условностями, – говорит Джемма. – Ты можешь вообще обойтись в жизни без единой бумажки – без брачного свидетельства, без свидетельства о рождении, без завещания, без закладных документов, без банковского счета, но люди, связанные этими бумажками, останутся. И останутся прежними. Спасенья нет.
Джемма подзывает Джонни и что-то говорит ему. Эльза не слышит, но хозяйка уже велит гостье следовать за ней. Она хочет показать, что с майонезом произошла катастрофа. Масляная капельница не сработала, и соус расслоился. Но спасти его еще можно, поэтому Джемма обращается к Эльзе:
– Ты не могла вместо меня взбить его рукой? У меня такие слабые запястья стали. Занятие, конечно, скучное, но я буду развлекать тебя своими сказками.
И Эльза садится к столу и начинает сначала медленно, потом быстрее, по капле добавляя масло, взбивать желтки. Эльза старается работать аккуратно, ибо вся утварь вплоть до салфеток простерилизована. А Джемма, то ли проклятая, то ли святая, сидит, улыбается, перебирает свои дешевые бусины и говорит, говорит…
1966-й год.
Боже, как давно это было.
Мистер Ферст ретировался в свой кабинет. Прекрасное настроение улетучилось. Джемма взяла нож и воткнула его в желто-зеленый стол, так что пластмассовые брызги взметнулись вверх. И еще раз воткнула, еще раз ударила, жалея, что перед нею бездушный стол, а не живая плоть. Чья плоть? Ее собственная? Или мистера Ферста? Или самого Леона Фокса? Джемма вряд ли знала. Она кромсала плоть всего рода человеческого, который ненавидела и который хотела уничтожить. Неужели никто не остановит ее?
Сомнительно. Где же ты, старая Мэй? Никого. Еще удар! Режь, коли. Коли, режь.
А ведь лезвие могло сломаться и вонзиться ей в глаз, ослепить навек… Вот какова была вера Джеммы в свою неуязвимость! Она даже позволяла себе подобные страшные мысли. Но где же мистер Фокс? Джемма мечтала о нем всю ночь и надеялась, что мечты ее не напрасны. Неужели для Фокса они не значат ничего?
Где ты, мистер Фокс? Джемма так ждет, так хочет тебя. Ее желание гремит на всю Вселенную.
Нецелованная, жаждущая, я жду тебя. Снизойди. Смилуйся. Я пустой сосуд вечности.
Эй, Фокс, ты слышишь? Или оглох? Где ты?
Спрятался в своем поднебесье, зарылся в джунглях пентхауза, смотришь теннис по телеку, спрятанному в шелковых зарослях цветов и занавесей? Или спишь бездыханный после вчерашней гулянки, или вообще еще не вернулся.
Ты предатель, Фокс.
– В разрушении нет ни грамма красоты, – раздался позади негромкий голос.
Мистер Фокс!
– Никогда не порти вещи, Джемма. Цени их. Страсти улягутся, а рубцы будут вечно напоминать о черных глубинах твоей натуры. На человеке рана заживает, на вещах – нет. Тебя огорчил мистер Ферст?
– Да.
– Меня он тоже огорчает, но в его руках все финансы и кредиты, поэтому ради меня смирись с ним. Только не стоит подолгу оставаться с ним наедине. Подлая сущность и дурной характер заразны более, чем инфекционная болезнь. А уродство только усиливает опасность. Общество Ферста чревато самыми неожиданными последствиями, Джемма. Посмотри, как свирепо ты набросилась с ножом на этот милый, несчастный столик. Уверен, еще вчера ты и помыслить не могла, что тебя захватит такая черная ярость.
Джемма медленно подняла на шефа сияющие глаза. Своей изысканной, ухоженной рукой мистер Фокс коснулся ее щеки.
– Джемма, – произнес он. – Джемма. Чудесное имя. Я рад, что мы нашли тебя, точнее это сделала мисс Хилари. Она очень внимательна к нам и знает наши нужды. Теперь, будь добра, покорми попугаев, налей им свежей воды. Только не из крана. Они предпочитают родниковую воду в бутылках из Миди. Они разборчивы от природы, без этого потускнеет их оперение. А в полдень – не раньше и не позже – поднимись ко мне в пентхауз, Джемма, я кое-что хочу продиктовать.
– Со стенографией у меня не очень хорошо.
– Рад слышать это и нисколько не удивлен. Язык – слишком красив, слишком величествен, слишком тонок в своем естественном виде, чтобы деликатная натура могла с легкостью уродовать его, превращая в каракули. На совести мистера Питмана большее преступление перед человечеством, чем на совести Чингис-хана.
– Да, мистер Фокс.
Чингис-хан. Кто такой Чингис-хан?
– Тем не менее, надеюсь, что пишешь ты быстро. Не хочу, чтобы мои слова попусту повисали в воздухе.
– Конечно, мистер Фокс.
– Спасибо, Джемма, прекрасное дитя.
Молниеносно и грациозно он взмыл по кружевной спирали, сверкнув напоследок переливами своего бледно-бежевого костюма, а главное – бриллиантами. Или тем, что выдавалось за бриллианты, но сияло не хуже: галстучной булавкой, кольцом, браслетом, цепочкой, утопавшей в мягких зарослях у него на груди. Неужели это подлинные бриллианты? Да. Конечно. Разумеется.
Мистер Фокс щеголь и франт – во всем великолепии нелепых излишеств.
Как нахмурился бы мистер Хемсли! И доктор, и дантист, и мясник скривились бы. И как они завидовали бы!
Мистер Фокс, ах, мистер Фокс, ты просто дурак, а Джемма любит тебя. Она искала тебя по всему свету – и вот нашла.
На человеке раны заживают, на вещах – нет. Так говорил мистер Фокс – и слукавил. Разве зажила рана Джеммы, нанесенная смертью матери? Джемме было тогда лишь три года, и нежный детский организм в плоть и кровь свою вобрал горе и отчаяние. Несмотря на то, что после похорон старая Мэй взяла маленькую Джемму к себе и отогревала своим старым телом, вдыхая жизнь, отгоняя смерть. Но зажила ли эта рана? Заживает ли рана на теле юной яблоньки, которой привили «опытную» шишковатую грушевую ветвь?
И малышка Джемма не спала в ту ночь, как ни старалась Мэй. Малышка Джемма видела бледное мертвое лицо матери, прижатое снаружи к стеклу, слышала ее молящий, зовущий голос. Но неужели вы думаете, что этому бедному дитя было легче смотреть на еще живую мать, когда та заходилась в кашле, давилась кровью, заплевывала ею умывальник; когда ее лицо ночами отражалось в темном окне, разве не было оно страшным?
Неужели вы думаете, что Джемма жила равнодушная к своему сиротству? Неужели вы думаете, что ее не трогало отсутствие в жизни отца, провинциального актера, этого щедрого на семя мужчину, который орошал собою и закулисные углы, и темные аллеи, и глухие проулки? Он шел по белу свету, и там, где проходил, как цветы весною, вырастали дети. Вырастали, чтобы жить. Или, по крайней мере, выживать.
Раненые человеческие души продолжают существовать. Их раны затягиваются, но они прячут рубцы даже от самих себя. Они едят, пьют, спят, размножаются, даже смеются, плачут и вроде бы любят, но никогда не становятся теми, кем им суждено было быть и кем им хотелось стать. Мистер Фокс, Леон Фокс, танцующий в джунглях своего пентхауза, тоже выживал. Или доживал, в основном медленно умирая, цепляясь за иллюзию богатства, власти, пышности своими наманикюренными ногтями, которыми раскромсал уже десятки человеческих жизней.
Мистер Фокс, Леон Фокс, прячущийся в джунглях, всматривался в свое лицо, отраженное зеркалом в стиле модерн, страшась увидеть выпадающие клочья волос и гнилые зубы.
Этажом ниже Джемма давала попугаям строго определенную мерку корма и меняла воду в поилках.
– Отец мистера Фокса работал официантом в отеле «Риц», – сообщила Мэрион, вернувшись в офис из Дорчестера, куда она отвозила заказанный кулон. Клиентом был какой-то киномагнат, заглянувший сюда по дороге в Токио. Заглянет туда, заглянет сюда, просадит все деньги, предназначенные для съемок фильма, который никто и никогда не увидит, – кипятилась Мэрион и добавила: – Только об этом – об отце Фокса – никто не должен знать. Так что не выдавай меня.
– Официант! Не верю! – ахнула Джемма.
– И очень плохой официант, – сказала Мэрион. – Он ненавидел еду и ненавидел богатых. Говорят, Леон во всех отношениях превзошел его. А кулон, который я отвозила, вещь пошлая, если не сказать хуже, хоть и золотая. Голая девка сидит на коленях у жирного мужика, и что уж он там с ней делает, одному Богу известно. Я не приглядывалась. К прозрачному футляру мы всегда прилагаем увеличительное стекло, но я им не воспользовалась. Нашим клиентам, похоже, нравится получать художественно выполненные оскорбления. Это же не просто кулон, это портрет, шарж – называй как хочешь. Сам мистер Фокс не желает доставлять заказы. Вот и приходится мне. Ты же знаешь, какое для него значение имеет внешность человека. Удивительно еще, как он меня терпит. Правда, по-настоящему он не выносит только жирных людей. А я скорее плотная, чем жирная.
– У мистера Фокса, должно быть, золотые руки, – только и нашлась что сказать Джемма, и в этот момент Мэрион на глаза попался нож с резной рукояткой, вонзенный в желто-зеленую поверхность стола. Он тихо покачивался. Отчего же? От взмахов десятков птичьих крыльев? Но нет, птицы сегодня на редкость спокойны: сидят на голых ветках искусственных деревьев и вот уж который час ни звука, только моргают бусинами глаз и ворочают головками. Даже клетка сегодня не заперта, и они могли бы запросто вылететь, но нет… Они будут молчать, пока не вспугнет их внезапный шум – в помещении ли, на улице ли, – и тогда они взметнутся разом, взорвут тишину несносным гомоном, презрев свое рабство, начнут биться в двери, в потолок, в окна, а снаружи на их вопли будут ломиться свободные братья… и посыпятся перья, и потечет кровь.
Нож, воткнутый в хрупкую гладь стола, покачнулся и со звонким стуком упал, стоило Джемме посмотреть в его сторону. Каменное лицо Мэрион потеряло цвет, и на его землистом безжизненном фоне промелькнула целая кавалькада эмоций: страх, печаль, злоба, отчаяние – все то, что ежечасно присутствует на нем, но скрыто от случайного взгляда.
– Что ты собираешься делать с этим ножом? – мертвым голосом спросила Мэрион.
– Ничего, – пожала плечами Джемма, точь-в-точь как Элис, пойманная на шалости.
Девушка прошла через комнату, взяла нож и на ощупь проверила остроту лезвия.
– Положи, – сказала Мэрион.
– Мистер Ферст заявил, что перережет этим ножиком мне горло, если я не пойду с ним обедать, – с наигранной беспечностью сообщила Джемма.
Мэрион не улыбнулась, не успокоилась.
– Тогда тебе, пожалуй, лучше пойти, – с расстановкой произнесла она.
– Глупости! – передернула плечами удивленная Джемма. – Он всего лишь гнусный старикашка.
Как будто старикашка не нуждается в сострадании и понимании, как будто не имеет права удовлетворять свои желания, как будто его вообще можно вычеркнуть из жизни.
– Он не старше Фокса.
– Не верю. У мистера Фокса пышнее волосы.
– Искусственные.
– То есть как?
– Пластическая хирургия чего только не достигла: берут лобковые волосы и вживляют в кожу головы. Потому у него такая жесткая и кудрявая шевелюра. Если не искусственная, то не своя точно. Джемма, я не думаю, что тебе стоит работать здесь дальше.
– Почему?
Эта работа, комната в доме Мэрион, любовь к Леону Фоксу – это все, что было у Джеммы в жизни. Это был фундамент, на котором она собиралась строить свое будущее. А теперь она слышит – нет. Почему же?
– Здесь небезопасно, – опустив голову, выговорила Мэрион. И снова этот угрюмый, недобрый взгляд, в котором сейчас сквозит безумие. Ну, конечно, вот в чем дело. Мэрион больная. Помешанная. И ее родители знают об этом. Поэтому у них и были такие странные разговоры дома, поэтому Мэрион до сих пор живет с ними, поэтому до сих пор не имеет личной жизни. Она сумасшедшая.
О. Господи, подумала Джемма, надо же так влипнуть. А вдруг Мэрион сейчас воткнет этот нож ей в сердце? Джемма знала, такое частенько случается с помешанными.
Миссис Дав была такой. Сумасшедшая миссис Дав, супруга мясника, зарезала двоих своих детей, а потом и себя, с тем, чтобы спастись (как она прошептала, умирая) от Круглоголовых. Миссис Дав жила в деревянном доме на холме, куда так и не проложили дорогу. Мясник приходил вечерами домой по локоть в засохшей крови. Это он так шутил. Голова у него была лысая и круглая, глазки маленькие, заплывшие от безмерного количества потребляемого им пива. Миссис Дав приходилось по шесть с лишним километров топать в деревню на своих варикозных ногах. Немногие навещали ее. В доме стоял спертый воздух. Дети – две девочки – были светленькие, длинноволосые. Мать каждый день старательно причесывала их, щипцами закручивая старофранцузские локоны. Бедные маленькие мертвые дети, навеки избавленные от злобных Круглоголовых. Бедная, бедная спятившая жена мясника.
Что о ней говорить – о ней молчали. А вот его жалели. Несчастный, жениться на сумасшедшей, надо же! Более того, на сумасшедшей, которая позволила себе такую вольность, как свести счеты с жизнью. Неслыханная наглость! Гордыня безумца – явление страшное. Он гонит всех от себя, видит мир иначе, не слышит слова ближнего, не примет руки ближнего и населяет свой мир старофранцузским барышнями и Круглоголовыми. И все это кончается смертью, кровью, которой было столько, что ни один мясник не видел. Увы, смерть – единственный выход для тех, кто не может, не хочет отказаться от веры в мир, неведомый более никому.
– Небезопасно?
Джемма подыгрывала Мэрион. Джемма воспряла духом и была полна отваги, как слепая летучая мышь, вцепившаяся в львиную гриву. Так она всегда подыгрывала малышке Элис, когда у той случались видения… будто мистер Хэмсли с лестницы грозит кулаком своей пятой, младшей дочери.
Она сумасшедшая!
– Но еще вчера ты настаивала, чтобы я осталась здесь.
– Вчера все было иначе.
– Значит, ты обоих хочешь себе прибрать! – Джемма злорадствовала. – И Фокса, и Ферста. Ты ревнуешь, что мистер Ферст приглашал меня обедать и что мистеру Фоксу я подавала наверх кофе. Ты, оказывается, не любишь конкуренции.
– Все не так просто, как ты думаешь. Положи, пожалуйста, нож. Мне дурно становится при виде того, как ты крутишь его. Положи его в ящик стола, где ему положено быть, и забудь о нем.
– Смотри-ка, на лезвии кровь, – воскликнула Джемма. И действительно – на стали несколько рыже-бурых пятен.
– Это ты выдумала! – рассердилась Мэрион. – Это не кровь, это ржавчина. Должна быть ржавчина. А если ты такая любопытная, то знай: я сон видела про этот проклятый нож. Он в офисе уже неведомо сколько лет. Он жутко острый. Офелия, последняя наша секретарша, сломала однажды ноготь. Ножниц маникюрных у нее не оказалось, так она взяла этот нож, чтобы подровнять ноготь. Нож соскочил и так взрезал ей палец! Кровищи было! Но мы все вытерли, так что крови на нем быть не может, ржавчина – да. Это было, кстати, после того сна.
– Расскажи.
– Садись ближе. Стены очень тонкие, как во всех современных домах. И потолки тонкие. Иногда мистер Фокс днем приводит туда своих моделей. Полы скрипят, ходуном ходят, но не так, как скрипит кровать в родительской спальне. Это совершенно иные звуки. Я не знаю, что там происходит, чем они там занимаются. Мне дела нет.
– Так твой сон? – напомнила Джемма, сжимая зубы. Совсем скоро полдень, когда ей надо идти наверх и записывать то, что пожелает сказать мистер Фокс, и не будет ничего удивительного, если заскрипят полы. Уж Джемма постарается, чтобы они скрипели так, как пожелает мистер Фокс, и это будет решительно отличаться от жалкого скрипа в спальне Рэмсботлов, потому что Джемма предложит Фоксу свою девственность, а кто откажется от такого подарка? Но прежде надо отделаться от этой сумасшедшей, от Мэрион.
О глупая Джемма! Глупая девственница Джемма!
– Мне снилось, что я работала допоздна, сверхурочно, – заунывно начала Мэрион. – Я сидела в этом углу и разбирала нижние ящики – розовый и черный. Потом я решила покурить, села на пол почти в полной темноте и стала мечтать о Скандинавии и о ее фьордах. Я давно хочу увидеть фьорды. Мать с отцом любят пляжи, солнце и чеснок, а вот я люблю скалы и тихие, глубокие воды. Никогда не узнаешь, что они таят. На Средиземноморье все иначе – на воде презервативы так и плавают. И даже намека нет на вечные ценности. А я обожаю суровую природу севера, величавые легенды… Обязательно побываю на севере. Одна. Хотя одной мне часто не по себе. То видения, то ночные кошмары.
– Ты кажется, собиралась рассказать сон. Если нет, я пойду. – Вот так Джемма всегда дразнила маленькую Ханну, которая болтала с утра до вечера. – Потому что уже почти полдень. Мне надо идти с блокнотом к мистеру Фоксу.
Но не только для этого, а еще и для того, чтобы Леон Фокс раздел меня, расстегнул бы пуговку за пуговкой, крючок за крючком и поставил бы меня, нагую, перед собою, как сотни раз становилась я сама перед зеркалом, и тогда глаза его увидят то, что ни один мужчина не видел, руки его побывают там, где ничьих рук еще не было.
Кроме проклятых докторских.
– Ах да, – сказала Мэрион. – Сон. Так вот, сидела я в углу, в полумраке, мечтала о тихой, глубокой воде, как вдруг услышала вопль, и сюда вбежала женщина, совершенно голая женщина. В тот же миг взметнулись птицы, забились, закричали… Напрасно та женщина разделась донага: она была невозможно жирная, тряслись ягодицы, ляжки, груди… И тут я поняла, что это сестра мистера Ферста…
– Та самая, которая покончила с собой?
– Да, сестра мистера Ферста. А за нею из кабинета Ферста гнался мужчина и, догнав, ударил ее по голове вот этой лампой. Алебастр, между прочим.
Алебастр – материал ненадежный, легко пачкается, легко ломается. Джемма смотрела на белый шар лампы и видела следы и полосы там, где соприкоснулся он с головой… Да, смертельное оружие в больном воображении помешанной секретарши.
– Это чудесная, элегантная лампа, – сказала Мэрион, – но очень тяжелая. Женщина упала, а преследователь ее взъярился, будто она не должна была этого делать. Потом он наклонился и попытался снять кольцо с ее пальца, но не смог. Знаешь, как кольца впиваются, когда руки толстеют. Тогда он схватил этот нож и в неистовстве отрубил палец… Палец с кольцом взлетел и опустился прямо мне на колени. А я была в своей любимой бежевой юбке. В ужасе я сжалась, подумала, что теперь он убьет меня. Но он даже не взглянул по сторонам и меня не увидел. Про кольцо и палец он, казалось, забыл. А вместо этого подошел к окну и открыл его – сбоку есть специальный рычаг, но им редко пользуются, открывать окно стараются пореже, уж больно опасно – и выбросил женщину вниз. Весь пол был в крови, смотри, до сих пор осталось, хотя я чем только не скребла.
– Ты же говорила, что Офелия порезала палец. Ты просто не в себе, Мэрион. Ты сумасшедшая.
– Нет, я не сумасшедшая. Видеть сны это не безумие. Это, наоборот, развивает личность… Он отвернулся, я успела выскочить, а внизу уже собралась толпа, все вопили, орали… Ох, Джемма, Джемма.
– Представляю, какое впечатление на тебя произвело самоубийство мисс Ферст, раз после этого начались такие жуткие сны.
– Сон, по-моему, был до того. А может и нет. Все у меня перепуталось.
– Может быть, тебе обратиться к психиатру?
– Обращалась. Прописали валиум. Самое страшное в том сне – палец. Я ведь взяла его домой и спрятала в ящике своего комода. Зарыла среди своих любимых вещичек… знаешь, всякие мелочи – косынки, чулочки, ремешки… завернула, конечно, в огромную тряпку, и все равно кровь просочилась.
– Правы твои родители, – заметила Джемма. – Тебе пора в отпуск.
– Если это вообще был сон, – с надрывом продолжала свое Мэрион. – Если это не было явью. Как я могу быть уверена? Но то, что случилось в этом сне, я помню лучше чем то, что в прошлом году была на Канарских островах. Был там официант, помню. Мать с отцом все время подстраивают мне романтические приключения, так было и на Канарах. Но я помню лишь красное испанское вино и официанта в дверях. На следующий день все испарилось. Мне даже нечего было рассказать родителям. А они очень любят, чтобы им все рассказывали в мельчайших подробностях. Если ты найдешь какой недостаток в моих стариках, то только этот.
– Конечно, это был сон, – сказала Джемма. – Ты боишься Ферста, вот и приснилось дурное. А теперь я пойду к мистеру Фоксу. Он будет диктовать.
Мэрион открыла было рот, но говорить не стала. На лице ее появилось злорадство, как у Гермионы, когда она разрушала карточный домик Ханны и притворялась, что в этом виноват сквозняк.
– Что же, иди, – молвила она. – Мне какое дело.
Очень даже большое дело, подумала Джемма. Ты любишь мистера Фокса. Да весь мир любит Леона Фокса. Джемма его любит. И Джемма с решительностью и хладнокровием, о каких в себе и не подозревала (до поры до времени мы все милые, сдержанные люди), поправила перед зеркалом волосы, погримасничала, как это делают все девушки, взяла блокнот, остро заточенный карандаш и назло Мэрион, покачивая бедрами, начала восхождение. Пройти все круги… этой лестницы и через пятнадцать ступеней оказаться у цели.
– Элис! – восклицает Джемма, приветственно протягивая гостье руки. Эльза делает неверное движение, и вместо капли растительного масла в соус падает целая столовая ложка. Майонез сразу превращается в жирную массу. Работа насмарку.
– Элис, наконец-то. Как же я ждала тебя!
Элис Хемсли, красивая и дерзкая, в черных джинсах и белоснежной рубашке, загорелая, статная, с горделивым профилем, стоит, уперев руки в боки и высоко подняв голову. Ее вьющиеся черные волосы коротко подстрижены, на щеках нежный румянец. Голос низкий, хрипловатый, но грудь высокая и полная, так что каждый, кто сомневался в половой принадлежности этого существа, вздыхает с облегчением: доказательства женственности налицо.
В глазах Джеммы счастливые слезы. Эльза чувствует необъяснимый укол ревности.
– Я была сердита на тебя, – говорит Элис. – Пришлось ждать.
– Сердита? За что? Что я сделала?
– Ты не была на похоронах своей бабушки.
– Мэй умерла. Ей уже все равно.
– Тем не менее ты должна была поехать.
– Я послала деньги на похороны. Я инвалид. Мне трудно переезжать с места на место.
– В путешествия ты ездишь исправно.
– Если я еду куда хочу, если за свои деньги я получаю покой, тепло и удовольствие – это одно. Если я еду по обязанности, ноги мои начинают болеть нестерпимо. Неужели ты хочешь, чтобы я страдала?
– А что в этом такого? – сухо спрашивает Элис. – Все страдают.
– Кто был на похоронах?
– Директриса дома престарелых и я.
– Вот видишь! Я бы не выдержала.
– Ты никогда не навещала ее. Взвалила это на меня.
– Ты умеешь общаться с больными и стариками. Я – нет.
– Она ради тебя пожертвовала всем, а что сделала для нее ты?
– Я отдала ей шестнадцать лет моей жизни. Жизни реальной! Юная девушка, запертая со старухой…
– Теперь ты заперта наедине с собою, поскольку Мэй рядом нет и грешить не на кого.








