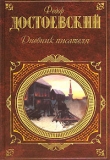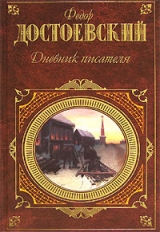
Текст книги "Том 14. Дневник писателя 1877, 1980, 1981"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 55 страниц)
Все газеты, чуть только заговаривали о Некрасове, по поводу смерти и похорон его, чуть только начинали определять его значение, как тотчас же и прибавляли, все без изъятия, некоторые соображения о какой-то «практичности» Некрасова, о каких-то недостатках его, пороках даже о какой-то двойственности * в том образе, который он нам оставил о себе. Иные газеты лишь намекали на эту тему чуть-чуть, в каких-нибудь двух строках, но важно то, что все-таки намекали, видимо по какой-то даже необходимости, которой избежать не могли. В других же изданиях, говоривших о Некрасове обширнее, выходило и еще страннее. В самом деле: не формулируя обвинений в подробности и как бы избегая того, от глубокой и искренней почтительности к покойному, они все-таки пускались… оправдывать его, так что выходило еще непонятнее. «Да в чем же вы оправдываете? – срывался невольно вопрос;– если знаете что, то прятаться нечего, а мы хотим знать, нуждается ли еще он в оправданиях ваших?» Вот какой зажигался вопрос. Но формулировать не хотели, а с оправданиями и с оговорками спешили, как будто желая поскорее предупредить кого-то, и, главное, опять-таки, – как будто и не могли никак избежать этого, хотя бы, может быть, и хотели того. Вообще чрезвычайно любопытный случай, но если вникнуть в него, то и вы, и всякий, кто бы вы ни были, несомненно придете к заключению, чуть лишь размыслите, что случай этот совершенно нормальный, что, заговорив о Некрасове как о поэте, действительно никак нельзя миновать говорить о нем как и о лице, потому что в Некрасове поэт и гражданин – до того связаны, до того оба необъяснимы один без другого и до того взятые вместе объясняют друг друга, что, заговорив о нем как о поэте, вы даже невольно переходите к гражданину и чувствуете, что как бы принуждены и должны это сделать и избежать не можете.
Но что же мы можем сказать и что именно мы видим? Произносится слово «практичность», то есть умение обделывать свои дела, но и только, а затем спешат с оправданиями: «Он-де страдал, он с детства был заеден средой», он вытерпел еще юношей в Петербурге, бесприютным, брошенным, много горя, а следственно, и сделался «практичным» * (то есть как будто и не мог уж не сделаться). Другие идут даже дальше и намекают, что без этой-то ведь «практичности» Некрасов, пожалуй, и не совершил бы столь явно полезных дел на общую пользу, например, совладал с изданием журнала * и проч., и проч. Что же, для хороших целей оправдывать, стало быть, дурные средства? И это говоря о Некрасове-то, человеке, который потрясал сердца, вызывал восторг и умиление к доброму и прекрасному стихами своими. Конечно, всё это говорится, чтоб извинить, но, мне кажется, Некрасов не нуждается в таком извинении. В извинениях на подобную тему всегда заключается как бы нечто принизительное, и как бы затемняется и умаляется образ извиняемого чуть не до пошлых размеров. В самом деле, чуть я начну извинять «двойственность и практичность» лица, то тем как бы и настаиваю, что эта двойственность даже естественна при известных обстоятельствах, чуть не необходима. А если так, то совершенно приходится примириться с образом человека, который сегодня бьется о плиты родного храма, кается, кричит: «Я упал, я упал». И это в бессмертной красоты стихах * , которые он в ту же ночь запишет, а назавтра, чуть пройдет ночь и обсохнут слезы, и опять примется за «практичность», потому-де, что она, мимо всего другого, – и необходима.Да что же тогда будут означать эти стоны и крики, облекшиеся в стихи? Искусство для искусства не более, и даже в самом пошлом его значении, потому что он эти стихи сам похваливает, * сам на них любуется, ими совершенно доволен, их печатает, на них рассчитывает: придадут, дескать, блеск изданию, взволнуют молодые сердца. Нет, если всё это оправдывать, да не разъяснив, то мы рискуем впасть в большую ошибку и порождаем недоумение, и на вопрос: «Кого вы хороните?» – мы, провожавшие гроб его, принуждены бы были ответить, что хороним «самого яркого представителя искусства для искусства, какой только может быть». * Ну, а было ли это так? Нет, воистину это не было так,а хоронили мы воистину «печальника народного горя» и вечного страдальца о себе самом, вечного, неустанного, который никогда не мог успокоить себя, и сам с отвращением и самобичеванием отвергал дешевое примирение.
Нужно выяснить дело, выяснить искренно и беспристрастно, и что выяснится, то принять как оно есть, несмотря ни на какое лицо и ни на какие дальнейшие соображения. Тут надо именно выяснить всю суть по возможности, чтобы как можно точнее добыть из выяснений фигуру покойного, лицо его; так наши сердца требуют, для того чтоб не оставалось у нас о нем ни малейшего такого недоумения, которое невольно чернит память, оставляет нередко и на высоком образе недостойную тень.
Сам я знал «практическую жизнь» покойника мало, а потому приступить к анекдотической части этого дела * не могу, но если б и мог, то не хочу, потому что прямо окунусь в то, что сам признаю сплетнею. Ибо я твердо уверен (и прежде был уверен), что из всего, что рассказывали про покойного, по крайней мере половина, а может быть и все три четверти, – чистая ложь. Ложь, вздор и сплетни. У такого характерного и замечательного человека, как Некрасов, – не могло не быть врагов. А то, что действительно было, что в самом деле случалось, – то не могло тоже не быть подчас преувеличено. Но приняв это, все-таки увидим, что нечто все-таки остается. Что же такое? Нечто мрачное, темное и мучительное бесспорно, потому что – что же означают тогда эти стоны, эти крики, эти слезы его, эти признания, что «он упал», эта страстная исповедь перед тенью матери? Тут самобичевание, тут казнь? Опять-таки в анекдотическую сторону дела вдаваться не буду, но думаю, что суть той мрачной и мучительной половины жизни нашего поэта как бы предсказана им же самим, еще на заре дней его, в одном из самых первоначальных его стихотворений, набросанных, кажется, еще до знакомства с Белинским (и потом уж позднее обделанных и получивших ту форму, в которой явились они в печати). * Вот эти стихи:
Огни зажигались вечерние,
Был ветер и дождик мочил,
Когда из Полтавской губернии
Я в город столичный входил.
В руках была палка предлинная,
Котомка пустая на ней,
На плечах шубенка овчинная,
В кармане пятнадцать грошей.
Ни денег, ни званья, ни племени,
Мал ростом и с виду смешон,
Да сорок лет минуло времени,—
В кармане моем миллион. *
Миллион – вот демон Некрасова! Что ж, он любил так золото, роскошь, наслаждения и, чтобы иметь их, пускался в «практичности»? Нет, скорее это был другого характера демон; это был самый мрачный и унизительный бес. Это был демон гордости, жажды самообеспечения, потребности оградиться от людей твердой стеной и независимо, спокойно смотреть на их злость, на их угрозы. Я думаю, этот демон присосался еще к сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лет, очутившегося на петербургской мостовой, почти бежавшего от отца. Робкая и гордая молодая душа была поражена и уязвлена, покровителей искать не хотела, войти в соглашение с этой чуждой толпою людей не желала. Не то, чтобы неверие в людей закралось в сердце его так рано, но скорее скептическое и слишком раннее (а стало быть, и ошибочное) чувство к ним. Пусть они не злы, пусть они не так страшны, как об них говорят (наверно думалось ему), но они, все, все-таки слабая и робкая дрянь, а потому и без злости погубят, чуть лишь дойдет до их интереса. Вот тогда-то и начались, может быть, мечтания Некрасова, может быть, и сложились тогда же на улице стихи: «В кармане моем миллион».
Это была жажда мрачного, угрюмого, отъединенного самообеспечения, чтобы уже не зависеть ни от кого. * Я думаю, что я не ошибаюсь, я припоминаю кое-что из самого первого моего знакомства с ним. По крайней мере мне так казалось всю потом жизнь. Но этот демон всё же был низкий демон. Такого ли самообеспечениямогла жаждать душа Некрасова, эта душа, способная так отзываться на всё святое и не покидавшая веры в него. Разве таким самообеспечением ограждают себя столь одаренные души? Такие люди пускаются в путь босы и с пустыми руками, и на сердце их ясно и светло. * Самообеспечение их не в золоте. Золото – грубость, насилие, деспотизм! Золото может казаться обеспечением именно той слабой и робкой толпе, которую Некрасов сам презирал. Неужели картины насилия и потом жажда сластолюбия и разврата могли ужиться в таком сердце, в сердце человека, который сам бы мог воззвать к иному. «Брось всё, возьми посох свой и иди за мной». *
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви. *
Но демон осилил, и человек остался на месте и никуда не пошел.
За то и заплатил страданием, страданием всей жизни своей. В самом деле, мы знаем лишь стихи, но что мы знаем о внутренней борьбе его с своим демоном, борьбе несомненно мучительной и всю жизнь продолжавшейся? Я и не говорю уже о добрых делах Некрасова: он об них не. публиковал, но они несомненно были, люди уже начинают свидетельствовать об гуманности, нежности этой «практичной» души. Г-н Суворин уже публиковал нечто * , я уверен, что обнаружится много и еще добрых свидетельств, не может быть иначе. «О, скажут мне, вы тоже ведь оправдываете, да еще дешевле нашего». Нет, я не оправдываю, я только разъясняю и добился того, что могу поставить вопрос, – вопрос окончательный и всеразрешаюший.
Еще Гамлет дивился на слезы актера, декламировавшего свою роль и плакавшего о какой-то Гекубе: «Что ему Гекуба?» * – спрашивал Гамлет. Вопрос предстоит прямой: был ли наш Некрасов такой же самый актер, то есть способный искреннозаплакать о себе и о той святыне духовной, которой сам лишал себя, излить затем скорбь свою (настоящую скорбь!) в бессмертной красоты стихах и назавтра же способный действительно утешиться… этой красотою стихов. Красотою стихов и только. Мало того: взглянуть на эту красоту стихов как на «практическую» же вещь, способную доставить прибыль, деньги, славу, и употребить эту вещь в этом смысле? Или, напротив того, скорбь поэта не проходила и после стихов, не удовлетворялась ими; красота их, сила, в них выраженная, угнетала и мучила его самого, и если, будучи не в силах совладать с своим вечным демоном, с страстями, победившими его на всю жизнь, он и опять падал, то спокойно ли примирялся с своим падением, не возобновлялись ли его стоны и крики еще сильнее в тайные святые минуты покаяния, – повторялись ли, усиливались ли в сердце его с каждым разом так, что сам он, наконец, мог видеть ясно, чего стоит ему его демон и как дорого заплатил он за те блага, которые получил от него. Одним словом, если он и мог примирятьсямоментально с демоном своим и даже сам мог пускаться оправдывать «практичность» свою в разговорах с людьми, то оставалось ли такое примирение и успокоение навечно или, напротив, улетало мгновенно из сердца, оставляя по себе еще жгуче боль, стыд и угрызения? Тогда, – если б только можно было решить этот вопрос, – тогда нам что ж бы оставалось? Оставалось бы только осудить его за то, что, будучи не в силах совладать с соблазнами своими, он не покончил с собой, например, как тот древний печерский многострадалец, который, тоже будучи не в силах совладать с змием страсти, его мучившей, закопал себя по пояс в землю и умер, * если не изгнав своего демона, то, уж конечно, победив его. В таком случае, мы сами, то есть каждый из нас, очутились бы в унизительном и комическом положении, если б осмелились брать на себя роль судей, произносящих такие приговоры. Тем не менее поэт, который сам написал о себе:
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан, *
тем самым как бы и признал над собой суд людей как «граждан». Как лицам нам бы, конечно, было стыдно судить его. Сами-то мы каковы, каждый-то из нас? Мы только не говорим лишь о себе вслух и прячем нашу мерзость, с которою вполне миримся, внутри себя. Поэт плакал, может быть, о таких делах своих, от которых мы бы и не поморщились, если б совершили их. Ведь мы знаем о падениях его, о демоне его из его же стихов. Не было бы этих стихов, которые он в покаянной искренности своей не убоялся огласить, то и всё, что говорилось о нем как о человеке, о «практичности» его и о прочем, – всё это умерло бы само собою и стерлось бы из памяти людей, понизилось бы прямо до сплетни, так что всякое оправдание его оказалось бы вовсе и не нужным ему. Замечу кстати что для практического и столь умеющего обделывать дела свои человека действительно непрактично было оглашать свои покаянные стоны и вопли, а стало быть, он, может быть, вовсе был не столь практичен, как иные утверждают о нем. Тем не менее, повторяю, на суд граждан он дoлжeн идти, ибо сам признал этот суд. Таким образом, если б тот вопрос, который поставился у нас выше: удовлетворялся ли поэт стихами своими, в которые облекал свои слезы и примирялся ли с собою до того спокойствия, которое опять позволяло ему пускаться с легким сердцем в «практичность», или же, напротив того, – примирения бывали лишь моментальные, так что он сам презирал себя, может быть, за позор их, потом мучился еще горче и больше, и так во всю жизнь, – если б этот вопрос, повторяю, мог бы быть разрешен в пользу второго предположения, то, уж конечно, тогда мы бы тотчас могли примириться и с «гражданином» Некрасовым, ибо собственные страдания его очистили бы перед нами вполне нашу память о нем. Разумеется, тут сейчас является возражение: если вы не в силах разрешить такой вопрос (а кто может его разрешить?), то и ставить его не надо было. Но в том-то и дело, что его можно разрешить. Есть свидетель, который может его разрешить. Этот свидетель – народ.
То есть любовь его к народу! И, во-первых, для чего бы «практическому» человеку так увлекаться любовью к народу. Всякий занят своим делом: один практичностью, другой печалью по народе. Ну, положим, прихоть, так ведь поиграл и отстал. А Некрасов не отставал во всю жизнь. Скажут: народ для него – это та же «Гекуба», предмет слез, облеченных в стихи и дающих доход. Но я уже не говорю о том, что трудно до того подделать такую искренность любви, какая слышится в стихах Некрасова (об этом спор может быть бесконечный), но я о том только скажу, что мне ясно, почему Некрасов так любил народ, почему его так тянуло к нему в тяжелые минуты жизни, почему он шел к нему и что находил у него. Потому, как сказал я выше, что любовь к народу была у Некрасова как бы исходом его собственной скорби по себе самом.Поставьте это, примите это – и вам ясен весь Некрасов, и как поэт и как гражданин. В служении сердцем своим и талантом своим народу он находил всё свое очищение перед самим собой. Народ был настоящею внутреннею потребностью его не для одних стихов. В любви к нему он находил свое оправдание. Чувствами своими к народу он возвышал дух свой. Но что главное – это то, что он не нашел предмета любви своей между людей, окружавших его, или в том, что чтут эти люди и пред чем они преклоняются. Он отрывался, напротив, от этих людей и уходил к оскорбленным, к терпящим, к простодушным, к униженным, когда нападало на него отвращение к той жизни, которой он минутами слабодушно и порочно отдавался; он шел и бился о плиты бедного сельского родного храма и получал исцеление. Не избрал бы он себе такой исход, если б не верил в него.В любви к народу он находил нечто незыблемое, какой-то незыблемый и святой исход всему, что его мучило. А если так, то, стало быть, и не находил ничего святее, незыблемее, истиннее, перед чем преклониться. Не мог же он полагать всё самооправдание лишь в стишках о народе. А коли так, то, стало быть, и он преклонялся перед правдой народною.Если не нашел ничего в своей жизни более достойного любви, как народ, то, стало быть, признал и истину народную,и истину в народе,и что истина есть и сохраняется лишь в народе. Если не вполне сознательно, не в убеждениях признавал он это, то сердцем признавал, неудержимо, неотразимо. В этом порочном мужике, униженный и унизительный образ которого так его мучил, он находил, стало быть, и что-то истинное и святое, что не мог не почитать, на что не мог не отзываться всем сердцем своим. В этом смысле я и поставил его, говоря выше об его литературном значении, тоже в разряд тех, которые признавали правду народную. Вечное же искание этой правды, вечная жажда, вечное стремление к ней свидетельствуют явно, повторяю это, о том, что его влекла к народу внутренняя потребность, потребность высшая всего, и что, стало быть, потребность эта не может не свидетельствовать и о внутренней, всегдашней, вечной тоске его, тоске не прекращавшейся, не утолявшейся никакими хитрыми доводами соблазна, никакими парадоксами, никакими практическими оправданиями. А если так, тоон стало быть, страдал всю свою жизнь… И какие же мы судьи его после того? Если и судьи, то не обвинители.
Некрасов есть русский исторический тип, один из крупных примеров того, до каких противоречий и до каких раздвоений, в области нравственной и в области убеждений, может доходить русский человек в наше печальное, переходное время. Но этот человек остался в нашем сердце. Порывы любви этого поэта так часто были искренни, чисты и простосердечны! Стремление же его к народу столь высоко, что ставит его как поэта на высшее место. Что же до человека, до гражданина, то, опять-таки, любовью к народу и страданием по нем он оправдал себя сам и многое искупил, если и действительно было что искупить…
Декабрьский и последний выпуск «Дневника» так сильно запоздал по двум причинам: по болезненному моему состоянию в продолжение всего декабря и вследствие непредвиденного перехода в другую типографию из прежней, прекратившей свою деятельность. На новом непривычном месте неизбежно затянулось дело. Во всяком случае беру вину на себя и испрашиваю всего снисхождения читателей.
На многочисленные вопросы моих подписчиков и читателей о том: не могу ли я хоть время от времени выпускать №№ «Дневника» в будущем 1878 году, не стесняя себя ежемесячным сроком, спешу отвечать, что, по многим причинам, это мне невозможно. Может быть, решусь выдать один выпуск * и еще раз поговорить с моими читателями. Я ведь издавал мой листок сколько для других, столько и для себя самого, из неудержимой потребности высказаться в наше любопытное и столь характерное время. Если выдам хоть один выпуск, оповещу о том в газетах. Не думаю, что буду писать в других изданиях. В других изданиях я могу поместить лишь повесть или роман. В этот год отдыха от срочногоиздания я и впрямь займусь одной художнической работой, сложившейся у меня в эти два года издания «Дневника» неприметно и невольно. * Но «Дневник» я твердо надеюсь возобновить через год. * От всего сердца благодарю всех, столь горячо заявивших мне о своем сочувствии. Тем, которые писали мне, что я оставляю мое издание в самое горячее время, замечу, что через год наступит время, может быть, еще горячее, еще характернее, и тогда еще раз послужим вместе доброму делу.
Я пишу: вместе,потому что прямо считаю многочисленных корреспондентов моих моими сотрудниками. Мне много помогли их сообщения, замечания, советы и та искренность, с которою все обращались ко мне. Как жалею, что столь многим не мог ответить, за неимением времени и здоровья. Прошу вновь у всех, которым не ответил до сих пор, их доброго, благодушного снисхождения. * Особенно виноват перед многими из писавших ко мне в последние три месяца. Той особе, которая писала «о тоске бедных мальчиков и что она не знает, что им сказать» (писавшая, вероятно, узнает себя по этим выражениям), – пользуюсь теперь последним случаем сообщить, что я глубоко и всем сердцем был заинтересован письмом ее. Если б только возможно было, то я бы напечатал мой ответ на ее письмо в «Дневнике», и лишь потому оставил мою мысль, что перепечатать всё письмо ее нашел невозможным. А между тем оно так ярко свидетельствует о горячем, благородном настроении в большей части нашей молодежи, о таком искреннем желании ее послужить всякому доброму делу на общее благо. Скажу этой корреспондентке лишь одно: может быть, русская-то женщина и спасет нас всех * , всё общество наше, новой возродившейся в ней энергией, самой благороднейшей жаждой делать делои это до жертвы, до подвига. Она пристыдит бездеятельность других сил и увлечет их за собою, а сбившихся с дороги воротит на истинный путь. Но довольно; отвечаю многоуважаемой корреспондентке здесь в «Дневнике» на всякий случай, так как подозреваю, что прежний, сообщенный ею адрес ее теперь уже не мог бы служить.
Очень многим корреспондентам я потому не мог ответить на их вопросы, что на такие важные, на такие живые темы, которыми они столь интересуются, и нельзя отвечать в письмах. Тут нужно писать статьи, целые книги даже, а не письма. Письмо не может не заключать недомолвок, недоумений. Об иных темах решительно нельзя переписываться.
Той особе, которая просила меня заявить в «Дневнике», что я получил ее письмо о брате ее, убитом в теперешнюю войну, спешу сообщить, что меня искренно тронули и потрясли и ее скорбь о потерянном друге и брате, и в то же время и ее восторг о том, что ее брат послужил прекрасному делу. С удовольствием спешу сообщить этой особе, что я встретил здесь одного молодого человека, знавшего покойника лично и подтвердившего всё, что она мне писала о нем.
Корреспонденту, написавшему мне длинное письмо (на 5 листах) о Красном Кресте * , сочувственно жму руку, искренно благодарю его и прошу не оставлять переписки и впредь. Я непременно вышлю ему то, о чем он просил.
Нескольким корреспондентам, спрашивавшим меня недавно по пунктам,непременно буду отвечать каждому особо, равно как и спрашивавшему о том: «Кто есть стрюцкий?» (Надеюсь, корреспонденты узнают себя по этим выражениям.) Корреспондентов из Минска и из Витебска особенно прошу извинить меня, что так замедлил им отвечать. Отдохнув, примусь за ответы и отвечу всем по возможности. Итак, пусть не сетуют и пусть подождут на мне.
Мой адрес остается прежним * , прошу лишь означать дом и улицу, а не адресовать в редакцию «Дневника писателя».
Еще раз всех благодарю. Авось до близкого и счастливого свидания. Время теперь славное, но тяжелое и роковое. Как много висит на волоске именно в настоящую минуту, и как-то заговорим обо всем этом через год!
P. S. Издатель одной новой книги, только что появившейся: «Восточный вопрос прошедшего и настоящего. Защита России. СЭРА Т. СИНКЛЕРА, баронета, членаанглийского парламента. Перевод с английского» * – просил меня поместить в этом выпуске «Дневника» об этой книге объявление. Но просмотрев ее и познакомившись с нею, я, вместо обыкновенного газетного объявления, пожелал сам лично отрекомендовать ее читателям. Трудно написать более популярную, более любопытную и более дельную книгу, чем эта. У нас же так теперь нуждаются в подобной книге, и так мало сведущих по истории Восточного вопроса. А между тем о вопросе этом теперь всемнадо знать. Надо и необходимо. Синклер – защитник русских интересов. В Европе он уже давно известен как политический писатель. Плотный томик в 350 печатных страниц стоит всего только один рубль (с пересылкою 1 руб. 20 коп.); продается во всех книжных магазинах.