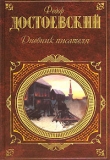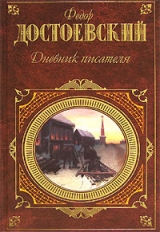
Текст книги "Том 14. Дневник писателя 1877, 1980, 1981"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 55 страниц)
Орган демократической прессы «Отечественные записки» поместил в июньском номере очерк Глеба Успенского «Пушкинский праздник (Письмо из Москвы)». В нем, еще до появления речи Достоевского в печати, под свежим впечатлением от нее, Успенский писал: «Он (Достоевский. – Ред.) нашел возможным, так сказать, привести Пушкина в этот зал и устами его объяснить обществу, собравшемуся здесь, кое-что в теперешнем его положении, в теперешней заботе, в теперешней тоске. До г-на Достоевского этого никто не делал, и вот главная причина необыкновенного успеха его речи <…> Как же было не приветствовать г-на Достоевского, который в первый раз, в течение трех десятков лет с глубочайшею (как кажется) искренностью решился сказать всем исстрадавшимся за эти трудные годы: „Ваше неуменье успокоиться в личном счастье, ваше горе и тоска о несчастье других, и следовательно, ваша работа, как бы несовершенна она ни была, на пользу всеобщего благополучия – есть предопределенная всей нашей природой задача, задача, лежащая в сокровеннейших свойствах нашей национальности”». Успенский оговаривался, однако, уже в то время: «…нет ничего невероятного, что речь его (Достоевского. – Ред.), появясь в печати и внимательно прочтенная, произведет совсем другое впечатление» и отмечал противоречивость позиции Достоевского, многие досадные оговорки которого «как бы прошли мимо ушей» его слушателей, зачарованных общим ее пафосом. [154]154
См. также: Успенский Г. И. Полн. собр. соч.: в 14 томах. М., Л.,1953. Т. VI. С 422, 424, 427.
[Закрыть]
Прочтя в «Московских ведомостях» речь Достоевского, Успенский сопроводил свой очерк post-scriptum’ом, получившим позднее подзаголовок «На другой день». Здесь он писал: «…г-н Достоевский к всеевропейскому, всечеловеческому смыслу русского скитальчества и проч. ухитрился присовокупить множество соображений, уже не всечеловеческого, а всезаячьего свойства. Эти неподходящие черты он разбросал по всей речи <…> Как-то оказывается, что все эти скитальчески-человеческие народные черты – черты отрицательные <…> „всечеловек” превращается в „былинку, носимую ветром”, в человека – фантазера без почвы <…> Нет ни малейшего сомнения в том, что девицы, подносившие г-ну Достоевскому венок, подносили ему его не в благодарность за совет посвящать свою жизнь ухаживанию за старыми, насильно навязанными мужьями <…> Очевидно, что тут кто-нибудь ошибся». [155]155
См. также: там же. С. 427–430.
[Закрыть]
М. Е. Салтыков-Щедрин как редактор «Отечественных записок» не был вполне удовлетворен корреспонденциями Успенского. В письме к Н. К. Михайловскому от 27 июня 1880 г. Щедрин просил его ознакомиться с речами Тургенева и Достоевского и критически отозваться о них в журнале. В «Литературных записках» Михайловский исполнил пожелание Щедрина. Он заметил здесь, развивая мысль сатирика, что Достоевский болен не Пушкиным, а «самим собою».
В том же – июльском – номере «Отечественных записок» появился очерк Г. И. Успенского «Секрет», шедший первым в серии «На родной ниве». Конечный вывод Успенского: «…прежде, нежели <…> рекомендовать смирение как наилучшее средство для этого труда, заняться с возможною внимательностью изучением самой нивы и положения, в котором она находится, так как, очевидно, только это изучение определит и „дело”, в котором она нуждается, и способы, которые могут помочь его сделать. А прорицать можно и после». [156]156
См. об отношении Г. И. Успенского к пушкинской речи также: Туниманов В. А. Достоевский и Глеб Успенский // Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1974. Т. I. С. 30–57.
[Закрыть]
С «Отечественными записками» вступила в спор газета «Новороссийский телеграф». Ее не удовлетворяло слишком «узкое» будто бы определение народа, которое приводил журнал (см.: Z. Журнальные заметки // Новороссийский телеграф. 1880. 13 августа. № 1652). Но другие демократические органы печати поддержали «Отечественные записки». Так, народнический журнал «Русское богатство» писал: «Теперь, когда речь г-на Достоевского появилась в печати, мы сознаем, что успех ее в значительной мере и обуславливается градом аплодисментов, заглушавших то один, то другой конец мысли, почему-либо симпатичный обществу <…> но без конца». [157]157
Очевидец (О. А. Боровитинова?). Еще несколько слов о пушкинском празднике // Русское богатство. 1880. № 7. С. 47.
[Закрыть]
Мягче выступил журнал «Дело»: «Вообще г-н Достоевский мастер действовать на нервы», – писал О. П. в статье «Пушкинский юбилей и речь г-на Достоевского». «Высказанное им в своей речи по поводу Пушкина profession de foi не новость. Он не раз его высказывал в своих произведениях устами тех или иных героев. Это – какое-то туманно-неопределенное искание „правды”, проповедь любви с оттенком мистицизма и некоторым запахом постного масла <…> в первый раз, по крайней мере, в течение последних лет вы слышите, что за русскими „скитальцами” последнего времени хоть признано право страдания <…> [158]158
Намек на революционные круги, с которыми был связан журнал.
[Закрыть]Так, вероятно, поняла это место и та молодежь, которая сделала овацию г-ну Достоевскому, и так хотелось бы понять и нам». О. П. связывает причины «неудачи» Достоевского с его «мистицизмом»: «Нашего романиста трудно понять, потому что у него мистицизм затемняет и те проблески истины, которые порой являются, хотя и в фантастическом виде. И вот почему речь его, производившая потрясающее впечатление на слушателей, в чтении производит далеко не то впечатление, несмотря на талантливость. Вот почему она даже пришлась по плечу „Московским ведомостям”, где она напечатана, и может вызывать, с одной стороны, венки со стороны молодежи, а с другой – одобрение „Нового времени”». [159]159
Дело. 1880. № 7. С. 116, 118, 120.
[Закрыть]
Примечательно, что и славянофил А. И. Кошелев хотя и мягко, но достаточно решительно отклонил многие положения речи Достоевского: «Нельзя без особенно глубокого, сердечного сочувствия, – писал Кошелев, – прослушать или прочесть прекрасную статью Ф. М. Достоевского о нашем бессмертном Пушкине <…> Он называет Пушкина пророком и даже по преимуществу таковым. Мы думаем, что всякий гениальный поэт и даже гениальный человек вообще – более или менее пророк <…> Вполне согласны, что Пушкин народный поэт и, прибавим, – первой степени, но что отзывчивость вообще составляет главнейшую способность нашей народности – это, кажется нам, неверно; и мы глубоко убеждены, что не это свойство утвердило за Пушкиным достоинство народного поэта <…> Не могу также согласиться со следующим мнением г-на Достоевского: „Что такое сила духа русской народности, как не стремление ее, в конечных целях своих, ко всемирности и всечеловечности?” Думаем, что это стремление также вовсе не составляет отличительной черты характера русского народа. Все народы, все люди более или менее, с сознанием или без сознания, стремятся осуществить идею человека – это задача каждого из нас. До сих пор с сознанием мы менее других ее исполняем или даже стремимся к ее исполнению». Те свойства русской души, которые писатель считает зародившимися в результате петровских реформ, А. Кошелев считает порождением современной русской действительности: «Собственно, мы фантазеры не по природе, а в силу внешних обстоятельств: нам душно, нам скучно <…> Все наши идеалы мы должны переносить бог весть куда…». [160]160
Рус. мысль. 1880. № 10. Отд. XVII. С. 6.
[Закрыть]
Кошелеву возражал историк литературы и педагог В. Я. Стоюнин, который видел ошибку Достоевского не в неумеренном расширении, а, напротив, в сужении временных границ возникновения такой национальной черты, как скитальчество: «Г-н Достоевский находит <…> скитальчество явлением новым в русской жизни <…> Мы же говорим, что скитальчество составляет коренную черту русской жизни от самого начала ее истории. Все, что было недовольно установившеюся обыденною жизнью, скованною старыми правилами, порядками и преданиями, все отдавалось скитальчеству, чему благоприятствовала ширь русской земли с ее степями и лесами». [161]161
Истор. вестн. 1880. № 10. С. 264.
[Закрыть]
Из «толстых» журналов лишь «Мысль» поначалу была на стороне Достоевского. «По нашему мнению, – писал NN (Л. Е. Оболенский) в статье «А. С. Пушкин и Ф. М. Достоевский как объединители нашей интеллигенции», – обозначился новый момент в истории развития нашего сознания <…> Идеал есть реальная, физическая сила, и эту-то силу Ф. М. Достоевский пробудил в русских сердцах, показал ее воочию, и его не забудут вовеки, как не забыт Моисей и его огненные столбы…». Критик продолжает: «Почему он именно был вдохновлен более других, и почему именно Пушкиным? Пушкин представлял уже в себе такой синтез более других наших поэтов, а Достоевский соединяет в себе более всех других и идеализм, и страшный опыт реальной жизни, он ближе всех нас стоял к народу, страдал вместе с ним, и вот почему он больше всех реалист, но он больше всех и идеалист, потому что он больше всех человек беззаветной непосредственной веры, которой, быть может, тоже научился у народа, живя и страдая вместе с ним <…> Он говорил не от одной интеллигенции, но от всей массы народа русского и от его интеллигенции, как части. Речь Достоевского была сильна не ее тоном, не ее жестами и не звуками голоса; она сильна той величественной сущностью идеала, который заключается в ней». [162]162
Мысль. 1880. № 6. С. 76–80.
[Закрыть]
Особое место в ряду откликов на пушкинскую речь Достоевского занимает статья К. Н. Леонтьева «О всемирной любви», появившаяся в газете «Варшавский дневник». [163]163
1880. 29 июля, 7 и 12 августа. №№ 162, 169, 173.
[Закрыть]В статье этой, отразившей взгляды верхов тогдашней православной церкви, Леонтьев писал: «Г-н Достоевский, по-видимому, один из немногих мыслителей, не утративших веру в самого человека <…> Мыслители или моралисты, подобные автору „Карамазовых”, надеются, по-видимому, больше на сердце человеческое, чем на переустройство общества». Между тем христианство не верит, по Леонтьеву, «безусловно ни в то, ни в другое, – то есть ни в лучшую автономическую мораль лица, ни в разум собирательного человечества, долженствующий рано или поздно создать рай на земле».
Леонтьев сам охарактеризовал себя как сторонника «идеи христианского пессимизма»: «неисправимый трагизм» земной жизни, включающий в себя неравенство аристократа-дворянина и мужика, представлялся ему «оправданным и сносным». С этих позиций Леонтьев подошел и к оценке пушкинской речи, усмотрев в призыве Достоевского к «мировой гармонии» подозрительную и опасную близость к социалистическим учениям и общим традициям передовой революционно-гуманистической мысли. «О „всеобщем мире” и „гармонии” <…>,– писал он, полемизируя с Достоевским, – заботились и заботятся, к несчастью, многие и у нас, и на Западе; Виктор Гюго, воспевающий междоусобия и цареубийства; Гарибальди, составивший себе славу военными подвигами; социалисты, квакеры; по-своему Прудон, по-своему Кабе, по-своему Фурье и Ж. Занд». Церковь же категорически отвергает, осуждая как греховную, идею „земного рая”, ибо считает, «что Христос пророчествовал не гармонию всеобщую (мир всеобщий), а всеобщее разрушение». «Пророчество всеобщего примирения людей во Христе не есть православное пророчество…».
Как провозвестник и защитник идеи «мировой гармонии» Достоевский, по мнению Леонтьева, – типичный представитель не церковно-православной, а европейской гуманитарной мысли. Его идеалы при всей их нравственной возвышенности имеют «космополитический» характер. Они противоположны не только вере церкви в неискоренимость зла на земле («Будет зло!» – говорит церковь), но и учению Христа, который «не обещал нигде торжества поголовного братства на земном шаре». Истинный завет церкви, по Леонтьеву: «Терпите! Всем лучше никогда не будет. Одним будет лучше, другим станет хуже <…> И больше ничего не ждите <…> одно только несомненно, – это то, что все здешнее должно погибнуть! И потому на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений?» [164]164
Леонтьев К. Н. Собр. соч.: В 8 томах. М., 1912. Т. VIII. С. 111–118, 176–189, 193–212.
[Закрыть]
Переиздавая уже после смерти Достоевского статью о пушкинской речи в 1885 г. в брошюре «Наши новые христиане», Леонтьев сопроводил ее примечанием, где повторял, что в речи этой, по его мнению, «очень мало истинно религиозного» и что ее надо оценивать как «ошибку, необдуманность, промах какой-то нервозной торопливости». Вере Достоевского в «мировую гармонию», нашедшей выражение в речи о Пушкине, Леонтьев сочувственно противопоставил «остроумные насмешки» героя «Записок из подполья» «над этой окончательной гармонией или над благоустройством человечества». [165]165
Там же. С. 213.
[Закрыть]
12 августа 1880 г. статья Леонтьева была переслана как своеобразное «назидание» Достоевскому К. П. Победоносцевым (на него Леонтьев ссылался как на своего ближайшего единомышленника, противопоставляя «благородно-смиренное» слово Победоносцева, произнесенное им при посещении летом 1881 г. Ярославского училища для дочерей священно– и церковнослужителей, и основную идею этой речи Победоносцева – любовь к церкви и строгое, неуклонное следование ее учению и догматам – речи Достоевского с ее «еретическими» по оценке Леонтьева идеалами «мировой гармонии», братства народов и преклонения перед народной правдой). В ответном письме Победоносцеву от 16 августа 1880 г. Достоевский вернул Леонтьеву высказанный последним по его адресу упрек, охарактеризовав как «еретические» взгляды самого Леонтьева (что, учитывая сочувственные ссылки Леонтьева на речь Победоносцева и противопоставление ее речи Достоевского, не могло не уколоть самолюбие Победоносцева).
Общую свою оценку статьи Леонтьева и ее идей писатель дал в записной книжке 1880–1881 гг. Достоевский писал: «Леонтьеву (не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет). В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх этого, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, так чего ж стараться, чего любить добро делать? Живи в свое пузо..» [166]166
О критике Леонтьевым идей Достоевского см. XV, 496–498. Позицию Леонтьева поддержал в письме к нему от 16 авг. 1880 г. консерватор Б. М. Маркевич (см.: Литературное наследство. Т. 86. С. 514). Своеобразным переложением идей Леонтьева была статья Победоносцева «Новое христианство без Христа» (Московский сборник. Изд. 5-е. М., 1901. С. 211–217), где имя Достоевского прямо не названо, но которая, как можно полагать, направлена, как и статья Леонтьева, равно против идей Льва Толстого и Достоевского. Напротив, Н. С. Лесков в статье «Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи. (Религия страха и религия любви)» (Новости и Биржевая газета. 1883. 1 апр. № 1; 3 апр. № 3), резко критикуя выпады Леонтьева против Достоевского, сравнивал Леонтьева с Торквемадой. С критикой обвинения Леонтьева против Достоевского выступил также Вл. С. Соловьев (Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 260–265)
[Закрыть]
После того, как августовский выпуск «Дневника писателя» поступил в продажу, полемика вокруг пушкинской речи возобновилась с новой силой. Орган радикального народничества «Русское богатство» занял по отношению к «Дневнику писателя» непримиримую позицию. С резкой критикой «Дневника» выступило и «Дело». [167]167
См.: Мысль. 1880. № 9. С. 82, 96.
[Закрыть]
В сентябре в «Отечественных записках» в связи с оценкой августовского выпуска «Дневника писателя» вновь выступил Н. К. Михайловский. Мысль о служении Европе кажется Михайловскому несостоятельной: «…не народ служил Европе, а император Павел, да и не Европе вовсе, а монархическому принципу <…> Славянофильство и западничество изжиты нами, мы переросли их, так что попытки г-на Достоевского и других, так или иначе, вновь воздвигнуть эти состарившиеся знамена не имеют для нас, по крайней мере, ровно никакого значения». Но общий вывод Михайловского спокойнее, яснее и проще, чем у публицистов «Русского богатства» и «Дела»: «Ах, господа, дело, в сущности, очень просто. Если мы в самом деле находимся накануне новой эры, то нужен прежде всего свет, а свет, есть безусловная свобода мысли и слова, а безусловная свобода мысли и слова невозможна без личной неприкосновенности, а личная неприкосновенность требует гарантий. Какие это будут гарантии – европейские, африканские, „что Литва, что Русь ли” – не все ли это равно, лишь бы они были гарантиями? Надо только помнить, что новая эра очень скоро обветшает, если народу от нее не будет ни тепло, ни холодно. А искать себя в себе под собой – это просто пустяки». [168]168
Отеч. зап. 1880. № 9. С. 128–140.
[Закрыть]
Наиболее значительным откликом на «Дневник» было «Письмо к Достоевскому» К. Д. Кавелина, напечатанное в ноябрьской книжке «Вестника Европы». Статья выдержана в примирительных тонах. «Пора спокойно, отбросив личности и взаимное раздражение, – заявляет автор, – откровенно и прямо объясниться по всем пунктам <…> Начну с рассмотрения взгляда на взаимные отношения у нас простого народа и образованных слоев общества, так как в нем резко и наглядно выражается характерная черта славянофильских учений. Подобно славянофилам сороковых годов, вы видите живое воплощение возвышенных нравственных идей в духовных качествах и совершенствах русского народа, именно крестьянства, которое осталось непричастным отступничеству от народного духа, запятнавшему, будто бы, высшие, интеллигентные слои русского общества. Полемика, которая когда-то велась об этих тезисах между славянофилами и западниками с горячностью, подчас с ожесточением, мне кажется, уже принадлежит прошедшему <…> Все люди и все народы в мире учились и учатся у других людей и у других народов, и не только в детстве и юности, но и в зрелые годы. Разница в том, что в детстве и юности и люди, и народы больше перенимают у других; а достигнув совершеннолетия, они пользуются чужим опытом, чужим знанием с рассуждением, разбором, критикой…». [169]169
Вестн. Европы. 1880. № 11. С. 433–439, 448–456.
[Закрыть]«По европейскому идеалу, христианин не должен удаляться от мира, чтоб соблюсти свою чистоту и святость, а призван жить в мире, бороться со злом и победить его <…> Вы сами себе противоречите, преклоняясь перед европейской наукой, искусством, литературой, в которых веет тот же дух, который породил и католичество, и протестантизм. Идя последовательно, вы должны, отвергнув одно, отвергнуть и другое; середины нет – и быть не может <…> Я мечтаю только о том, – заключает К. Д. Кавелин, – чтоб мы перестали говорить о нравственной, душевной христианской правде и начали поступать, действовать, жить по этой правде! Чрез это мы не обратимся в европейцев, но перестанем быть восточными людьми и будем в самом деле тем, что мы есть по природе, – русскими». [170]170
Наброски Достоевского для полемического ответа Кавелину см.:XXVII, 52–58. Отклики русской периодической печати на пушкинскую речь и «Дневник писателя» более подробно отражены в кн.: Замотин И. И. Ф. М. Достоевский в русской критике. Ч. 1. 1846–1881. Варшава, 1913. С. 287–321.
[Закрыть]
Подводя итоги полемике, вызванной пушкинской речью, Достоевский писал в «Дневнике писателя» в январе 1881 г.: «Я про будущее великое значение в Европе народа русского (в которого верую) сказал было одно словцо прошлого года на пушкинских празднествах в Москве, – и меня все потом забросали грязью и бранью, даже и из тех, которые обнимали меня только за слова мои, – точно я какое мерзкое, подлейшее дело сделал, сказав тогда мое слово. Но может быть не забудется это слово мое» (наст. том. С. 508).
Это предвидение Достоевского исполнилось. Полемика вокруг пушкинской речи показала утопичность надежд Достоевского на возможность участия самодержавия и церкви в совместной с народом и интеллигенцией работе «на родной ниве». Вместе с тем опыт последующего развития России и человечества позволяет нам сегодня высоко оценить основное, глубинное содержание пушкинской речи. Она вошла в число наиболее глубоких интерпретаций творчества великого русского поэта, сохранивших свое непреходящее значение. Этого мало. Отраженные в ней идеи преемственности, закономерного движения человечества к будущей «мировой гармонии», вера в великое будущее России, в способность русского народа и интеллигенции активно содействовать союзу народов Европы и всего мира, призыв к творческому единению мыслящей части общества с народом как важнейшей предпосылке гармонического развития цивилизации сделали пушкинскую речь Достоевского выдающимся памятником истории мировой гуманистической мысли, духовным завещанием писателя позднейшим поколениям.
Из выдающихся деятелей русской культуры XX в. пушкинская речь большое влияние оказала на А. А. Блока. В общественной обстановке XX в. высоко оценил гуманистический пафос речи Достоевского о Пушкине также Т. Манн, сблизивший выраженное в ней гуманистическое самосознание великого русского писателя с гуманизмом немецкой классики и противопоставивший возвышенные национальные идеалы Достоевского, соединенные с призывом к братскому отношению к другим европейским народам, любым формам реакционного национализма, в том числе – тоталитаризму, фашистскому мракобесию и варварству.
Дневник писателя. 1881 *
1
Декабрьский выпуск «Дневника писателя» за 1877 г. Достоевский заключил обращением «К читателям», в котором обещал возобновить издание журнала через год. Достоевский неопределенно обещал читателям «один выпуск» «Дневника» и в 1878 г.: «Может быть, решусь выдать один выпуск и еще раз поговорить с моими читателями. <…> Если выдам хоть один выпуск, оповещу о том в газетах».
«Художническая работа» («Братья Карамазовы») оказалась не менее срочной и тяжелой, чем издание ежемесячного «Дневника писателя». Возобновить «Дневник писателя» Достоевскому удастся лишь спустя три года после упомянутого обращения. Но и до этого у Достоевского не раз возникало желание выступить со «случайными» статьями или возобновить «Дневник». Он писал 24 августа 1879 г. К. П. Победоносцеву: «Я вот занят теперь романом (а окончу его лишь в будущем году!) – а между тем измучен желанием продолжать бы „Дневник”, ибо есть, действительно имею, что сказать – и именно как Вы бы желали – без бесплодной, общеколейной полемики, а твердым небоящимся словом». А в декабре (27) Достоевский в письме к В. В. Лоренцу приблизительно указывает, когда он намерен возобновить «Дневник», и даже сообщает о возможной теме одной будущей статьи: «Я, может быть, с осени возобновлю „Дневник писателя”. Статья о посещении больных на 11-й версте могла бы выйти очень любопытною и мне к „Дневнику” подходящею».
Накануне поездки в Москву на пушкинские торжества Достоевский в письме (19 мая) К. П. Победоносцеву твердо очерчивает направление своей литературной деятельности на 1881 г.: «С будущего же года, уже решил теперь, возобновлю „Дневник писателя”. Тогда опять прибегну к Вам (как прибегал и в оны дни) за указаниями, в коих, верю горячо, мне не откажете». [171]171
О своих планах Достоевский сообщал почти одновременно– 17 июля – Е. А. Штакеншнейдер: «К сентябрю хочу и решил окончить всю последнюю, четвертую часть Карамазовых, так что, воротясь осенью в Петербург, буду, относительно говоря, некоторое время свободен и буду приготовляться к „Дневнику”, который, кажется уже наверно, возобновлю в будущем 1881 году». А 18 июля он писал В. Ф. Пуцыковичу: «„Дневник”, кажется, наверно возобновлю в будущем году».
[Закрыть]
Решение издавать «Дневник писателя» особенно укрепилось в период, последовавший за успехом речи Достоевского на пушкинском празднике и полемикой вокруг нее: «Он решился вновь взяться за издание „Дневника писателя”, так как за последние смутные годы у него накопилось много тревоживших его мыслей о политическом положении России, а высказать их свободно он мог только в своем журнале. К тому же шумный успех единственного номера „Дневника писателя” за 1880 год дал нам надежду, что новое издание найдет большой круг читателей, а распространением своих задушевных идей Федор Михайлович очень дорожил. Издавать „Дневник писателя” Федор Михайлович предполагал в течение двух лет, а затем мечтал написать вторую часть„Братьев Карамазовых” <…>. [172]172
Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 370.
[Закрыть]О направлении будущего издания Достоевский пишет (25 июля) К. П. Победоносцеву: «В нем (выпуске. – Ред.) моя речь в Москве, предисловие к ней, уже в Старой Руссе написанное, и, наконец, ответ критикам, главное Градовскому. Но это не ответ критикам, а мое profession de foi на все будущее. Здесь уже высказываюсь окончательно и непокровенно, вещи называю своими именами <…> То, что написано там, для меня роковое. С будущего года намереваюсь „Дневник писателя” возобновить и теперь являюсь тем, каким хочу быть в возобновляемом „Дневнике”». Достоевский наконец публично объявил читателям (дважды) в тексте «Дневника писателя» 1880 г. о своих планах: «Издание „Дневника писателя” надеюсь возобновить в будущем 1881 году, если позволит здоровье»; «Я намерен с будущего года „Дневник писателя” возобновить. Так вот этот теперешний номер „Дневника” пусть послужит моим profession de foi на будущее, „пробным”, так сказать, номером» (С. 471).
Еще продолжалась работа над последней книгой «Братьев Карамазовых» и эпилогом к роману, а Достоевского уже сильно беспокоит будущее издание. О своих сомнениях и тревогах он сообщает 28 августа 1880 г. И. С. Аксакову: «…вот какой есть, однако же, факт: это то, что я сам нахожусь, во многом, в больших сомнениях, хотя и имел 2 года опыта в издании „Дневника”. Именно о том: как говорить, каким тоном говорить, и о чем вовсе не говорить? Ваше письмо застало меня в самой глубине этих сомнений, ибо я серьезно принял намерение продолжить „Дневник” в будущем году, а потому волнуюсь и молю кого следует, чтоб послал сил и, главное, умения».
Работа над «Братьями Карамазовыми» затянулась до поздней осени, времени у Достоевского было так мало, что его не осталось даже для необходимых формальностей, связанных с будущим изданием. Он жаловался (в письме от 18 октября) М. А. Поливановой: «Верите ли, что у меня нет времени даже поехать в Главное управление печати и подать просьбу об издании „Дневника” в будущем году. До сих пор не ездил, а время уходит, пора публиковать». «Просьбу» Достоевский подал через неделю после этого письма, 25 октября: «Имея намерение возобновить с будущего 1881 года „Дневник писателя”, ежемесячное издание, издававшееся мною в 1876 и 1877-м годах, по подписке и с предварительною цензурою, имею честь покорнейше просить Главное управление по делам печати разрешить мне сие издание на тех же основаниях, как и прежде». Разрешение последовало незамедлительно: «25-го октября отставному подпоручику Федору Михайловичу Достоевскому разрешено возобновить с будущего 1881 года ежемесячное издание „Дневник писателя” на тех же основаниях, как это было разрешено в 1876 г.».
В ноябре и декабре Достоевский рассылает объявление о подписке.
Объявлениям, особенно в газетах, Достоевский придавал большое значение. Это нашло отражение в его письмах И. С. Аксакову (18 декабря) и Н. А. Любимову; последнему 29 ноября он сообщает о своей обеспокоенности задержкой появления объявления в «Московских ведомостях»: «Дней уже десять назад как жена моя послала в редакцию „Московских ведомостей” для напечатания объявление мое об издании в будущем году „Дневника писателя”, и однако же, объявление еще не появлялось <…> Не можете ли Вы справиться лично в редакции „Моск<овских> ведомостей”: что именно помешало напечатанию моего объявления о „Дневнике писателя” и таким образом ускорить это дело. Объявление в „Московских ведомостях” для меня необходимо; оно идет в глубь России, а „Голос”, „Новое время” и проч<ие> гуляют более по окраинам».
Были и другие обстоятельства, более серьезные, очень беспокоившие Достоевского. Он знал, что жить ему осталось немного. С тревогой писал 28 ноября брату, Андрею Михайловичу: «…принимаюсь теперь за „Дневник писателя”, и уже начал публиковаться в газетах. Главное страшит меня срочность выпусков. Это очень тяжело при моем здоровье»; И. С. Аксакову в письме от 3 декабря: «Хочу издавать „Дневник”, но до этого еще далеко. Подписка началась, но анфизема…».
Особенно Достоевского беспокоили возможные цензурные придирки. П. А. Гайдебуров так рассказывает о волнениях Достоевского, казавшихся в недолгий период либеральных послаблений и «новых веяний» почти чудачеством, анахронизмом: «По закону „Дневник писателя” должен был издаваться под цензурой, и за несколько дней до смерти Достоевский явился в Главное управление печати с просьбой – переменить ему цензора. Со стороны такого писателя как Достоевский всякая вообще просьба о цензуре имела очень курьезный вид, и потому начальник Главного управления, Н. С. Абаза, сказал ему:
– Да зачем же вам, Федор Михайлович, цензора? Какого еще вам нужно цензора?
– Нет… знаете… все лучше, спокойнее, – отвечал Достоевский.
– Ну, хотите, я вам сам прочту? – предложил г-н Абаза.
Достоевский, конечно, согласился, а г-н Абаза на другой же день лично доставил ему корректуру „Дневника”, которому – увы – пришлось сделаться уже посмертным изданием». [173]173
Неделя. 1881. 1 февраля. № 5.
[Закрыть]
Цензор последнего произведения Достоевского Н. С. Абаза принадлежал к числу либерально настроенных чиновников в новой администрации М. Т. Лорис-Меликова. Назначение его было с надеждой воспринято либеральной прессой, а уход с поста ознаменовал крушение их мимолетных надежд. Работа над «Дневником писателя» стоила Достоевскому немало усилий, но никаких осложнений с цензурой действительно не произошло. 27 января умирающий Достоевский внес последние поправки (чисто технические) в корректуру «Дневника писателя», судьба которого все еще продолжала его волновать: «Среди дня стал беспокоиться насчет „Дневника”, пришел метранпаж из типографии Суворина и принес последнюю сводку. Оказалось лишних семь строк, которые надо было выбросить, чтобы, весь материал уместился на двух печатных листах. Федор Михайлович затревожился, но я предложила сократить несколько строк на предыдущих страницах, на что муж согласился. Хоть я задержала метранпажа на полчаса, но после двух поправок, прочтенных мною Федору Михайловичу, дело уладилось. Узнав чрез метранпажа, что номер был послан в гранках Н. С. Абазе и им пропущен, Федор Михайлович значительно успокоился». [174]174
Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 373–374.
[Закрыть]
Вышел январский выпуск «Дневника писателя» уже после смерти Достоевского.
2
Невиданный успех речи писателя на пушкинских торжествах, поток рецензий на роман «Братья Карамазовы», который с каждым месяцем увеличивался как в столичной, так и в провинциальной прессе, нескончаемая полемика вокруг августовского «Дневника» – все эти факты свидетельствовали о резко возросшей популярности Достоевского; либеральная пресса даже язвительно говорила о состоявшейся в Москве «канонизации» писателя. Достоевский неизбежно оказался в гуще общественно-литературной борьбы. С явной симпатией стали относиться к нему газета А. С. Суворина и В. П. Буренина «Новое время» и с некоторыми оговорками «Неделя» П. А. Гайдебурова.
На Достоевского как на идейного союзника и «полезного» публициста возлагали особые надежды, исходя из разных, но несомненно во многом «партийных» и конъюнктурных соображений, такие столпы реакции, как Победоносцев и Катков, и такой тонкий, беспринципный стратег, как А. С. Суворин, и славянофил И. С. Аксаков, издатель еженедельника «Русь». На будущего автора «Дневника писателя» оказывалось и сильное идеологическое давление. О том, какого рода «советы» внушал Достоевскому, например, Победоносцев, дает хорошее представление его письмо от 2 августа 1880 г.: «Теперь ежедневно со всех концов России стекаются ко мне интимные письма <…> И сейчас лежит передо мною послание одного харьковского сельского священника, показывающее человека с горячим сердцем и скорбною мыслью, все наполненное, однако, фразами, которые сами обличают свой источник (чтение журналов и газет), и противоречиями запутавшейся мысли. В конце концов он умоляет созвать всероссийский земский собор, воображая, что из этого нового смешения языков может возникнуть потерянная истина. Чего еще искать ее, когда она всем нам – и ему тоже – давным-давно дана и открыта!» [175]175
Литературное наследство. Т. 15. С. 144.
[Закрыть]Идеи, подобные тем, которые высказывал харьковский сельский священник, осмелившийся мечтать о созыве всероссийского земского собора, с точки зрения Победоносцева, – ересь и вольнодумство.
Стремился подчинить своему влиянию будущий «Дневник писателя» Победоносцев уже в чине обер-прокурора святейшего Синода. Он был назначен на этот пост 24 апреля 1880 г. вместо Д. А. Толстого, который одновременно освобождался и от должности министра просвещения. Толстой тогда был, пожалуй, самой непопулярной политической фигурой в России. Отстранение Толстого с удовлетворением и ликованием приветствовалось демократической и либеральной прессой. Всем было очевидно, что это наносило сильный удар «Московским ведомостям» Каткова. Назначение Победоносцева произошло на фоне других перемещений и жестов, ободривших либералов. «Голос» А. А. Краевского и В. А. Бильбасова даже поспешил одобрить возвышение Победоносцева: «Никто не сомневается в том, что он посвятит всю свою просвещенную деятельность освежению духовной жизни русского народа, что духовные дела России находятся в надежных руках». [176]176
Голос. 1880. 4 мая. № 123.
[Закрыть]Впрочем, назначение Победоносцева не вызвало особых откликов в прессе. Большинству современников личность его представлялась загадочной. Полная ясность наступила год спустя после 1 марта, когда новый обер-прокурор сделал все от него зависящее (а тогда от него зависело почти все), чтобы удалить с политической арены Лорис-Меликова и либеральных министров.