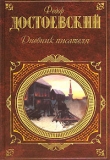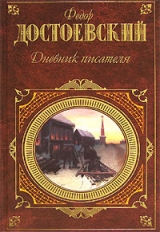
Текст книги "Том 14. Дневник писателя 1877, 1980, 1981"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 53 (всего у книги 55 страниц)
«Молва» также резко осудила статьи в «Руси» и «Московских ведомостях»: «Ради бога, господа, не эксплуатируйте же по крайней мере смерти человека, заслужившего уважение русского общества, не обращайте по крайней мере хоть этого факта в рекламу для газеты». [223]223
Молва. 1881. 5 февраля. № 36.
[Закрыть]В связи с нападками «Московских ведомостей» на В. Модестова газета выразила свое отрицательное отношение и к «Дневнику писателя»: «„Московские ведомости” со свойственным им цинизмом принялись за эксплуатацию памяти покойного Достоевского. Посмертный выпуск „Дневника” знаменитого писателя, посвященный исключительно „злобе дня”, в которой Достоевскому до самой его смерти не удалось отыскать точку опоры, не принадлежит, как известно, к лучшим из написанных им страниц. Но „Московским ведомостям” более всего на руку слабые стороны Достоевского, и вот, отобрав из его „Дневника” то именно, чему ради его славы лучше было бы вовсе не появляться в печати, „Московские ведомости” употребляют отобранные ими места из „Дневника” орудием для своей непристойной полемики с „Голосом”». [224]224
Там же. 1881. 21 февраля. № 52.
[Закрыть]
Последний в 1881 г. наиболее пространный (и резкий) отзыв о политической публицистике Достоевского появился в ноябрьской книжке «Вестника Европы»: анонимная статья «Литературные мечтания и действительность. По поводу литературных мнений о народе». Достоевский прямо провозглашался в этой подводившей итоги полемики года статье самым могущественным и опасным противником либеральной партии: «Имя Достоевского в последние годы – на всех славянофильских устах. Ограничивая нашу задачу разбором славянофильского учения последнего момента, мы именно с него должны начать, потому что именно он в своем „Дневнике писателя” начал новую эру славянофильской литературной пропаганды». [225]225
Вестн. Европы. 1881. № 1. С. 307.
[Закрыть]Идеалы, мечты, пророчества, даже словоупотребление (терминология) Достоевского были подвергнуты публицистом журнала не просто резкой критике, но безоговорочно, всецело и раздраженно отвергнуты как опасные и вредные: «… он просто уклонялся от разговора при прямой постановке вопроса. Учение Достоевского лишено всякой определительности; с ним мы вступаем вполне в сферу „литературных мечтаний”, основывающихся на неизвестно откуда добытых данных <…> учение его основано не на логике, а на „пророчествах”, и потому может изменяться по прихоти минуты и случая <…> Пресловутая „всемирность” есть только поверхность, несерьезность собственной внутренней жизни». [226]226
Там же. С. 307, 309, 321.
[Закрыть]
На такой чрезвычайно враждебной ноте завершилась длившаяся весь год многообразная и многотемная полемика «по поводу» Достоевского и грандиозных похорон писателя, значения его как художника, мыслителя, автора «Дневника писателя». Мемуарная и некрологическая литература года, неотделимая от острейшей журнальной полемики, отличалась исключительной пестротой и разноголосицей. Сильное влияние на литературно-общественную полемику «вокруг Достоевского» оказала сложная политическая обстановка в стране: последние дни «диктатуры сердца» и последовавшая после 1 марта реакция, перечеркнувшая все проекты «увенчания здания», погасившая любые иллюзии – и либеральные и славянофильские. В такой ситуации невозможной была объективная и беспристрастная оценка не только Достоевского-публициста, идеи последнего «Дневника» которого невольно оказались в центре внимания, но и Достоевского-художника, автора «Бесов» и «Братьев Карамазовых». Поэтому так много было высказано в 1881 г. полярных оценок последнего «Дневника писателя», хотя раздавались и другие, приглушенные, дипломатичные голоса, протендующие на нейтральность и объективность позиции. О Достоевском-художнике в пылу полемики забыли почти все; полемика постепенно перерастала в борьбу противоборствующих лагерей и наконец всецело подчинилась «лагерным» целям. Содержание последнего «Дневника» Достоевского было предельно злободневным, и суждения о нем современников закономерно и естественно стали пристрастными.
Отношение печати и шире – общественности – к «Дневнику писателя» не исчерпывалось полемикой и «эксплуатацией» (в разных целях) идей «завещания» Достоевского. Наибольшее внимание современников привлекло в «Дневнике» «магическое словцо» Достоевского, его тезис о необходимости «оказать доверие народу». Не только О. Миллер и А. Суворин, рассказавшие о дальнейших планах Достоевского развить эту мысль, но и большинство журналистов и читателей сочувственно восприняли мнение покойного литератора. Они видели в предложении Достоевского яркое свидетельство демократических убеждений писателя, его народолюбия, пусть и облеченного в фантастическую и утопическую форму. Революционер-народоволец И. И. Попов, говоря о популярности Достоевского даже в среде радикально настроенной молодежи, свидетельствует: «… в рассуждениях Достоевского о „сермяжной Руси”, которую если призвать, то она устроит жизнь хорошо, так, как ей нужно, мы усматривали народническое направление, демократические тенденции». [227]227
Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 426.
[Закрыть]Интересная попытка объяснить необычную популярность Достоевского в молодежной среде, своеобразно истолковывавшей, преломлявшей под определенным углом его идеи (в том числе и последнего «Дневника»), была предпринята М. Цебриковой в статье «Двойственное творчество (Братья Карамазовы. Роман Ф. Достоевского)» «…он говорит о смирении и „оздоровлении корней”, и предупреждая возражения, что это славянофильские бредни, пространно объясняет смысл своих слов. В этом объяснении то же отсутствие определенных указаний, каким образом оздоровить корни, и та же страстная вера и любовь к народy и та же расплывчатость, которая позволяет каждому видеть в словах то то, чего желается. И поэтому вполне понятен восторг, с каким молодежь перечитывает его слова о том, что она призвана оздоровить корни; своим единением с народом, что в ее искании правды, в ее чуткости к словам правды и любви – залог оздоровления <…> Страстное убеждение и глубокая искренность объясняют силу влияния Достоевского-проповедника на молодые умы <…> Молодежь увлекалась тем сильнее, что проповедь опиралась на сильный талант». [228]228
Слово. 1881. № 2. С. 27.
[Закрыть]
«Магическое словцо» Достоевского упоминает в некрологе «Русская речь»: «Его последний „Дневник” весь глубоко проникнут любовью к <…> народу, страстным желанием дать наконец возможность высказаться самому народу, оказать доверие именно ему, этому великому страстотерпцу русской земли». [229]229
Рус. речь. 1881. № 3.
[Закрыть]Еженедельник Гайдебурова в статье «Похороны Достоевского» также особенно выделяет это место в «Дневнике писателя», заключая: «Вот эта-то глубокая вера, эта-то горячая любовь и составляли теснейшую связь между Достоевским и молодежью, их-то она и ставила выше всяких его „убеждений"». [230]230
Неделя. 1881. 8 февраля. № 6.
[Закрыть]После 1 марта «Неделя» в статье «Фальшивое знамя», повторив обычные упреки И. С. Аксакову в забвении идеалов славянофильства («эта некогда благородная и достойная всякого уважения партия»), противопоставляла узкой и «догматической» точке зрения редактора «Руси» позицию Достоевского: «Указывать на существование сходства, как на отсутствие самостоятельности в развитии, – просто нелепо. Лучшее доказательство тому – покойный Достоевский. В своем последнем „Дневнике" он предлагает разрешить коренные задачи нашей жизни путем опроса самого народа, в чем он нуждается и каким путем желал бы выйти из нынешних затруднений. Между тем г-н Аксаков, следуя своей логике, должен был восстать против Достоевского, так как в предлагаемом им „опросе" немудрено найти сходство с фактами из жизни Запада. Очевидно между тем, что Достоевского натолкнули на эту мысль факты русской жизни, но так как русская жизнь, несмотря на все отличия, все-таки имеет много общего с общечеловеческой жизнью, то понятно, что и выводы из фактов той и другой могут быть сходны». [231]231
Там же. 5 апреля. № 14.
[Закрыть]
Тезис Достоевского о «доверии народу» вдохновил Н. С. Лескова на создание цикла очерков «Обнищеванцы. (Религиозное движение в фабричной среде 1861–1881)». [232]232
Русь. 1881. №№ 16–21, 24, 25.
[Закрыть]Лесков предпослал циклу эпиграф из «Дневника писателя» («Нашему народу можно верить, – он стоит того, чтобы ему верили») и объяснение к нему. «Я очень счастлив, что могу поставить эпиграфом к настоящему очерку приведенные слова недавно погибшего собрата. Почет, оказанный Достоевскому, несомненно свидетельствует, что ему верили люди самых разнообразных положений, а Достоевский уверял, что „нашему народу можно верить". Покойный утверждал это с задушевной искренностью и не делал исключения ни для каких подразделений народной массы. По его мнению, весь народ стоит доверия <…> Народ, работающий на фабриках и заводах, в смысле заслуженности доверия, это все тот же русский народ, стоящий полного доверия, и Достоевский, не сделавши исключения для фабричных, не погрешил против истины». [233]233
Там же. 28 февраля. № 16.
[Закрыть]Аксаков, видимо, желал от Лескова посвящения «Обнищеванцев» Достоевскому. Лесков решительно отказался, ответив редактору «Руси» даже с некоторым раздражением: «Посвящения Достоевскому не хочу. Сколько толков и от таких истолкователей, что мне это решительно претит. Эпиграф и упоминание о нем в первых строках – это гораздо более относится к делу и гораздо целомудреннее. Вся эта историйка есть иллюстрация к его теориям». [234]234
Литературное наследство. Т. 86. С. 610.
[Закрыть]Так обосновал Лесков свой отказ участвовать в «журнально-литературных» поминках, т. е. в полемике идей «по поводу» и «вокруг» Достоевского, не желая, очевидно, чтобы его позицию отождествлял и со взглядами славянофильских «истолкователей» «Руси».
Дискуссия, вызванная последним выпуском «Дневника писателя», побудила, таким образом, критиков разных общественных направлений еще раз поставить вопрос о противоречиях творчества писателя, попытаться проанализировать эти противоречия. При этом в критике отчетливо выразилось как глубокое, искреннее преклонение перед Достоевским – художником и мыслителем, так и полемическое отношение к политическим и религиозным идеям его поздней публицистики. Подводя итоги прижизненной оценки наследия Достоевского, дискуссия вокруг «Дневника писателя» 1881 г. положила начало той острой посмертной идейной борьбе вокруг оценки его произведений, которая не затихает до наших дней.
Сон смешного человека *
Ранний набросок (к первым трем разделам рассказа) датируется приблизительно первой половиной апреля; второй – концом апреля.
26 апреля 1877 г. Достоевский вместе с коротким сопроводительным письмом прислал метранпажу М. А. Александрову конец первой главы апрельского номера «Дневника писателя». Из письма к Александрову от 28 апреля очевидно, что Достоевский уже отправил в типографию очередные страницы «Сна смешного человека»: «Присылаю Вам продолжение с 7-й по 12-ю страницу включительно, начинать же в строку с последнего слова в корректуре. Тут фраза была не окончена». Без интервалов посылались в типографию и последующие разделы рассказа. В письме от 30 апреля Достоевский сообщал метранпажу: «…посылаю 5 страниц. Хорошо бы, если бы и сегодня, подобно вчерашнему, мне прислали эти 5 страничек вечером для корректуры, с тем чтобы взять их завтра в 8 часов». Днем позже, 2 мая, в письме к Александрову: «…вот конецрассказа <…>Поскорее бы корректуру и к цензору: боюсь чтоб чего не вычеркнули». Примечательны в последнем письме опасения Достоевского придирок цензуры, к счастью, на этот раз оказавшиеся напрасными.
1
«Сон смешного человека» имеет такой же жанровый подзаголовок («Фантастический рассказ»), как и «Кроткая». Но в «Кроткой» «фантастична» лишь избранная Достоевским форма повествования. Другое дело «фантастичность» «Сна смешного человека», проникающая самую суть произведения. Это «фантастичность» во многом того же рода, как и в высоко ценимых Достоевским «Пиковой даме» Пушкина, «Петербургских повестях» Гоголя, «Русских ночах» Одоевского, произведениях Э. По и Э. Гофмана.
Достоевский в письме к Ю. Ф. Абаза от 15 июня 1880 г. коснулся природы фантастического в «Пиковой даме»: «…верх искусства фантастического. И Вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем в конце повести, то есть прочтя ее, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германна или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов. (NB. Спиритизм и учения его)».
Подобного же рода двусмысленность (два пласта, реальный и фантастический, без обозначения четких границ) присутствует и в рассказе Достоевского: сон рожден «природой» самоубийцы-прогрессиста и в те же время настаивается на «реальности» особого рода – соприкосновении с другими и высшими мирами. Даже больше; сон и жизнь уравнены – «философские» синонимы: «Сон? что такое сон? А наша-то жизнь не сон?» (С. 137).
В набросках к первым трем разделам рассказа упомянут Э. По, там, где говорится о снах: «Одно с ужасающей ясностью через другое перескакивает, а главное, зная, например, что брат умер, я часто вижу его во сне и дивлюсь потом: как же это, я ведь знаю и во сне, что он умер, а не дивлюсь тому, что он мертвый и все-таки тут, подле меня живет» (С. 125). Рядом с приведенным рассуждением о странностях и особенностях сновидений Достоевским сделана пометка: «У Эдгара Поэ».
Достоевский, как об этом свидетельствует его предисловие к трем рассказам По, помещенным в январском номере «Времени» (1861), был знаком с переводами Ш. Бодлера произведений американского писателя (см.: 11, 160). М. А. Турьян считает, что слова Достоевского («Допускает, что умерший человек, опять-таки посредством гальванизма, рассказывает о состоянии души своей…» – см. там же, с. 88) относятся к рассказу По «Месмерическое откровение» (1844). Мистер Вэнкерк, добровольный «подопытный» герой рассказа По, действительно последние слова произносит как бы из другого мира, а в состоянии, в котором пребывает человек в месмерическом сне, есть нечто близкое смерти: «…оно по своим признакам очень близко напоминает смерть,или, во всяком случае, напоминает скорее именно ее, чем какое-либо другое известное нам естественное состояние человека». [235]235
По Э. А.Полн. собр. рассказов. М., 1970. С. 515.
[Закрыть]Человек, погруженный в столь необыкновенное состояние, начинает постигать такие явления, которые обычно ему недоступны; «более того, уму его чудодейственно сообщаются высота и озаренность…». [236]236
Там же.
[Закрыть]Особенно должны были заинтересовать Достоевского рассуждения о месмерическом сне Вэнкерка – рационалиста и скептика, но в чем-то и мистика, смутно подозревающего, что душа бессмертна: «Умозрения, пожалуй, и занятны и по-своему небесполезны, но для постижения духа нужно что-то другое <…> я лишь смутно чувствовал в себе душу, но разумом – не верил <…> Бодрствующему во сне рассуждения и вывод – то есть причина и конечный результат – даны нераздельно. В естественном же состоянии причина исчезает, и остается – да и то, пожалуй, лишь частично – один результат». [237]237
Там же. С. 516.
[Закрыть]Вэнкерку «опыты» помогают постичь истину, подобно тому как «бодрствующий» во сне «смешной человек» обретает ощущение счастья и полноты жизни: в том и другом случаях это знание иррациональное, сверхчувственное.
Вполне логично также предположить, что, создавая «фантастический рассказ», Достоевский припомнил и «Повесть Скалистых гор» (1844), герой которой отвергает нереальность происшедшего с ним и так рассуждает о снах: «Вы скажете теперь, конечно, что я грезил; но это не так. В том, что я видел и слышал, что ощущал и что думал, не было ничего от характерных особенностей сна, которых ни с чем не спутаешь. Все было строго согласовано и реально. Сначала, сомневаясь в своем бодрствовании, я предпринял серию проверок, которые скоро убедили меня, что я действительно не сплю. Ведь если кто-либо спит и во сне подозреваёт, что он спит, то попытка проверить подозрение всегда завершается успехом, а спящий просыпается почти немедленно». [238]238
Там же. С. 500.
[Закрыть]Именно, кстати, в этом рассказе По герой повествует о своей смерти и ощущениях после нее: «Долгие минуты <…> моим единственным чувством, единственным ощущением, было ощущение тьмы и небытия, сознания смерти. Наконец, мою душу как бы пронизал внезапный, резкий словно электрический удар. С этим толчком вернулось чувство упругости и света. Этот последний я не увидел – я его только почувствовал. Почти в то же мгновенье я, казалось, поднялся над землей, но я не обладал никаким телесным, видимым, слышимым или осязаемым воплощением <…>Подо мною лежал мой труп со стрелою в виске, с сильно вздувшейся обезображенной головой. Однако всего этого я не видел – я это чувствовал. Ничто меня не трогало. Даже мой труп представлялся мне чем-то совсем посторонним. Желаний у меня не было, но что-то все-таки побуждало меня к движению <…> меж тем происшедшее не потеряло своей живости – и даже теперь я ни на миг не могу заставить свой разум считать это сном». [239]239
Там же. С. 501–502.
[Закрыть]
В сознании и памяти Достоевского, очевидно, слились и контаминировались идеи и сюжеты различных произведений По: в первую очередь «Месмерического откровения» и «Повести Скалистых гор» – фантастический фон для «фантастического рассказа» «Сон смешного человека». Важнее, конечно, не близость отдельных эпизодов и мыслей в «Сне смешного человека» и рассказах По (во многом условная), а жанровая однородность, как ее понимал Достоевский.
Небольшая статья Достоевского об Э. По хорошо объясняет природу фантастичного в таких произведениях писателя, как «Бобок» и «Сон смешного человека». Достоевский писал о «внешней» фантастичности произведений По: «Но это еще не прямо фантастический род. Эдгар Поэ только допускает внешнюю возможность неестественного события (доказывая, впрочем, его возможность и иногда даже чрезвычайно хитро) и, допустив это событие, во всем остальном совершенно верен действительности» (11, 160). Так и в рассказе Достоевского фантастическое присутствует как невероятное допущение – одно «странное соображение», вопрос возникает у героя перед сном и там «реализуется». Сам сон можно назвать собственно фантастическим элементом в рассказе Достоевского, но он рожден сердцем и рассудком героя, обусловлен реальной жизнью и многими нитями с ней связан. В сон переносятся земные реалии – револьвер, соседи, петербургские холод и сырость; космическая темнота – продолжение апокалипсического пейзажа (петербургский вечер 3 ноября).
Достоевского покорило профессиональное литературное искусство По («техника»), в рассказах которого «сила подробности» и «сила воображения» не просто размывают границу между реальным и фантастическим, но создают живую и впечатляющую иллюзию реальности фантастического: «…вы до такой степени ярко видите все подробности представленного вам образа или события, что наконец как будто убеждаетесь в его возможности, действительности, тогда как событие это или почти совсем невозможно или еще никогда не случалось на свете» (11, 161). Среди опубликованных в журнале «Время» рассказов По «Черный кот», пожалуй, выделяется особено. Здесь «сила подробностей» доведена до осязаемой, сверхъестественной точности: описание стона старика («Вдруг я услыхал тихий стон и понял, что это стон смертельного страха <…> Это был подавленный звук, который вырывается из глубины души, переполненной ужасом. Он был мне коротко знаком»); еще конкретнее передан стук сердца: «…вдруг мне послышался чужой, неясный, быстрый звук, подобный тому, какой производят часы, завернутые в хлопчатую бумагу. Мне хорошо был знаком и этотзвук». [240]240
Время. 1861. № 1. С. 234.
[Закрыть]
Столь же конкретно передает и свои «загробные» ощущения герой Достоевского: «…я почувствовал, что мне очень холодно, особенно концам пальцев на ногах…»; «Но вот вдруг, на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышу гроба капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту третья, и так далее, и так далее, все через минуту <…> А капля все капала, каждую минуту и прямо на закрытый мой глаз» (С. 127).
Обостренность и изощренность слуха убийцы у По – прямое следствие его патологического состояния, но он, как и «смешной человек», настойчиво опровергает банальное мнение «здоровой» среды: «Да! я был, – как и теперь я, – нервозен, очень, очень, страшно нервозен; но зачем вы хотитеназывать меня сумасшедшим? <…>Вы воображаете, что я сумасшедший. Сумасшедшие ничего не понимают, но посмотрели бы на меня». [241]241
Там же. С. 232.
[Закрыть]Герой По, частично предвосхищая рассуждения Свидригайлова о привидениях (а его Раскольников склонен признать сумасшедшим), излагает преимущества своего особенно нервозного состояния: «Болезнь изощрила мои чувства, а не испортила, не притупила их. В особенности тонко было у меня чувство слуха. Я слышал все на небе и на земле. Я слышал многое в аду. Так я сумасшедший?». [242]242
Время. 1861. № 1. С. 232.
[Закрыть]Рассуждение же Свидригайлова прямо подводит к проблематике рассказа Достоевского: «Привидения – это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир» (5, 272).
«Смешной человек» вступает в «соприкосновение с другим миром» (вернее, мирами, галактиками) во сне. В рассказе Достоевского отсутствует патологический элемент, но зато очень выпукло и ясно выставлен идеал – живой образ золотого века.
Бахтин, исследуя рассказ «под углом зрения исторической поэтики жанра», выделяет, в частности, такие разновидности «мениппеи», к которым восходит произведение Достоевского, – «Сонную сатиру» и «Фантастические путешествия». [243]243
Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 197. Справедлива аналогия рассказа Достоевского и с мистерией: «…здесь, как в мистерии, слово звучит перед небом и перед землею, то есть перед всем миром» (там же. С. 206).
[Закрыть]Помимо античных авторов он называет целый ряд европейских писателей XVI–XIX вв., модифицировавших названные виды мениппеи, в том числе Кеведо, Гриммельсгаузена, Сирано де Бержерака, Шекспира, Кальдерона, Грильпарцера, Вольтера, Жорж Санд, Чернышевского. [244]244
Отразился в рассказе и интерес писателя к астрономии: в библиотеке Достоевского были два издания книги К. Фламмариона «История неба» (СПб., 1875, 1879), его же «Небесные светила» (М., 1865) и книга Шепфера «Противоречия в астрономии» (СПб., 1877).
[Закрыть]
С уверенностью можно говорить, о том, что в поле внимания Достоевского – автора «Сна смешного человека» – была большая статья Н. Н. Страхова «Жители планеты», опубликованная в январском номере «Времени» (1861) и включенная затем автором в книгу «Мир как целое» (1872), и мистическое сочинение Э. Сведенборга (1689–1772) «О небесах, о мире духов и об аде» (Лейпциг, 1863), подаренное 8 января 1879 г. писателю его переводчиком А. Н. Аксаковым.
Отношение Достоевского к статье Страхова вряд ли было целиком положительным. Со многими ее положениями он принципиально согласиться не мог, особенно с иронически-снисходительными словами об утопиях и утопистах: «Человек недоволен своею жизнью; он носит в себе мучительные идеалы, до которых никогда не достигает; и потому ему нужна вера в нравственноеразнообразие мира, в бытие существ более совершенных, чем он сам <…> человек считает возможным, что сущность его нравственной жизни может проявиться в несравенно лучших формах, чем она является на земле <…> Мы улетаем мысленно к счастливым жителям планет, чтобы отдохнуть от скуки и тоски земной жизни». [245]245
Время. 1861. № 1. С. 20.
[Закрыть]Сам Страхов менее всего склонен предаваться мечтаниям и утопиям. Современные земли и человек представляются ему венцом мироздания; Страхов пишет о «непревосходимостичеловека», являющегося «совершеннейшим существом». [246]246
Там же. С. 39.
[Закрыть]
В статье Страхова приводятся мнения Лапласа, О. Конта, Фурье, Г. Гейне; цитируются «Разговоры о множестве миров» Б. Фонтенеля и книга Гюйгенса «Зритель мира, или «о небесных странах и их убранстве». Сочувственно и подробно пересказывается и цитируется Страховым повесть Вольтера «Микромегас». Достоевский собирался написать в манере Вольтера «Русского Кандида». «Сон смешного человека» в известном смысле может быть назван «Русским Микромегасом».
Герой Достоевского менее всего безумный утопист, беспочвенный мечтатель, все время сбивающийся с дороги. Он – пророк, возвещающий «в чине» безумца высшую истину миру. И увиденный им сон пророческий. В следующий выпуск «Дневника писателя» Достоевский собирался дать статью о пророках и пророчествах (XXV, 261–266). Под естественным даром пророчества Достоевский понимает «способность предчувствия <…> в высших степенях своих» – редкую, исключительную, и в связи с этим вспоминает Сведенборга и его пророчества внедавно подаренной писателю Аксаковым «удивительной» книге «О небесах, о мире духов и об аде»: «Он написал несколько мистических сочинений и одну удивительную книгу о небесах, духах, рае и аде, как очевидец, уверяя, что загробный мир раскрыт для него, что ему дано посещать его сколько угодно и когда угодно, что он может видеть всех умерших, равно как всех духов и низших и высоких и иметь с ними сообщение» (XXV, 262). [247]247
В «психологическом» отношении такова же и участь «смешного человека»: он страстно верит в истинность увиденного сна, вышедшего «из души и сердца» героя; другие же смеются над его верой, считая его сон «бредом» и «галлюцинацией».
[Закрыть]
Возможно, что внимание Достоевского привлекли рассуждения Сведенборга о множестве населенных миров: «…все планеты, видимые для глазу в нашей солнечной системе, суть такие же земли, и <…> кроме их вселенная полна бесчисленным множеством других, которые точно так же исполнены жителей <…> человек мог бы увериться во множестве земель вселенной из того, что звездное небо необъятно и полно несчетных звезд, из которых каждая, на своем месте и в своей системе, есть рассадники небес, – тот не может не верить, что всюду, где есть земля, там есть люди». [248]248
Сведенборг Э.О небесах, о мире духов и об аде. Лейпциг, 1863.С. 335–336. Духи с планеты Меркурий «сказали» Сведенборгу, «что есть земли, обитаемые людьми, не только в нашем подсолнечном мире, но и вне его, в звездном небе, и что количество этих земель несчетное» (там же. С. 338).
[Закрыть]
В этой «истине» убеждается и герой Достоевского, совершивший с небесным спутником головокружительный полет через галактики к «звездочке» и удивившийся, обнаружив там разительное сходство с его землей: «И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?..» (С. 128).
Герой Достоевского думает и говорит во сне после «самоубийства», но это не человеческая речь, а нечто иное: «И я вдруг воззвал, не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим…» (С. 127). Его прекрасно понимает небесное существо, которое «имело как бы лик человеческий». Это «темное», загадочное существо лишь изредка отвечает на вопросы «землянина» и каким-то сверхъестественным и в то же время очень действенным образом влияет на него, читая в мыслях и сердце: «Что-то немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчащего спутника и как бы проницало меня» (С. 128).
«Ангелы» Сведенборга сообщаются с прибывшими на небеса людьми, вживаясь в их образ, усваивая язык, биографию и индивидуальные человеческие особенности. Человек, согласно мистическим фантазиям Сведенборга, умирая и обращаясь в духа, сохраняет все качества и свойства, присущие ему в земной юдоли: «У человека-духа те же внешние и внутренние чувства, какие были даны ему на земле: он видит как прежде, слышит и говорит как прежде, познает обонянием, вкусом и осязанием как прежде; у него такие же наклонности (affectiones), желания, страсти; он думает, размышляет, бывает чем-нибудь затронут или поражен, он любит и хочет как прежде… При нем остается даже природная память его; он помнит все, что, живучи на земле, слышал, видел, читал, чему учился, что думал с первого детства своего до конца земной жизни…».
«Смешной человек» после «смерти» ведет себя таким же образом, как и в жизни, удивляясь тому обстоятельству, что он, будучи мертвым, чувствует и рассуждает. Конечно, идеи Сведенборга – не больше чем иллюстрация к отдельным эпизодам и мыслям рассказа Достоевского. Здесь нет прямых совпадений, нет и заимствования. Сочинение Сведенборга создало своеобразное мистико-астрономическое настроение. Достоевский мистику почти всецело устранил, переведя ее в план «поэтики» и психологии сновидений. Но возможно, что именно книга известного спиритуалиста натолкнула Достоевского на мысль о создании «фантастического рассказа» с героем – сновидцем и пророком, совершающим путешествие к звездочке. Вероятно, книга Сведенборга своим «удивительным» содержанием оживила в памяти писателя представление о «месмерических» произведениях Э. По. А это воспоминание предопределило во многом жанр «фантастического рассказа» и природу фантастического в произведении Достоевского.
2
«Фантастический рассказ» – единственное художественное произведение в составе «Дневника писателя» за 1877 г. – занимает в творчестве Достоевского особое место. По мнению М. М. Бахтина, «поражает предельный универсализм этого произведения и одновременно его предельная же сжатость, изумительный художественно-философский лаконизм». [249]249
Бахтин М.Проблемы поэтики Достоевского. С. 199. «По своей тематике „Сон смешного человека” – почти полная энциклопедия ведущих тем Достоевского…» (там же. С. 201).
[Закрыть]
Рассказ «Сон смешного человека» – кульминация в развитии одного из центральных, постоянных мотивов творчества Достоевского – золотого века. Вслед за Сен-Симоном и другими утопистами Достоевский веровал в то, что подлинный золотой век, то есть общество, основанное на братских и гуманных началах, не давно перевернутая, а будущая, предстоящая страница истории человечества. [250]250
Знаменитый эпиграф, предпосланный Сен-Симоном «Рассуждениям литературным, философским и промышленным» («Золотой век, который слепое предание относило до сих пор к прошлому, находится впереди нас» – Сен-Симон.Избр. соч. М., 1948. Т. 2. С. 273), был девизом петрашевцев. Не утратил он своей актуальности и позднее как для Салтыкова-Щедрина, так и для Достоевского.
[Закрыть]Это общество должно разрешить все мучительные, «проклятые» вопросы и недоумения эпохи «цивилизации».
Отражение в «Сне смешного человека» идей французских утопистов (А. Сен-Симона, Ш. Фурье, В. Консидерана, Б. Анфантена) многократно отмечалось в литературе о Достоевском. [251]251
См., например: Комарович В. Л.«Мировая гармония» Достоевского // Атеней: Историко-литературный временник. 1924. Кн. 1–2. С. 139; Хмелевская Н. А.Об идейных источниках рассказа Ф. М. Достоевского «Сон смешного человека» // Вестн. Ленингр. ун-та. 1963. Вып. 2. Сер. литературы, истории, языка, № 8. С. 137–140.
[Закрыть]
Обычно Достоевский противопоставляет «коноводов» утопического социализма тех времен, когда «понималось дело еще в самом розовом и райско-нравственном свете», представителям позднейшего, «политического» и «делового» социализм (второй половины XIX в.), отдавая предпочтение первым. Имена «коноводов» французского утопического социализма Достоевский упоминает в февральском выпуске «Дневника писателя» 1877 г., воссоздавая историю движения: «…лет сорок назад все эти мысли и в Европе-то едва начинались, многим ли и там были известны Сен-Симон и Фурье – первоначальные „идеальные” толковники этих идей, а у нас <…> знали тогда о начинавшемся этом новом движении на Западе Европы лишь полсотни людей в целой России». (С.62). «Идеальными» мыслителями называет Сен-Симона и Фурье Достоевский потому, что они придавали большое значение этическим проблемам: «…прежде, недавно даже, была <…> нравственнаяпостановка вопроса, были фурьеристы и кабетисты, были спросы, споры и дебаты об разных, весьма тонких вещах. Но теперь предводители пролетария все это до времени устранили» (С. 67).
Эти и другие (почти идентичные по смыслу приведенным) высказывания автора «Дневника писателя» позволяют точно судить о том, что было близко Достоевскому в идеях французских социалистов-утопистов и что он решительно отвергал как «пагубное» и нелепое. Достоевский и в 1840-х годах многого не принимал в утопиях Фурье и Э. Кабе, как и другие петрашевцы, в частности В. А. Милютин, иронически писавший в статье «Мальтус и его противники» о том «общественном устройстве», «которое придумал Фурье для блага человечества, но которым человечество, вопреки надеждам фурьеристов, может весьма легко и не воспользоваться…». [252]252
Милютин В. А.Избранные произведения. М., 1948. С. 144. «Пагубной» считал Достоевский ту черту воззрений некоторых французских утопистов, которую Милютин называл «стремлением к излишней централизации, к излишнему подчинению частных интересов интересу общему» (там же. С. 354).
[Закрыть]