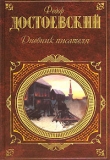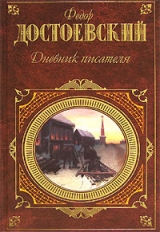
Текст книги "Том 14. Дневник писателя 1877, 1980, 1981"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 55 страниц)
Послушайте, Наблюдатель, вы утверждаете твердо и точно, что всё дело произошло без колебаний, обдуманно, спокойно, била, дескать, целый год, наконец обдумала, спокойно взяла решение и выбросила за окно младенца: « Ни внезапностипроявления ненависти к ребенку, – пишете вы в негодовании, – ни раскаяния после совершения убийства нет, всё цельно, всё логично в проявлении одной и той жезлой воли. И эту женщину оправдывают». Вот собственные слова ваши. Но ведь от обвинения в предумышленности преступления отказался сам прокурор, известно ли вам это, Наблюдатель, – отказался публично, гласно, торжественно, в самый роковой момент суда. * А прокурор, однако, обвинял преступницу с жестокою настойчивостью. Как же вы-то, Наблюдатель, утверждаете уже после прокурорского отступления, что не было внезапности, а, напротив, – всё было цельно и логично в проявлении одной и той же злой воли? Цельно и логично! Стало быть, обдуманно, стало быть, преднамеренно. Припомню всё еще раз быстрыми штрихами: она велит девочке встать на подоконник и выглянуть за окошко, и когда девочка посмотрела за окно, она приподняла ее за ножки и выбросила с высоты 5 ½ сажен. Затем заперла окно, оделась и пошла в участок доносить на себя. Скажите, неужели это цельно и логично, а не фантастично? И во-первых, для чего поить-кормить ребенка, если уж дело было замышлено давно в уме ее, для чего ждать, пока та выпьет кофе и съест свой хлеб? Как можно (и естественно ли) даже не заглянуть за окно, уже выбросив девочку. И позвольте, к чему доносить на себя? Ведь если всё вышло из злобы, из ненависти к девочке, «которую она била целый год», то для чего, убив эту девочку, придумав и исполнив наконец это давно и спокойно замышленное убийство, идти тотчас же доносить на себя? Ненавистной девочке пусть смерть, а ей-то для чего себя губить? Кроме того, если сверх ненависти к ребенку был и еще мотив, чтоб убить его, то есть ненависть, к мужу, желание отмстить мужу смертию его ребенка, то ведь она прямо могла сказать мужу, что шалунья девочка сама влезла на окошко и сама вывалилась, ведь всё равно цель была бы достигнута, отец был бы поражен и потрясен, а обвинить ее в умышленном убийстве никто бы в мире тогда не мог, хотя бы и могло быть подозрение? Где доказательства? Если б даже девочка и осталась жива, то кто бы мог поверить ее лепету? Напротив, убийца тем вернее и полнее достигла б всего, к чему стремилась, то есть отмстила бы гораздо злее и больнее мужу, который, если б даже и подозревал ее в убийстве, то именно тем пуще бы мучился ее безнаказанностью, видя, что наказать ее, то есть предать правосудию, невозможно. Наказав же себя сама тут же, погубив всю свою участь в остроге, в Сибири, в каторге, она тем самым давала мужу удовлетворение. Для чего же всё это? И кто одевается, наряжается в этом случае, чтоб идти губить себя? О, скажут мне, она не просто хотела лишь отмстить ребенку и мужу, она хотела и брак разорвать с мужем: сошлют на каторгу, брак разорван! Но уж не говоря о том, что об разрыве брака можно бы было распорядиться и придумать иначе, чем губя, девятнадцати лет, всю жизнь и свободу свою, – не говоря уже об этом, согласитесь, что человек, решающийся погубить себя сознательно, бросится в разверзшуюся под ногами бездну безо всякой оглядки, без малейшего колебания, – согласитесь, что в этой человеческой душе должно было быть страшное чувство в ту минуту, мрачное отчаяние, позыв к гибели неудержимый, позыв броситься и истребить себя, – а если так, то можно ли, можно ли сказать, сохраняя здравый смысл, что « нивнезапности,ни раскаяния в душе не было»! Не было если раскаяния, то были мрак, проклятие, сумасшествие. Уж, по крайней мере, нельзя сказать, что было всё цельно, всё логично, всё предумышленно, без внезапности. Нужно быть самому в «аффекте», чтоб утверждать это. Не иди она доносить на себя, останься дома, солги людям и мужу, что ребенок убился сам, – было бы действительно всё логично и цельно, и без внезапности в проявлении злой воли; но погубление и себя тут же, не вынужденное, а добровольное, уж конечно, свидетельствует по крайней мере, об ужасном и возмущенном душевном состояний убийцы. Это мрачное душевное состояние продолжалось долго, несколько дней. Выражение: «Ну, живуча» – было выставлено защитником экспертом же (а не обвинением) * , при обрисовке им перед судом того мрачного; холодного, как бы омертвевшего духовного состояния подсудимой после совершения ею преступления, а не как злобную, холодную, нравственную бесчувственность с ее стороны. Моя же вся беда была в том, что я, прочитав тогда первый приговор суда и пораженный именно странностью и фантастичностью всех подробностей дела и взяв в соображение сообщенный в тех же газетах факт о ее беременности, на пятом месяце, во время совершения убийства, не мог, совершенно невольно, не подумать: не повлияла ли тут и беременность, то есть как я писал тогда, не случилось ли так дело: «Посмотрела она на ребенка и подумала в злобе своей: вот бы выбросить за окошко? Но будучи не беременна – подумала бы может быть, по злобе своей, да и не сделала бы, не выбросила, а беременная – взяла, да и сделала?» * Ну, вот вся беда моя в том, что я тогда так подумал и так написал. Но неужели с одних этих слов только кассировали приговор и потом оправдали убийцу? Вы смеетесь, Наблюдатель, над экспертами! Вы утверждаете, что лишь один из пяти сказал, что преступница действительно была в аффекте беременности, а что трое других лишь выразились, что могло быть влияние беременности, но не сказали положительно, что оно действительно было. Из этого вы выводите, что лишь один эксперт оправдал подсудимую положительно.а четверо нет. Но ведь такое рассуждение ваше неверно: вы слишком много требуете от совести человеческой. Довольно и того, что трем экспертам, очевидно, не хотелось оправдать подсудимую положительно,то есть взять это себе на душу, но факты до того были сильны и очевидны, что эти ученые все-таки поколебались и кончилось тем, что они не могли сказать: нет,прямо и просто, а принужденыбыли сказать, что «действительно могло быть влияние болезненное в момент преступления». Ну, а для присяжных ведь это и приговор: коли не могли не сказать, что «могло быть», значит, пожалуй, и впрямь оно было. Такое сильное сомнение присяжных естественно не могло не повлиять и на их решение, и это совершенно так и следовало по высшей правде: неужели же убить приговором ту, в полной виновности которой трое экспертов явно сомневаются, а четвертый, Дюков, эксперт именно по душевным болезням, прямо и твердо приписывает всё злодеяние тогдашнему расстроенному душевному состоянию преступницы? Но Наблюдатель особенно ухватился за г-на Флоринского, пятого эксперта, не согласившегося с мнением четырех первых экспертов: он, дескать, акушер, он больше всех должен знать в болезнях женщины. * Это почему же он должен знать в душевных болезнях больше самих экспертов-психиатров? Потому что он акушер и занимается не психиатрией, а совсем другим делом? Не совсем и это логично.
Теперь расскажу один случай, который, по-моему, может кое-что разъяснить в этом деле окончательно и послужить прямо той цели, с которою предпринял я эту статью. На третий день после оправдательного приговора над подсудимой Корниловой (22 апреля 1877 г.) они, муж и жена, приехали ко мне утром. Еще накануне они оба были в детском приюте, в котором помещена теперь пострадавшая девочка (выброшенная из окошка), и теперь, на другой день, снова туда отправлялись. Кстати, участь ребенка теперь обеспечена, и нечего восклицать: «Горе теперь ребенку!..» и т. д. Отец, когда жену взяли в острог, сам поместил ребенка в этот детский приют, не имея никакой возможности присматривать за ним, уходя с утра до ночи на работу. А по возвращении жены, они решились ее оставить там в приюте, потому что там ей очень хорошо. Но на праздники они часто берут ее к себе домой. Она гостила у них и недавно на рождестве. Несмотря на свою работу, с утра до ночи, и на грудного еще ребенка (родившегося в остроге) на руках, мачеха находит иногда и теперь время урваться и сбегать в приют к девочке, снести ей гостинцу и проч. Когда она была еще в остроге, то, вспоминая свой грех перед ребенком, она часто мечтала, как бы повидаться с ним, сделать хоть что-нибудь так, чтоб ребенок забыл о случившемся. Эти фантазии были как-то странны от такой сдержанной, даже мало доверчивой женщины, какою была Корнилова во всё время под судом. Но фантазиям этим суждено было осуществиться. Перед рождеством, с месяц назад, не видав Корниловых месяцев шесть, я зашел к ним на квартиру, и Корнилова первым словом мне сообщила, что девочка «прыгает к ней в радости на шею и обнимает ее каждый раз, когда она приходит к ней в приют». И когда я уходил от них, она мне вдруг сказала: «Она забудет…»
Итак они ко мне заехали утром на третий день по оправдании ее… Но я всё отступаю, отступлю и еще раз на минутку. Наблюдатель юмористично и зло острит надо мною в своей статье за эти посещения мои Корниловой в остроге. «Он действительно вошел в это положение» (то есть в положение беременной женщины), – говорит он про меня, – «ездил к одной даме в тюрьму, был поражен ее смирением и в нескольких нумерах „Дневника“ выступил горячим ее защитником». Во-первых, к чему тут слово «дама», к чему этот дурной тон? Ведь Наблюдателю отлично известно, что это не дама, а простая крестьянка, работница с утра до ночи; она стряпает, моет полы и шьет на продажу, если урвет время. Бывал же я у нее в остроге ровно по разу в месяц, сиживал минут по 10, много четверть часа, не более, большею частью в общей камере для подсудимых женщин, имеющих грудных младенцев. Если я с любопытством присматривался к этой женщине и старался уяснить себе этот характер, – то что же в том дурного, подлежащего насмешкам и юмору? Но вернемся к моему анекдоту.
Итак, приехали они с визитом, сидят у меня, оба в каком-то проникнутом серьезном состоянии духа. Мужа я до тех пор мало знал. И вдруг он говорит мне: «Третьего дня, как мы воротились домой, – (это после оправдания, стало быть, часу в двенадцатом ночи, а встает он в пять часов утра), – то тотчас сели за стол, я вынул Евангелие и стал ей читать». Признаюсь, когда он сообщил это, мне вдруг подумалось, глядя на него: «Да он и не мог иначе сделать, это тип, цельный тип, это можно бы было угадать». Одним словом, это пуританин, человек честнейший; серьезнейший, несомненно добрый и великодушный, но который ничего не уступит из своего характера и ничего не отдаст из своих убеждений. Этот муж смотрит на брак со всею верою, именно как на таинство. * Это один из тех супругов, и теперь еще сохранившихся на Руси, которые, по старому русскому преданию и обычаю, придя от венца и уже затворившись с нововенчанною женою в спальне своей, первым делом бросаются перед образом на колени и долго молятся, прося у бога благословения на свое будущее. Подобно тому он поступил и тут: вводя вновь свою жену в дом и возобновляя с нею расторгнутый страшным преступлением ее брак свой, он первым делом развернул Евангелие и стал ей читать его, нисколько не удерживаясь в мужественной и серьезной своей решительности хотя бы тем соображением, что женщина эта почти падает от усталости, что она страшно была потрясена, еще готовясь к суду, а в этот последний роковой для нее день суда вынесла столько подавляющих впечатлений, нравственных и физических, что уже, конечно, не грешно бы было даже и такому строгому пуританину, как он, дать ей прежде хоть каплю отдохнуть и собраться с духом, что было бы даже и сообразнее с целью, которую он имел, развертывая перед ней Евангелие. Так что мне даже показался этот поступок его чуть ли не неловким, – слишком уже прямолинейным, в том смысле, что он именно мог не достигнуть цели своей. Слишком виновную душу, и особенно если она сама уже слишком чувствует свою виновность и много уже вынесла из-за того муки, не надо слишком явно и поспешноукорять в ее виновности, ибо можно достигнуть обратного впечатления, и особенно в том случае, если раскаяние и без того уже в душе ее. Тут человек, от которого она зависит, поднявшийся над ней в высшем ореоле судьи, имеет как бы нечто в ее глазах беспощадное, слишком уже самовластно вторгающееся в ее душу и сурово отталкивающее ее раскаяние и возродившиеся в ней добрые чувства: «Не отдых, не еда, не питье нужны такой, как ты, а вот садись и слушай, как надо жить». Когда они уже уходили, мне удалось заметить ему мельком, чтоб он принимался вновь за это делоне столь строго или, лучше сказать, не так бы спешил, не так бы прямо ломил и что так, может быть, было бы вернее. Я выразился кратко и ясно, но всё же думал, что он, может быть, меня не поймет. А он вдруг мне и замечает на это: «А она мне тогда же, как только вошли в дом и как только мы стали читать, и рассказала всё, как вы ее в последнее посещение ваше учили добру, в случае, если б ее в Сибирь сослали, и усовещевали, как ей надо в Сибири жить…»
А это вот как было: действительно я, ровно накануне дня суда, заехал к ней в острог. Твердых надежд на оправдание не было у нас ни у кого, ни у меня, ни у адвоката. У ней тоже. Я застал ее с виду довольно твердою, она сидела и что-то шила, ребенку ее немного нездоровилось. Но была она не то что грустна, а как бы подавлена. У меня же в голове насчет ее ходило несколько мрачных мыслей * , и я именно заехал с целью сказать ей одно словцо Сослать ее, как мы твердо надеялись, могли лишь на поселение, и вот едва совершеннолетняя женщина, с ребенком на руках, пустится в Сибирь. Брак расторгнут; на чужой стороне, одной, беззащитной и еще недурной собою, такой молодой, – где ей устоять от соблазна, думалось мне? Подлинно на разврат толкает ее судьба, я же знаю Сибирь: соблазнять там страшно много охотников, туда очень много едет из России неженатых людей, служащих и аферистов. Упасть легко, но зато сибиряки, простой народ и мещане – это самые безжалостные к падшей женщине люди. Мешать ей не помешают, но раз замаравшая свою репутацию женщина никогда уже не восстановит ее: вечное ей презрение, слово укора, попреки, насмешки, и это до самой старости, до могилы. Прозвище особое дадут. А ребеночек ее (девочка) как раз принужденабудет наследовать карьеру матери: из дурного дома не найдет хорошего и честного жениха. Но другое дело, если сосланная мать соблюдет себя в Сибири честно и строго: молодая женщина, соблюдающая себя честно, пользуется огромным уважением. Всякий-то ее защищает, всякий-то ей пожелает угодить, всякий-то перед ней шапку снимет. Дочку она наверно пристроит. Даже сама может со временем, когда разглядят ее и уверятся в ней, вновь в честный брак вступить, в честную семью. (В Сибири о прошлом, то есть за что сослан, ни в острогах, ни куда бы ни сослали жить, не спрашивают, редко любопытствуют. Может быть, это оттого даже, что чуть ли не всято Сибирь, в три эти столетия, произошла от ссыльных, населилась ими.) Вот всё это мне и вздумалось высказать этой молодой, едва совершеннолетней женщине. И даже я нарочно выбрал, чтоб сказать ей это, именно этот последний день перед судом: характернее останется в памяти, строже напечатлеется в душе, подумалось мне. Выслушав меня, как ей следует жить в Сибири, если сошлют ее, она мрачно и серьезно, не подымая на меня почти глаз, поблагодарила меня. И вот усталая, измученная, потрясенная всем этим страшным многочасовым впечатлением суда, а дома сурово посаженная мужем слушать Евангелие, она не подумала тогда про себя: «Хоть бы пожалел-то меня, хоть бы до завтрава отложил, а, теперь накормил бы, дал отдохнуть». Не обиделась и тем, что так над ней возвышаются(NB. Обида за то, что слишком уже над нами возвышаются,может быть у самого страшного, самого сознающего свое преступление преступника и даже у самого раскаивающегося), – а, напротив, не нашла что лучше мужу сказать, как сообщить ему
поскорей,что вот и в остроге ее учили тоже добру люди, что вот как учили ее жить на чужой стороне, честно, и строго соблюдая себя. И уж явно она сделала это потому, что знала, что рассказ об этом доставит удовольствие ее мужу, впадет в его тон, ободрит его: «Значит, она впрямь раскаивается, впрямь хочет жить хорошо», – подумает он. Так он как раз и подумал, а на мой совет: не пугать ее слишком поспешной строгостью с нею, прямо сообщил мне, конечно, с радостью в душе: «Нечего бояться за нее и осторожничать, она сама рада быть честной…»
Не знаю, но мне кажется, что всё это понятно. Поймут читатели, для чего я и сообщаю это. По крайней мере, теперь хоть надеяться можно, что великое милосердие суда не испортило преступницу еще более, а, напротив, даже очень может быть, что пало на хорошую почву. Ведь она и прежде, и в остроге, и теперь считает себя несомненной преступницей, а оправдание свое приписывает единственно лишь великому милосердию суда. «Аффекта беременности» она сама не понимает. И точно, она несомненная преступница, она была в полной памяти, совершая преступление, она помнит каждое мгновение, каждую черточку совершенного преступления, она только не знает и даже себе самой не может никак уяснить до сих пор: «Как это она могла тогда это сделать и на это решиться!»Да, г-н Наблюдатель, суд помиловал действительную преступницу, действительную, несмотря на несомненный теперь и роковой «аффект беременности», столь осмеянный вами, г-н Наблюдатель, и в котором я глубоко и уже непоколебимо теперь убежден. Ну, а теперь решите сами: если б разорвали брак, отторгли ее от человека, которого она несомненно любила и любит и который для нее составляет всё ее семейство, и одинокую, двадцатилетнюю, с младенцем на руках, беспомощную сослали в Сибирь – на разврат, на позор (ведь это падение-то в Сибири наверно же бы случилось) – скажите, что толку в том, что погибла, истлела бы жизнь, которая теперь, кажется, возобновилась вновь, возвратилась к истине в суровом очищении, в суровом покаянии и с обновившимся сердцем. Не лучше ли исправить, найти и восстановить человека, чем прямо снять с него голову. Резать головы легко по букве закона, но разобрать по правде, по-человечески, по-отчески, всегда труднее. Наконец, ведь вы знали же, что вместе с молодою, двадцатилетнею матерью, то есть неопытною и наверно впереди жертвою нужды и разврата, – ссылается и младенец ее… Но позвольте мне вам сказать о младенцах словечко особо.
Вся ваша статья, г-н Наблюдатель, есть протест «против оправдания жестокого обращения с детьми». То, что вы заступаетесь за детей, конечно, делает вам честь, но со мной-то вы обращаетесь слишком высокомерно. *
«Надо иметь всю ту силу воображения, – (говорите вы обо мне), – которою, как известно, отличается среди всех нас г-н Достоевский, чтобы вполне войти в положение женщины и уяснить себе всю неотразимость аффектов беременности… Но г-н Достоевский слишком впечатлителен, и притом «болезненные проявления воли» – это прямо по части автора «Бесов», «Идиота» и т. д., ему извинительно иметь к ним слабость. Я смотрю на дело проще и утверждаю, что после таких примеров, как оправдания жестокого обращения с детьми, этому обращению, которое в России, как и в Англии, очень нередко, не предстоит уже и тени устрашения». – И т. д., и т. д.
Во-первых, о «слабости моей к болезненным проявлениям воли» я скажу вам лишь то, что мне действительно, кажется, иногда удавалось, в моих романах и повестях, обличатьиных людей, считающих себя здоровыми, и доказать им, что они больны. Знаете ли, что весьма многие люди больны именно своим здоровьем, то есть непомерной уверенностью в своей нормальности, и тем самым заражены страшным самомнением, бессовестным самолюбованием, доходящим иной раз чуть ли не до убеждения в своей непогрешимости. Ну вот на таких-то мне и случалось много раз указывать моим читателям и даже, может быть, доказать, что эти здоровяки далеко не так здоровы, как думают, а, напротив, очень больны, и что им надо идти лечиться. Что ж, я не вижу в этом ничего дурного, но г-н Наблюдатель слишком жесток ко мне, потому что фраза его об «оправдании жестокого обращения с детьми» прямо и ко мне относится; он только «капельку» смягчает ее: «Ему-де извинительно». Вся статья его написана прямо для доказательства, что во мне, от пристрастия моего к «болезненным проявлениям воли», до того извратился здравый смысл, что я скорее готов пожалеть истязателя ребенка, зверя-мачеху и убийцу, а не истязуемую жертву, не слабую, жалкую девочку, битую, поруганную и, наконец, убитую. Это мне обидно. В противуположность моей болезненности, Наблюдатель прямо, поспешно и откровенно указывает на себя, выставляет свое здоровье: «Я, дескать, смотрю на дело проще (чем г-н Достоевский) и утверждаю, что после таких примеров, как оправдания жестокого обращения с детьми» и т. д. и т. д. Итак, я оправдываю жестокое обращение с детьми – страшное обвинение! Позвольте же и мне, в таком случае, защитить себя. Не стану указывать на прежнюю тридцатилетнюю мою литературную деятельность, чтоб решить вопрос: большой ли я враг детей и любитель жестокого обращения с ними, но напомню лишь о двух последних годах моего авторства, то есть об издании «Дневника писателя». Когда был процесс Кронеберга * , мне случилось-таки, несмотря на всё мое пристрастие к «болезненным проявлениям воли», заступиться за ребенка, за жертву, а не за истязателя. Следственно, и я иногдаберу сторону здравого смысла, г-н Наблюдатель. Теперь я даже сожалею, зачем вы не выступили тогда тоже в защиту ребенка, г-н Наблюдатель; наверно бы вы написали самую горячую статью. Но я что-то не помню ни одной горячей тогда статьи за ребенка. Следственно, вы тогда не подумали заступиться. Потом, еще недавно, прошлым летом, мне случилось заступиться за малолетних детей Джунковских * , тоже подвергавшихся истязаниям в родительском доме. О Джунковских тоже вы ничего не написали; впрочем, и никто не написал, дело понятное, все были заняты такими важными политическими вопросами. Наконец, я бы мог указать даже не на один, а на несколько случаев, когда я, в эти два года, в «Дневнике» заговаривал о детях, об их воспитании, об их жалкой судьбе в наших семействах, о детях-преступниках в наших заведениях для исправления их, даже упомянул об одном мальчике у Христа на елке * ,– происшествие, конечно, лживое, но, однако, и не свидетельствующее прямо об моей бесчувственности и равнодушии к детям. Я вам скажу, г-н Наблюдатель, вот что: когда я прочел в газете в первый раз о преступлении Корниловой, о неумолимом приговоре над нею и когда я невольно был поражен соображением: что, может быть, преступница вовсе не так преступна, как оно кажется (заметьте, Наблюдатель, что о «мачехиномбитье» и тогда почти ничего не говорилась в газетных отчетах о процессе, и обвинение это даже и тогда уже не поддерживалось), – то я, решившись написать что-нибудь в пользу Корниловой, слишком понимал тогда и то, на что я решался. Я в этом прямо теперь вам признаюсь.
Я ведь отлично знал, что я пишу статью несимпатичную, что я заступаюсь за истязателя, и против кого же, против малого ребенка. Я предугадывал, что меня обвинят иныев бесчувственности, в самомнении, в «болезненности» даже: «Заступается-де за мачеху, убившую ребенка!» Я слишком предчувствовал эту «прямолинейность» обвинения от некоторых судей, вот как от вас, например, г-н Наблюдатель, так что я даже некоторое время и колебался, но кончилось тем, что наконец всё же решился: «Если я верю, что тут правда, то стоит ли служить лжи из-за искания популярности?» – вот на чем я остановился в конце концов. Кроме того, меня ободрила и вера в моих читателей: «Они разберут наконец, – подумал я, – что ведь нельзя же меня обвинить в желании оправдать истязание детей, и если я заступаюсь за убийцу, выставляя свое подозрение в ней болезненного и сумасшедшего состояния во время совершения ею злодейства, то ведь не заступаюсь же я тем самым за самое злодейство и не рад же ведь я тому, что били и убили ребенка, а напротив, может быть, очень и очень пожалел ребенка, не менее кого другого…»
Вы зло посмеялись надо мною, г-н Наблюдатель, за одну фразу в статье моей об оправдании подсудимой Корниловой:
«Муж оправданной, – пишет г-н Достоевский в вышедшем на днях «Дневнике» (говорите вы), увез ее в тот же вечер, уже в одиннадцатом часу, к себе домой, и она, счастливая, вошла опять в свой дом». Как трогательно (прибавляете вы), но горе бедному ребенку и т. д. и т. д. *
Мне кажется, что я не могу написать такой глупости. Правда, вы цитуете мою фразу точно, но вы что сделали: вы перерезали ее пополам и там, где ничего не стояло, поставили точку. Смысл-то и вышел тот, который вам хотелось выставить. У меня точки на этом месте нет, фраза продолжается, есть и другая половина ее, и думаю, что вместе с этой другой, вами отброшенной половиной, фраза вовсе не так бестолкова и «трогательна», как она представляется. Вот эта фраза моя, но вся целиком, без выкидок.
«Муж оправданной увел ее в тот же вечер, уже в одиннадцатом часу, к себе домой, и она, счастливая, вошла опять в свой дом почти после годового отсутствия, с впечатлением огромного вынесенного ею урока, на всю жизнь и явного божьего перста во всем этом деле, хотя бы только начиная с чудесного спасения ребенка…»
Видите ли, г-н Наблюдатель, я даже готов оговориться и извиниться перед вами в сейчас высказанном вам упреке за перерезанную надвое мою фразу. Действительно, я сам замечаю теперь, что фраза, может быть, вовсе не так ясна, как я надеялся, и что можно ошибиться в смысле ее. Ее нужно несколько пояснить, и я сделаю это теперь. Тут всё дело в том, как я понимаю слово «счастливая». Счастье оправданной я ставил не в том только, что ее отпустили на волю, а в том, что она «вошла в дом свой с впечатлением огромного вынесенного ею урока на всю жизньи с предчувствием над собой явного перста божия». Ведь нет выше счастья, как увериться в милосердии людей и в любви их друг к другу. Ведь это вера, целая вера, на всю уже жизнь! А какое же счастье выше веры? Разве эта бывшая преступница может теперь усумниться в людях хоть когда-нибудь, в людях как в человечестве и в его целом, великом целесообразном и святом назначении? Войти к себе в дом погибавшему, пропадавшему с таким могущественным впечатлением новой великой веры, есть величайшее счастье, какое только может быть. Мы знаем, что иные самые благородные и высокие умы весьма даже часто страдали всю жизнь свою неверием в целесообразность великого назначения людей, в их доброту, в их идеалы, в божеское происхождение их и умирали в грустном разочаровании. Вы, конечно, улыбнетесь надо мной и скажете, может быть, что я и тут фантазирую и что у темной, грубой Корниловой, вышедшей из черни и лишенной образования, не может быть в душе ни таких разочарований, ни таких умилений. Ох, неправда! Назвать только они, эти темные люди, не умеют это всё по-нашему и объяснить это нашим языком, но чувствуют они, сплошь и рядом, так же глубоко, как и мы, «образованные люди», и воспринимают чувства свои с таким же счастьем или с такою же грустью и болью, как и мы же.
Разочарование в людях, неверие в них бывает и у них так же, как и у нас. Если б Корнилову сослали в Сибирь и она бы там упала и погибла, – неужели вы думаете, что она бы не почувствовала в какую-нибудь горькую минуту жизни весь ужас своего падения и не унесла бы на сердце своем, может быть, до гроба озлобления, тем более горького, что оно было бы для нее беспредметно, ибо, кроме себя, она не могла бы никого обвинить, потому что, повторяю вам это, она вполне уверена, и до сих пор, что она несомненная преступница,и только не знает, как это так тогда случилось над нею. Теперь же, чувствуя, что она преступница, и считая себя таковою, и вдруг прошенная людьми, облагодетельствованная и помилованная, как могла бы она не почувствовать обновления и возрождения в новую и уже высшую прежней жизнь? Ее не один кто-нибудь простил, но умилосердились над нею все,суд, присяжные, всё общество, стало быть. Как могла бы она после того не вынести в душе своей чувства огромного долга впредь на всю жизнь свою, перед всеми, ее пожалевшими, то есть перед всеми людьми на свете. Всякое великоесчастье носит в себе и некоторое страдание, ибо возбуждает в нас высшее сознание. Горе реже возбуждает в нас в такой степени ясность сознания, как великое счастье. Великое, то есть высшее счастье обязываетдушу. (Повторю: выше нет счастья, как уверовать в доброту людей и в любовь их друг к другу.) Когда сказано было великой грешнице, осужденной на побитие камнями: «Иди в свой дом и не греши» * ,– неужели она воротилась домой, чтобы грешить? А потому весь вопрос и в деле Корниловой заключается лишь в том: на какую почву упало семя. Вот почему мне и показалось необходимым написать теперь эту статью. Прочитав семь месяцев назад ваше нападение на меня, г-н Наблюдатель, я именно решился подождать отвечать вам, чтобы дополнить мои сведения. И вот, мне кажется, что по некоторым, собранным мною чертам я уже безошибочно мог бы сказать теперь, что семя упало на добрую почву, что человек воскрешен, что никому это не сделало зла, что душа преступницы именно подавлена и раскаянием и вечным благотворным впечатлением безграничного милосердия людей и что трудно теперь сердцу ее стать злым, испытав на себе столько доброты и любви. Несомненным же «аффектом беременности», который так возмущает вас, г-н Наблюдатель, повторяю вам это, она вовсе не думает оправдываться. Одним словом, мне показалось вовсе не лишним уведомить об этом, кроме вас, г-н Наблюдатель, и всех читателей моих и всех тех милосердых людей, которые тогда оправдали ее. А об девочке, г-н Наблюдатель, тоже не заботьтесь и не восклицайте о ней: «Горе ребенку!» Ее судьба тоже теперь довольно хорошо устроилась и – «она забудет», есть серьезная надежда и на это.