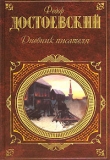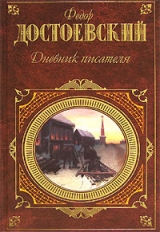
Текст книги "Том 14. Дневник писателя 1877, 1980, 1981"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 55 страниц)
Приведенные свидетельства дополняются рассказом Достоевского в письме от 13 июня 1880 г. к графине С. А. Толстой (вдове поэта А. К. Толстого): «Все плакали, даже немножко Тургенев. Тургенев и Анненков (последний положительно враг мне) кричали мне вслух, в восторге, что речь моя гениальная и пророческая. „Не потому, что вы похвалили мою Лизу, говорю это», – сказал мне Тургенев. Простите и не смейтесь, дорогие мои, что я в такой подробности всё это передаю и так много о себе говорю, но ведь, клянусь, это не тщеславие, этими мгновениями живешь, да для них и на свет являешься. Сердце полно, как не передать друзьям. Я до сих пор как размозженный» (XXX. Кн. 1, 187–189).
Восторженные слушатели увенчали Достоевского после произнесения пушкинской речи огромным лавровым венком. «Не зная, что делать с венком, – вспоминает враждебно относившийся к политическим идеям писателя К. А. Тимирязев, – его надели Достоевскому через голову на плечи, и он несколько мгновений сидел, изображая из себя жалкую, смешную фигуру, пока не нашелся добрый человек, освободивший его от этого ярма». [136]136
Тимирязев К. А. Наука и демократия. М., 1920. С. 370.
[Закрыть]
Оценивая значение речи Достоевского и анализируя причины ее необычайного успеха, Глеб Успенский справедливо указал, что она стала крупным общественным событием благодаря тому, что Достоевский связал в ней – чего не удавалось в такой мере ни одному из его предшественников – в единый, нерасторжимый узел проблему национального значения Пушкина и самые жгучие вопросы современности: «В течение двух с половиною суток, – писал Успенский о пушкинских празднествах, – никто почти <…> не сочел возможным выяснить идеалы и заботы, волновавшие умную голову Пушкина, при помощи равнозначащих забот, присущих настоящей минуте; никто не воскресил их среди теперешней действительности <…> Напротив, руководствуясь в характеристике его личности и дарования фактами, исключительно относившимися к его времени, господа ораторы, при всем своем рвении, и то только едва-едва, сумели выяснить Пушкина в прошлом, отдалили это значение в глубь прошлого, поставили его вне последующих и настоящих течений русской жизни и мысли. Лишь Тургенев отрезвил и образумил публику, первый коснувшись, так сказать, „современности” <…> Но никто не подозревал, чтобы эта же «современность» могла завладеть всем существом, всей огромной массой слушателей, наполнявшей огромный зал Дворянского собрания, и что это совершит тот самый Ф. М. Достоевский, который все время „смирнехонько” сидел, притаившись около эстрады и кафедры, записывая что-то в тетрадке.
Когда пришла его очередь, он „смирнехонько” взошел на кафедру, и не прошло пяти минут, как у него во власти были все сердца, все мысли, вся душа всякого, без различия, присутствовавшего в собрании <…> Он нашел возможным, так сказать, привести Пушкина в этот зал и устами его объяснить обществу, собравшемуся здесь, кое-что в теперешнем его положении, в теперешней заботе, в теперешней тоске». [137]137
Успенский Г. И. Полн. собр. соч. М., 1953. Т VI. С. 419–422; Достоевский в воспоминаниях. Т. 11. С. 336–338.
[Закрыть]
Проходящая через всю пушкинскую речь и ставшая одним из ее лейтмотивов характеристика типа передового, мыслящего (в том числе революционного) русского интеллигента, начиная с эпохи декабристов, как «скитальца в родной земле» сложилась как философское обобщение художественных формул «странника» и «скитальца», в различных вариантах отразившихся во множестве произведений русской классической литературы со времен Пушкина до 60-х годов («Рудин» Тургенева (1856), [138]138
«Скитальцем» назван, между прочим, автором и Бельтов в романе А. И. Герцена «Кто виноват?» (1845–1846); см.: Герцен А. И. Собр. соч. М., 1955. Т IV. С. 122.
[Закрыть]«Мои литературные и нравственные скитальчества» Ап. Григорьева (1862) и др.).
Либеральная и демократическая критика в оценке исторических судеб русской литературы, как и в решении всех вопросов русской жизни, исходила из задач борьбы с крепостным правом. Отсюда – два ее тезиса. Первый из них – оценка Пушкина как «поэта-художника» в противовес Лермонтову и Гоголю как родоначальникам социально-критического направления в русской литературе. Второй – убеждение, что уровень общественной жизни самодержавно-крепостнической России не дает пока права представителям русской литературы оцениваться наравне с представителями литературы мировой. Это право они приобретут, – так полагал Белинский, – лишь после того, как Россия завоюет политическую свободу и в социально-экономическом отношении сравнится с другими цивилизованными странами Европы или превзойдет их. Позднее отвлеченный рационализм В. А. Зайцева, а затем Писарева привел их к «нигилистическому» отрицанию Пушкина.
В своей речи 7 июня 1880 г. Тургенев сохранил верность основным акцентам статей Белинского о Пушкине: «Пушкин, повторяем, был нашим первым поэтом-художником», – заявил он вслед за Белинским. И далее: «Вопрос: может ли он назваться поэтом национальным, в смысле Шекспира, Гете и др., мы оставим пока открытым». «Под влиянием старого, но не устаревшего учителя – мы твердо этому верим – законы искусства, художнические приемы вступят опять в свою силу и – кто знает? – быть может, явится новый, еще неведомый избранник, который превзойдет своего учителя и заслужит вполне название национально-всемирного поэта, которое мы не решаемся дать Пушкину, хотя и не дерзаем его отнять у него». [139]139
Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Сочинения. М.; Л., 1967. Т. XV. С. 67–75.
[Закрыть]
Старшие славянофилы (в лице К. С. и И. С. Аксаковых и А. С. Хомякова) также не разделяли взгляда на Пушкина как на национального поэта. Подобному признанию противоречил романтический характер славянофильской эстетики: «…не тайна, – писал по этому поводу Н. Н. Страхов, – холодность наших славянофилов к нашему Пушкину. Она заявляется издавна и постоянно. Это печальный факт, который еще и еще раз свидетельствует о безмерной путанице нашей жизни». И далее: «…не из славянофильства он (Достоевский. – Ред.) почерпнул то восторженное поклонение Пушкину, которое так блистательно выразил и которое дало ему победу». [140]140
Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888.С. 4, 420.
[Закрыть]«Пушкин – это наше право на Европу и на нашу европейскую национальность, а вместе с тем и право на нашу самобытную особенность в кругу других европейских национальностей, – не на фантастическую и изолированную особенность, а на ту, какую бог дал, какая сложилась из напора реформы и отсадков коренного быта, и вот почему его не любят славянофилы…», – заявлял еще раньше Аполлон Григорьев. [141]141
Григорьев А. Собр. соч. М., 1916. Вып. 12. С. 32.
[Закрыть]
Не только декабристы и «лишние» люди 40-50-х годов, но и горстка народнической молодежи, вступившей в 70-е годы в отважное и трагическое единоборство с самодержавием, – по Достоевскому, – представители одного и того же глубоко национального типа беззаветного и бескорыстного искателя общественно-исторической правды и справедливости. Тип этот закономерно порожден русской историей. И автор пушкинской речи призвал своих слушателей воздать должное этим «скитальцам» (при всем критическом отношении к ним писателя) в истории идейных исканий русского общества на пути к народной и общечеловеческой правде. Осмысляя путь Пушкина, а также его наследников и продолжателей как этапы единого исторически закономерного и необратимого движения мыслящей части русского общества к народу, признавая русского «скитальца» (в том числе – революционера) национальным типом и выражая одновременно горячую веру в то, что лишь единение интеллигенции и народа может послужить исходной точной для продвижения к светлому будущему России и человечества, утверждая неразрывность судеб России и Европы, единство национального самосознания и христианско-гуманистического идеала братства народов, Достоевский выступил в пушкинской речи провозвестником стихийных, демократических чаяний и идеалов широких слоев русского общества.
Порожденный русской историей характер мыслящего и беспокойного «скитальца», час исторического рождения и первую фазу жизни которого зафиксировал Пушкин, не умер и не отошел в прошлое вместе с его эпохой, но продолжал жить, углубляться и развиваться дальше после смерти Пушкина. И позднейшие русские писатели, начиная с Лермонтова и Гоголя и вплоть до Толстого и Достоевского, были призваны историей в своем творчестве продолжать работу над решением той же самой исторической задачи, начало работы над которой положил Пушкин.
Особую заслугу Пушкина Достоевский увидел в том, что великий поэт сумел подойти и к народу, и к простому русскому человеку не извне, а изнутри. Поэт смог оценить и полюбить в них их живую душу, без всякой снисходительности или проявлений барского, «господского» отношения к народу, взгляда на него сверху вниз.
Пушкин, по оценке Достоевского, всецело, до конца, сердечно и беспредельно проникся тем глубинным миросозерцанием, которое подспудно, часто стихийно, неосознанно на протяжении многих веков жило в душе русского человека из народа, направляя его историческую деятельность: именно поэтому, говоря о «всеотзывчивости» и «всемирности» Пушкина, Достоевский понял их не как черты индивидуального своеобразия Пушкина-поэта, а как черты национально-народные, отражающие психический склад множества русских людей: «И эту-то <…> главнейшую способность нашей национальности он именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он и народный поэт».
Из статей 1820-1860-х годов о Пушкине, повлиявших на формирование взглядов Достоевского на ход развития поэзии Пушкина в ее взаимоотношении с историей русского общества и литературы, а также на утверждение им ее национального характера, значение имели статья И. В. Киреевского «Нечто о характере поэзии Пушкина» (1828; здесь впервые творческий путь поэта разделен на три периода) и две известные статьи Гоголя – «Несколько слов о Пушкине» (1835) и «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» (1847) [142]142
См.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Л., 1952. Т. VIII. С. 383–384.
[Закрыть](на начальные строки первой из этих статей ссылается в пушкинской речи сам писатель). Наконец, в пушкинской речи Достоевский переосмыслил ряд суждений о Пушкине А. А. Григорьева. Последний в своем понимании народности Пушкина делал особый акцент, как и Достоевский, на любви поэта к «смиренному» «белкинскому» началу. Начало это Григорьев рассматривал как антитезу «гордому» типу Сильвио и другим героям – носителям начала романтического индивидуализма. А. А. Григорьев не протягивал, однако, подобно Достоевскому, от байронических героев 20-30-х годов прямых историко-культурных и психологических нитей к образам позднейших «русских скитальцев» в том несравненно более широком и емком смысле слова, какое приобрел этот термин в устах Достоевского, включившего в число русских скитальцев также народников-семидесятников и тем самым наполнившего его живым для той эпохи общественно-политическим содержанием.
Последние годы царствования Александра II были временем глубокого политического кризиса. Это отчетливо ощущали не только мыслящие представители русского общества, но и само правительство, лавировавшее между планами созыва «земского собора» и реакцией. Все общественные силы были в большей или меньшей степени охвачены сознанием глубины и напряженности этого кризиса, наэлектризованы желанием найти из него выход. И, как показалось многим слушателям речи Достоевского, она если и не давала решения «проклятых» вопросов политической жизни России, то по крайней мере остро ставила эти вопросы – и тем самым откровенно формулировала мысль о необходимости найти пути не частичного, а коренного переустройства всех условий тогдашней русской жизни, – такого переустройства, которое отвечало бы и самоотверженности и максимализму устремлений передовой части русского общества, персонифицированной Достоевским в образе «исторического русского скитальца», и извечным национально-народным идеалам и чаяньям.
Достоевский во многом верно ощущал трагический характер борьбы с царизмом не только декабристов и других дворянских революционеров, но и террористов-народников 70-х годов, невозможность коренного преобразования общества без единения интеллигенции и народа. И отсюда писатель делал вывод о том, что подлинное преобразование общества возможно лишь мирным путем и что отправным пунктом для этого должна послужить моральная перестройка сознания самой интеллигенции, восприятие ею христианского идеала. В соответствии с этим в пушкинской речи он призывал русскую интеллигенцию к примирению, совместной «работе на родной ниве».
При этом очевидно, что для того, чтобы до конца понять смысл тезиса последней части пушкинской речи: «Смирись, гордый человек», – нужно соотнести ее также с логикой не только общественно-политической, но и художественной мысли Достоевского, ибо «гордый человек» в понимании писателя – не только Алеко и Онегин, но и Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов, т. е. все те, кто в своем «гордом» самосознании и индивидуалистическом своеволии склонны высоко вознести себя над «тварью дрожащей», признать свое духовное избранничество, свое право «делать историю» за массу, без ее участия, без учета ее исторического опыта и традиций. Обращенный к интеллигенции призыв к смирению соответственно означал в устах Достоевского призыв, в первую очередь, к отказу от индивидуализма, к смирению перед правдой народной жизни, народных чаяний и идеалов.
Однако призыв к «смиренной» работе «на родной ниве» не мог встретить поддержки ни у либеральной части русского общества, стремившейся к конституционным преобразованиям, ни у революционно или демократически настроенных современников, боровшихся с самодержавием. Правительственные же круги не могли не смущать содержащиеся в пушкинской речи высокая оценка роли русского скитальца, оправдание его общественного и нравственного максимализма, обращенный к русскому обществу призыв действенно стремиться к утверждению на земле новой «мировой гармонии» и вера в возможность ее достижения.
Поэтому восторженно принятая слушателями в момент произнесения речь Достоевского «на другой день», по выражению Г. И. Успенского, вызвала бурные возражения у представителей едва ли не всех общественных кругов. Надежда Достоевского примирить западников и славянофилов, правительство Александра II и революционную молодежь оказалась неосуществимой.
5
О намерении издать свою речь в форме особого выпуска «Дневника писателя» Достоевский рассказал впервые накануне отъезда из Москвы, 9 июня, жене писателя и педагога Л. И. Поливанова Марии Александровне, посетившей его в этот вечер: «Зачем вам списывать речь мою? – заявил писатель в ответ на просьбу мемуаристки. – Она появится в „Московских ведомостях” через неделю, а потом издам выпуск „Дневника писателя”, единственный в этом году и состоящий исключительно из этой речи». [143]143
Достоевский в воспоминаниях. Т. II. С. 359.
[Закрыть]
Возможно, что первая мысль об издании статьи (или речи) о Пушкине в виде отдельного выпуска «Дневника писателя» зародилась у Достоевского еще до получения письма Юрьева. Не случайно писатель, подтверждая, что еще до получения заказа на статью о Пушкине для «Русской мысли», «громко говорил, что <…> нужна серьезная о нем (Пушкине) статья в печати», но в то же время проявляет заметную уклончивость в ответ на настойчивые предложения Юрьева дать эту статью в его журнал.
Появление пушкинской речи в «Московских ведомостях» Каткова было воспринято многими современниками как исторический парадокс. Друг писателя О. Ф. Миллер писал: «Именно всечеловек всего менее и подходит к „Московским ведомостям” <…> Каков бы ни был этот язык (можно, если угодно, назвать его даже «юродствующим»), но это, конечно, не язык „Московских ведомостей”». Действительно, Катков, как видно из свидетельства К. Н. Леонтьева, не был в восторге от речи Достоевского. «Катков, – писал по этому поводу Леонтьев, – заплатил ему (Достоевскому. – Ред.) за эту речь 600 р., но за глаза смеялся, говоря, „какое же это событие?”» [144]144
Русс. вестн. 1903. № 5. С. 175.
[Закрыть]
Посредницей Каткова, помогавшей ему в осуществлении его плана напечатать речь Достоевского в «Московских ведомостях», была, по-видимому, писательница, близкая к славянофильскому направлению, О. А. Новикова, писавшая Достоевскому 9 июня (без сомнения по поручению Каткова): «Вашей гениальной речи не подобает появиться в Чухонских Афинах (Петербурге. – Ред.); Катков будет счастлив напечатать ее на каких угодно условиях; в этом не сомневаюсь…». [145]145
Литературное наследство. Т. 86. С. 540.
[Закрыть]
9 июня же, днем, беловой автограф речи Достоевский передал секретарю редакции «Московских ведомостей» К. А. Иславину, обещавшему к утру 10 июня, до отъезда писателя из Москвы, изготовить набор. Вечером же в присутствии М. А. Поливановой писатель окончательно отказал Юрьеву в просьбе дать статью для «Русской мысли», заявив: «Вот явится моя речь в газете, ее прочтет гораздо большее число людей, а потом, в августе, выпущу ее в единственном выпуске „Дневника писателя” и пущу номер по двадцати копеек». [146]146
Достоевский в воспоминаниях. Т. II. С. 360; ср. Литературное наследство. Т. 86. С. 509.
[Закрыть]
Выехав утром 10 июня из Москвы в Старую Руссу, Достоевский 12 июня пишет оттуда письмо Иславину с просьбой «сохранить листки рукописи <…> и немедленно по напечатании выслать их мне сюда, в Старую Руссу». Смысл этой просьбы поясняет следующее письмо к Иславину от 20 июня, где Достоевский вновь настойчиво требует: «…выслать мне сюда писанные листки моей статьи <…> ибо они нужны мне для отдельного оттиска „Дневника писателя”, который намеревался издать к 1-му июля». Аналогичную просьбу Достоевский повторяет в тот же день в письме к М. Н. Каткову: «Немедленно по появлении моей статьи в „Моск<овских> в<едомостях>” <…> выслать мне сюда писанные листки моей статьи (рукопись), хотя бы испачканные и разорванные при наборе, ибо они нужны мне для отдельного оттиска „Дневника писателя”, который намеревался издать к 1-му июля». И далее: «…если еще несколько дней не получу просимого, то, по обстоятельствам моим и за работами в „Р<усский> в<естни>к”, издать „Дневник” будет уже поздно, отчего неминуемо потерплю ущерб» (XXX. Кн. 1, 186–187, 194).
13 июня Достоевский писал С. А. Толстой то же самое: «…к 1-му числу июля я издаю „Дневник писателя”, то есть единственный № на 1880-й год, в котором и помещу всю мою речь, уже без выпусков и со строгой корректурой» (там же, 188) (в «Московских ведомостях» речь была напечатана без авторской корректуры).
Здесь же Достоевский писал, что речь его «не простят в разных литературных закоулках и направлениях. Речь моя скоро выйдет (кажется, уже вышла вчера, 12-го, в „Московских ведомостях”), [147]147
Первоначально пушкинская речь (как свидетельствуют пометы Достоевского, сделанные на наборной рукописи) должна была появиться в двух номерах «Московских ведомостей» – первая половина ее (до слов «Татьяна не могла пойти за Онегиным») – в № 162 от 13 июня, а продолжение – в одном их следующих номеров. Но, очевидно, по решению Каткова, она была напечатана 13 июня в одном номере газеты. Передавая наборную рукопись Иславину, Достоевский указал ему те части и отдельные фразы речи, которые были выброшены им во время ее произнесения; некоторые из них были зачеркнуты им самим еще раньше, другие перечеркнуты синим карандашом Иславина. С этими сокращениями (без посылки Достоевскому обещанной корректуры) текст речи и был напечатан в газете. Возвращая Достоевскому рукопись пушкинской речи и посылая ему номер «Московских ведомостей», где она была напечатана, К. Иславин 17 июня писал ему: «Михаил Никифорович, просматривая корректуры вашего очерка, стеснялся изменить некоторые, как Вы выражаетесь, „шероховатости слога и лишние фразы”, вырвавшиеся у Вас наскоро; он теперь даже жалеет, что не исправил их…» По тексту «Московских ведомостей» пушкинская речь сразу же была перепечатана рядом других московских, петербургских и провинциальных периодических изданий (Современные известия. М., 14 июня. № 162; Русская газета. М., 14 июня. № 73; Орловский вестник. 18 июня. № 61; Харьков. 17 июня. № 631; 18 июня. № 632; Семейное чтение. СПб., 22 июня. № 22; 29 июня. № 23 и др.). Текст, опубликованный в «Московских ведомостях», был положен Достоевским в основу при перепечатке пушкинской речи в качестве второй главы «Дневника писателя» 1880 г.
[Закрыть]и уже начнут те ее критиковать – особенно в Петербурге. По газетным телеграммам вижу, что в изложении моей речи пропущено буквально все существенное, то есть главные два пункта. 1) Всемирная отзывчивость Пушкина и способность совершенного перевоплощения его в гении чужих наций – способность небывавшая еще ни у кого из самых великих всемирных поэтов, и во-2-х, то, что способность эта исходит совершенно из нашего народного духа, а стало быть, Пушкин в этом-то и есть наиболее народный поэт. (Как раз накануне моей речи Тургенев даже отнял у Пушкина (в своей публичной речи) значение народного поэта. О такой же великой особенности Пушкина: перевоплощаться в гении чужих наций совершенно никто-то не заметил до сих пор, никто-то не указал на это). Главное же я, в конце речи, дал формулу, слово примирения для всех наших партий и указал исход к новой эре. Вот это-то все и почувствовали, а корреспонденты газет не поняли или не хотели понять».
Если в письмах к Иславину, Каткову и С. А. Толстой говорится о намерении издать «Дневник писателя» к 1 июля, причем содержание его к этому времени по плану писателя, по-видимому, должно было ограничиться перепечаткой пушкинской речи (с кратким предисловием к ней), то к началу июля план этот претерпевает изменения. 6 июля 1880 г: Достоевский в очередном письме в редакцию «Русского вестника», адресованном Н. А. Любимову, сообщает о дальнейшем изменении своего плана: «Задержан немного изданием „Дневника” (единственного номера на 1880 год, выйдет в конце июля), в котором воспроизведу мою речь в Общ<естве> люб<ителей> р<оссийской> словесности, с предисловием довольно длинным и, кажется, с послесловием, в которых хочу ответить несколько слов моим милым критикам» [148]148
Причины, побудившие отложить издание «Дневника» и сопроводить его ответом критикам пушкинской речи, делают ясными воспоминания жены писателя: «Но прошло дней десять (после возвращения Достоевского из Москвы. – Ред.), и настроение Федора Михайловича резко изменилось; виною этого были отзывы газет, которые он ежедневно просматривал в читальне минеральных вод. На Федора Михайловича обрушилась целая лавина газетных и журнальных обвинений, опровержений, клевет и даже ругательств. Те представители литературы, которые с таким восторгом прослушали его Пушкинскую речь и были ею поражены до того, что горячо аплодировали чтецу и шли пожать ему руку, – вдруг как бы опомнились, пришли в себя от постигшего их гипноза и начали бранить речь и унижать ее автора. Когда читаешь тогдашние рецензии на Пушкинскую речь, то приходишь в негодование от той бесцеремонности и наглости, с которою относились к Федору Михайловичу писавшие, забывая, что в своих статьях они унижают человека, обладающего громадным талантом, работающего на избранном поприще тридцать пять лет и заслужившего уважение и любовь многих десятков тысяч русских читателей» (Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 367–368).
[Закрыть](прежде всего, А. Д. Градовскому). В связи с тем что план номера подвергся расширению по сравнению с первоначальным замыслом, издание «Дневника» было отложено с начала июля на август.
Работа над «Дневником писателя» 1880 г., начатая в мае (пушкинская речь), после перерыва, вызванного сначала поездкой в Москву на пушкинские празднества, а затем – по возвращении в Старую Руссу – работой над «Братьями Карамазовыми», была продолжена там же во второй половине июня и первой половине июля (до 17). В конце июня и в начале июля (до 6) Достоевский реализовал мысль, возникшую еще в Москве, во время чтения речи – сопроводить ее предисловием, после чего наборная рукопись первой и второй глав «Дневника» была направлена из Старой Руссы в Петербург. Но к этому времени у Достоевского уже возник план продолжения – ответа критикам пушкинской речи, который составил третью главу. Решающую роль для рождения ее замысла сыграло появление статьи Градовского «Мечта и действительность». Начатая под свежим впечатлением этой статьи в качестве полемической отповеди Градовскому и другим оппонентам, третья глава писалась, по-видимому, без перерыва, с огромным подъемом и увлечением и была закончена 17 июля 1880 г., после чего переписанные А. Г. Достоевской с ее стенограммы начисто последние листы «Дневника» также ушли в типографию.
Для верного истолкования и оценки вступительной, первой главы «Дневника писателя» за 1880 г. важно учитывать, что она (так же как и заключительная, третья главка «Дневника») писалась не одновременно с пушкинской речью, но тогда, когда писатель не мог уже не сознавать, что его речь не только не содействовала примирению противоположных политических группировок и направлений, к которому Достоевский призывал, но способствовала еще более открытому, резкому их размежеванию. Не случайно поэтому многие идеи пушкинской речи подверглись в предпосланном ей в «Дневнике писателя» «Объяснительном слове» полемической переакцентировке.
В речи Достоевский придал широкий символический смысл образу «исторического русского скитальца», угаданному Пушкиным и продолжавшему оставаться, по оценке Достоевского, центральной фигурой русской жизни на протяжении всего XIX в. Более того, писатель отнесся к нему, при всех своих оговорках, с несомненным уважением и сочувствием. В «Объяснительном слове» же возвеличенный в речи, ищущий и мятежный герой русской литературы характеризуется писателем как «отрицательный тип наш <…> в родную почву и в родные силы ее не верующий…», тип, являющийся продуктом «оторванного от почвы» общества, «возвысившегося над народом». Упрекая «высший слой» русского общества в отрыве от почвы, Достоевский отделил от высшего слоя самодержавную государственность и церковь. И самодержавие и православная церковь выступили, в представлении Достоевского не как воплощение идей и духа Петра, а как отрицание последних.
Мысль о том, что самодержавие и православие более «народны», чем идеалы дворянской и демократической интеллигенции, разворачивается Достоевским в полемике с Градовским. Достоевский критикует в заключительной главе «Дневника» либеральные идеалы Градовского, обрушиваясь на всех тех, кто снисходительно, «сверху вниз» смотрит на простой, «черный» народ. Такой барский взгляд был, замечает писатель, свойствен порой и людям, превосходившим Градовского, каковыми были, по оценке Достоевского, русские «люди 40-х годов» из круга Герцена и Огарева. Писатель подчеркивает также, что объяснять историческую необходимость появления типа «русского скитальца» одними задачами борьбы с крепостным правом, с Держимордами и Сквозниками-Дмухановскими недостаточно. Ибо перед Россией и человечеством стоит задача полного, радикального изменения всего существующего строя жизни, уничтожения не только крепостнических, но и более «цивилизованных» форм неравенства и угнетения, чего не видят Градовский и другие либеральные прогрессисты. Для создания грядущей «мировой гармонии» необходим переворот в существующей системе религиозно-нравственных представлений и ценностей. Исконные, вечные идеалы народной России противостоят в глазах Достоевского «западному», холодному и рационалистически построенному общественному «муравейнику», лишенному внутреннего человеческого тепла, объединяющего духовно-нравственного начала.
До нас дошли рукописные материалы, документирующие основные стадии работы Достоевского над первой и третьей главами «Дневника», – первоначальный черновой автограф с набросками к главе третьей, черновой автограф завершенного связного текста первой и третьей глав, переписанные со стенограммы рукою А. Г. Достоевской, их наборные рукописи со вставками и исправлениями рукою писателя и правленная им корректура первой главы.
Печатался августовский выпуск «Дневника писателя» за 1880 г. в Петербурге, в типографии братьев Пантелеевых. Цензурное разрешение – 1 августа 1880 г. Относительно размеров тиража этого выпуска мемуаристы в своих показаниях расходятся. А. Г. Достоевская сообщает: «Для издания этого номера мне пришлось поехать на три дня в столицу. „Дневник” со статьею „Пушкин” и отповедью Градовскому имел колоссальный успех, и шесть тысяч экземпляров были распроданы еще при мне, так что мне пришлось заказать второе издание этого номера уже в большем количестве, и оно тоже все было раскуплено осенью». [149]149
Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 368.
[Закрыть]
Иные (более точные) данные приводит Страхов: «Один номер („Дневника”.– Ред.), выпущенный в 1880 году (август) и содержащий в себе речь о Пушкине, был напечатан в 4000 экземплярах и разошелся в несколько дней. Было сделано новое издание в 2000 экз<емпляров> и разошлось без остатка». [150]150
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Биография. СПб., 1883. С. 300.
[Закрыть]Эти данные Страхов подтверждает размерами выручки за проданные экземпляры «Дневника» 1880 г. Второе издание было сделано с того же набора, что и первое, с исправлением опечаток (ценз. разрешение – 5 сентября). Позднее Достоевский к тексту «Дневника» и пушкинской речи не возвращался.
Наиболее показательны для отношения к пушкинской речи различных общественных группировок начала 80-х годов были ответные выступления на нее либеральных профессоров А. Д. Градовского и К. Д. Кавелина, отзывы Глеба Успенского и Н. К. Михайловского в демократических «Отечественных записках» и, наконец, критика пушкинской речи К. Н. Леонтьевым, отразившая позицию консервативных кругов.
Градовский и Кавелин утверждали в своих статьях о пушкинской речи, что общественность и нравственность неотделимы друг от друга: бунт «русского скитальца» был направлен, прежде всего, против самодержавия, против господства Держиморд. Оба они остались при этом глухи к мощному стихийно-демократическому пафосу речи Достоевского, выразившемуся в высокой оценке народных идеалов и традиций, значения их для мыслящей интеллигенции, к утверждению писателем общественного и нравственного максимализма как непреходящей, идеальной нормы, освещающей человечеству путь к будущему единению и братству народов. Провозглашенным Достоевским «всеотзывчивости» и «всемирности» русской культуры, его вере в будущее единение народов Градовский и Кавелин противопоставили программу развития России по пути мирных постепенных преобразований и «малых дел».
В отличие от Градовского и Кавелина публицисты «Отечественных записок» Успенский и Н. К. Михайловский указали на противоречие между высокой оценкой Достоевским образа «русского скитальца» с его беспокойным исканием общего, «всемирного» счастья всех людей и призывом Достоевского к смирению, к отказу от политической борьбы. К. Н. Леонтьев объявил греховной уже самую веру Достоевского в возможность достижения на земле будущей «мировой гармонии». Ибо по учению церкви подлинное блаженство для людей возможно лишь в потустороннем мире, на небе, а не на земле. Эти основные направления, определившиеся в ходе дискуссии о пушкинской речи, позволяют современному читателю осмыслить общую – пеструю и неоднородную картину ее общественного восприятия современниками, обсуждения тогдашними читателями и критикой.
Первые печатные отклики на речь о Пушкине были выдержаны в восторженных тонах.
Я. Полонский посвятил пушкинской речи стихотворение:
Смятенный, я тебе внимал,
И плакал мой восторг, и весь я трепетал,
Когда ты праздник наш венчал
Своею речью величавой,
И нам сиял народной славой
Тобою вызванный из мрака идеал,
Когда ты ключ любви Христовой превращал
В ключ вдохновляющей свободы… [151]151
Из архива Достоевского. Письма русских писателей. М.; Пг., 1923. С. 81.
[Закрыть]
С отрицательными отзывами выступили из газет в первые дни лишь «Молва» и «Страна». Однако мысль о том, что успех речи связан с ее эмоциональным воздействием, содержание же ее вызывает возражения, становится постепенно все более распространенной.
Наибольшее внимание Достоевского привлекла к себе статья либерального профессора и публициста А. Д. Градовского, опубликованная в «Голосе» (1880. 25 июня. № 174), ответом на которую явилась третья глава «Дневника» за 1880 г. Градовский писал: «Нам представляется, прежде всего, недосказанным, что „скитальцы” отрешились от самого существа русского народа, что они перестали быть русскими людьми <…> Тем менее вправе мы определить их как „гордых” людей и видеть источник их отчуждения в этом сатанинском грехе <…> Не решен вопрос, чем гордились „скитальцы”; остается без ответа и другой – пред чем следует „смириться”…».
«Личная и общественная нравственность не одно и то же, – заявлял далее Градовский. – Улучшение людей в смысле общественном не может быть произведено только „работой над собой” и „смирением себя”. Работать над собой можно и в пустыне, и на необитаемом острове. Но как существа общественные, люди развиваются и улучшаются в работе друг подле друга, друг для друга и друг с другом. Вот почему в весьма великой степени общественное совершенство людей зависит от совершенства общественных учреждений, воспитывающих в человеке если не христианские, то гражданские доблести <…> Правильнее было бы сказать и современным „скитальцам” и „народу”: смиритесь пред требованиями той общечеловеческой гражданственности, к которой мы, слава богу, приблизились благодаря реформам Петра. Впитайте в себя все, что произвели лучшего народы – учители ваши. Тогда, переработав в себе всю эту умственную и нравственную пищу, вы сумеете проявить и всю силу вашего национального гения <…> А тут не сделавшись как следует народностью, мечтать о всечеловеческой роли! Не рано ли?..» [152]152
Голос. 1880. 25 июня. № 174. Защищая Достоевского, молодой И. П. Павлов – будущий великий ученый-физиолог – писал в сентябре1880 г. невесте С. В. Карчевской: «Что мне все Градовские (А. Д.) и им подобные с их интеллигентным кланом. Народа они сами не видали, с ним не жили душой, видят его только внешность <…> Они говорят, как слепые о цветах, носясь со своими кабинетными теориями. Не то Достоевский. Человек с душой, которой дано вмещать души других <…> не барин и не теоретик, а действительно на равной ноге в тюрьме, как преступник, стоял с народом. Его слово, его ощущения – факт» (Павлов И. П. Письма к невесте. // Москва. 1959. № 10. С. 155).
[Закрыть]
С отповедью Градовскому выступила поддержавшая Достоевского газета А. С. Суворина «Новое время»: «Почтенный профессор, – писала она в статье „Профессор Градовский и Достоевский”,– решил идти путем „придирок”. <…> Познать самого себя значит познать очень многое, познать человека и его лучшие стремления. Но г-ну Градовскому нужно это для повторения либеральных истин, которых Достоевский не касался, ибо они выходят сами собой из его речи, а г-н Градовский не может не повторять их, ибо у него за душой ничего нет». На следующий день газета вновь выступила со статьей, направленной не только против статьи Градовского, но и против статей Гл. И. Успенского. [153]153
Нов. время. 1880. 25–26 июня. № 1553–1554.
[Закрыть]