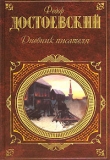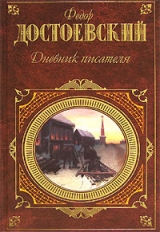
Текст книги "Том 14. Дневник писателя 1877, 1980, 1981"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 55 страниц)
О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было, – боже, какой смех они подняли мне в глаза и какое я им доставил веселье! О да, конечно, я был побежден лишь одним ощущением того сна, и оно только одно уцелело в до крови раненном сердце моем: но зато действительные образы и формы сна моего, то есть те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить их в слабые слова наши, так что они должны были как бы стушеваться в уме моем, а стало быть, и действительно, может быть, я сам, бессознательно, принужден был сочинить потом подробности и, уж конечо, исказив их, особенно при таком страстном желании моем поскорее и хоть сколько-нибудь их передать. Но зато как же мне не верить, что всё это было? Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю? Пусть это сон, но всё это не могло не быть. Знаете ли, я скажу вам секрет: всё это, быть может, было вовсе не сон! Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как бы мог я ее один выдумать или пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды! О, судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я… развратил их всех!
V
Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! Как это могло совершиться – не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собою всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. * Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось невинно,с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность – жестокость… О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель. Родилось понятие о чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя. Они стали мучить животных, и животные удалились от них в леса и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтоб сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить его себе в формах и образах, но, странное и чудесное дело: утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав его сказкой, они до того захотели быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали перед желанием сердца своего, как дети, обоготворили это желание, настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему же «желанию», в то же время вполне веруя в неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И однако, если б только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто вдруг им показал его вновь и спросил их: хотят ли они возвратиться к нему? – то они наверно бы отказались. Они отвечали мне: «Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы знаемэто и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милосердый Судья, который будет судить нас и имени которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, * но примем ее уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни – выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья – выше счастья». Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умалить ее в других, и в том жизнь свою полагал. Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтобы те помогали им давить еще слабейших, чем они сами. Явились праведники, которые приходили к этим людям со слезами и говорили им об их гордости, о потере меры и гармонии, об утрате ими стыда. Над ними смеялись или побивали их каменьями. * Святая кровь лилась на порогах храмов. Зато стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела, «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего иль ничего. Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а если оно не удавалось – к самоубийству. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве. Наконец эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что страдание есть красота, ибо в страдании лишь мысль. Они воспели страдание в песнях своих. Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними, но любил их, может быть, еще больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней явилось горе. Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а об них я плакал, жалея их. Я простирал к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что всё это сделал я, я один, что это я им принес разврат, заразу и ложь! Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест. Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, я жаждал мук, жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя кровь до капли. Но они лишь смеялись надо мной и стали меня считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня, они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что всё то, что есть теперь, не могло не быть. Наконец, они объявили мне, что я становлюсь им опасен и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такою силой, что сердце мое стеснилось, и я почувствовал, что умру, и тут… ну, вот тут я и проснулся.
Было уже утро, то есть еще не рассвело, но было около шестого часу. Я очнулся в тех же креслах, свечка моя догорела вся, у капитана спали, и кругом была редкая в нашей квартире тишина. Первым делом я вскочил в чрезвычайном удивлении; никогда со мной не случалось ничего подобного, даже до пустяков и мелочей: никогда еще не засыпал я, например, так в моих креслах. Тут вдруг, пока я стоял и приходил в себя, – вдруг мелькнул передо мной мой револьвер, готовый, заряженный, – но я в один миг оттолкнул его от себя! О, теперь жизни и жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал всё существо мое. Да, жизнь, и – проповедь! О проповеди я порешил в ту же минуту и, уж конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, – что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!
И вот с тех пор я и проповедую! Кроме того – люблю всех, которые надо мной смеются, больше всех остальных. Почему это так – не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. Они говорят, что я уж и теперь сбиваюсь, то есть коль уж и теперь сбился так, что ж дальше-то будет? Правда истинная: я сбиваюсь, и, может быть, дальше пойдет еще хуже. И, уж конечно, собьюсь несколько раз, пока отыщу как проповедовать, то есть какими словами и какими делами, потому что это очень трудно исполнить. Я ведь и теперь всё это как день вижу, но послушайте: кто же не сбивается! А между тем ведь все идут к одному и тому же, по крайней мере все стремятся к одному и тому же от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами. Старая это истина, но вот что тут новое: я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не веровать: я видел истину, – не то что изобрел умом, а видел, видел, и живой образее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей. Итак, как же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, даже несколько раз и буду говорить даже, может быть, чужими словами, но ненадолго: живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лет. Знаете, я хотел даже скрыть вначале, что я развратил их всех, но это была ошибка, – вот уже первая ошибка! Но истина шепнула мне, что я лгу,и охранила меня и направила. Но как устроить рай – я не знаю, потому что не умею передать словами. После сна моего потерял слова. По крайней мере, все главные слова, самые нужные. Но пусть: я пойду и всё буду говорить, неустанно, потому что я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого насмешники и не понимают: «Сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию». Эх! Неужто это премудро? А они так гордятся! Сон? что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Больше скажу: пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уже это-то я понимаю!), – ну, а я все-таки буду проповедовать. А между тем так это просто: в один бы день, в один бы час– всё бы сразу устроилось! Главное – люби других как себя, вот что главное, * и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться. А между тем ведь это только – старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же! «Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья – выше счастья» – вот с чем бороться надо! И буду. Если только все захотят, то сейчас всё устроится.
А ту маленькую девочку я отыскал… И пойду! И пойду!
22 апреля сего года в здешнем окружном суде вторично решалось дело подсудимой Корниловой с новым составом суда и присяжных заседателей. Прежний приговор суда, состоявшийся еще в прошлом году, был кассирован сенатом за недостаточно произведенной медицинской экспертизой. Может быть, большинство моих читателей очень помнит об этом деле. Молодая мачеха (тогда еще несовершеннолетняя), в беременном состоянии, в злобе на мужа, попрекавшего ее прежней женой, и после жестокой с ним ссоры, выбросила свою шестилетнюю падчерицу, дочь своего мужа от прежней жены, из окошка, из четвертого этажа (5 1/2 саж. высоты), причем случилось почти чудо: ребенок не разбился, не сломал и не повредил себе ничего и скоро очнулся; теперь же жив и здоров. Это зверское действие молодой женщины сопровождалось такой бессмыслицей и загадочностью всех ее остальных поступков, что само собою являлось соображение: в здравом ли уме она действовала? И не была ли она, например, хоть под аффектом своего беременного состояния? Проснувшись утром, когда уже муж ушел на работу, она дала выспаться ребенку; потом одела ее, обула и напоила кофеем. Затем отворила окно и выбросила ее за окно. Не взглянув даже из окна вниз, чтоб посмотреть, что сталось с ребенком, она затворила окно, оделась и отправилась в участок. Там объявила о происшедшем, отвечала на вопросы грубо и странно. Когда ей уже несколько часов спустя возвестили, что ребенок остался жив, она, не обнаружив ни радости, ни досады, совершенно равнодушно и хладнокровно заметила, как бы в задумчивости: «Какая живучая». Затем в продолжение почти полутора месяца, в двух тюрьмах, в которых ей пришлось находиться, она продолжала быть угрюмой, грубой, неразговорчивой. И вдруг всё разом прошло: все остальные четыре месяца до разрешения от бремени и всё остальное время, на первом суде и после суда, начальница женского отделения тюрьмы не могла ею нахвалиться: явился характер ровный, тихий, ласковый, ясный. Впрочем, я всё это уже описывал прежде. Одним словом, прежний приговор был кассирован, а затем состоялся новый, 22 апреля, которым Корнилова была оправдана.
Я был в зале суда и вынес много впечатлений. Жаль только, что нахожусь в полной невозможности передать их и буквально принужден ограничиться лишь самыми немногими словами. Да и сообщаю о деле единственно потому, что прежде много писал о нем, а стало быть, считаю не лишним сообщить читателям и об исходе его. Суд продолжался вдвое долее прежнего раза. Состав присяжных заседателей был особенно замечателен. Призвана была новая свидетельница – начальница женского отделения тюрьмы. Показание ее о характере Корниловой было очень веско и в ее пользу. * Замечательно очень было показание мужа подсудимой: с чрезвычайною честностью он не скрыл ничего, ни ссор, ни обид с его стороны, оправдывал жену, говорил сердечно, прямо, откровенно. Он всего только крестьянин, правда, носящий немецкое платье, читающий книги и получающий тридцать рублей ежемесячного жалования. Затем замечателен был подбор экспертов. Приглашено было шесть человек – все известности и знаменитости в медицине * ; из них давали показания пятеро: трое заявили не колеблясь, что болезненное состояние, свойственное беременной женщине, весьма моглоповлиять на совершение преступления * и в данном случае. Один лишь доктор Флоринский с этим мнением был не согласен, * но, к счастью, он не психиатр, и мнение его прошло без всякого значения. Последним показывал известный наш психиатр Дюков. Он говорил почти около часу, * отвечая на вопросы прокурора и председателя суда. Трудно представить себе более тонкое понимание души человеческой и болезненных ее состояний. Поражало тоже богатство и разнообразие многолетних и чрезвычайно любопытных наблюдений. Что до меня, то я выслушал некоторые из показаний эксперта решительно с восхищением. Мнение эксперта было вполне в пользу подсудимой: он утвердительнои доказательнозаключил о несомненном, по его мнению, болезненном состоянии души подсудимой, во время совершения ею страшного преступления.
Кончилось тем, что сам прокурор, несмотря на свою грозную речь, отказался от обвинения в преднамеренности * , то есть от самой главной злобы обвинения. Защитник подсудимой, присяжный поверенный Люстиг * , тоже чрезвычайно ловко отбил несколько обвинений, а одно, важнейшее, – долгую будто бы ненависть мачехи к падчерице, – привел к полному нулю, осязательно обнаружив в нем лишь коридорную сплетню. Затем, после длинной речи председателя, присяжные удалились и менее чем через четверть часа вынесли оправдательный приговор * , произведший почти восторг в многочисленной публике. Многие крестились, другие поздравляли друг друга, жали друг другу руки. Муж оправданной увел ее в тот же вечер, уже в одиннадцатом часу, к себе домой, и она, счастливая, вошла опять в свой дом, почти после годового отсутствия, с впечатлением огромного вынесенного ею урока на всю жизнь и явного Божьего перста во всем этом деле, – хотя бы только начиная с чудесного спасения ребенка.
Прибегаю к чрезвычайному снисхождению моих читателей. В прошлом году, из-за моей поездки летом в Эмс для лечения болезни * , я принужден был выдать №№ «Дневника» за июль и август месяцы вместе, в одном выпуске, 31-го августа, конечно, в удвоенном числе листов. В нынешнем же году, по усилившейся еще более моей болезни * , я принужден выдать и майский № с июньским вместе, в одном выпуске, в конце июня или в самых первых числах июля. * Затем июльский и августовский №№ * , как и в прошлом году, выйдут тоже в августе. С сентября же месяца №№ «Дневника» начнут опять выдаваться аккуратно * в последнее число каждого месяца.
Уезжая из Петербурга * по приговору докторов, я заявляю, что хотя в Петербурге помещение редакции и будет закрыто до самого сентября, тем не менее все иногородные подписчики и читатели, равно как и все петербургские,в случае надобности, могут обращаться письменнов редакцию совершенно как и прежде. Письма эти будут немедленно доставлены заведующим редакцией, и всякая жалоба, всякое недоумение и проч. будут по-прежнему в скорейшем времени удовлетворены. Равно все письма на мое имя будут немедленно мне доставлены. На этот счет сделаны редакцией самые точные распоряжения. Подписка по-прежнему может продолжаться: подписавшиеся будут немедленно удовлетворены.
Не знаю извинят ли меня мои читатели и подписчики «Дневника писателя»? При таком непредвиденном обстоятельстве, как усложнение болезни, трудно было угадать всё это вперед. Огромное большинство читателей моих относилось доселе ко мне весьма доброжелательно, в чем я уверен по твердым фактам. Осмеливаюсь ждать этой доброты и теперь.
Май-Июнь
Глaвa перваяМне сообщили один престранный документ. Это одно древнее, правда, туманное и аллегорическое, предсказание о нынешних событиях и о нынешней войне. Один из наших молодых ученых нашел в Лондоне, в королевской библиотеке * , один старый фолиант, «книгу предсказаний», «Prognosticationes» Иоанна Лихтенбергера, издание 1528 года, на латинском языке. Экземпляр редкий и даже, может быть, единственный в свете. * В туманных картинах изображается в этой книге будущность Европы и человечества. * Книга мистическая. Помещаю лишь те строки, которые мне сообщили, * и лишькак факт,не лишенный некоторого любопытства. *
После предсказаний о французской революции (1789 г.) и о Наполеоне первом, который именуется в книге великим орлом (aquila grandis), говорится далее о грядущих европейских событиях так:
«Post haec veniet altera aquila quae ignem fpvebit in gremio После сего придет другой орел, который огонь возбудит в лоне sponsae Christi et erunt tres adulteri unusque legitimus невесты Христовой, и будут трое побочных и один законный, qui alios vorabit, который других пожрет.
Exsurget aquila grandis in Oriente, aquicolae occidentales Восстанет орел великий на Востоке, островитяне западные moerebunt. Tria regna comportabit. Ipsa est aquila grandis, quae восплачут. Три царства захватит. Сей есть орел великий, который dormiet annis multis, refutata resurget et contremiscere faciet спит годы многие, пораженный восстанет и трепетать заставит aquicolas occidentales in terra Virginis et alios montes Super-водяных жителей западных в земле девы и другие вершины пре-bissimos; et volabit ad meridiem recuperando amissa. Et amore гордые; и полетит к югу. чтоб возвратить потерянное. И любовью charitatis inflammabit Deus aquilam orientalem volarjdo ad ardua милосердия воспламенит Бог орла восточного, да летит на трудное, alis duabus fulgens in montibus christianitatis. крылами двумя сверкая на вершинах христианства».
Конечно, темновато, но согласитесь, однако, что «великий орел восточный, который спит годы многие и пораженный(NB не война ли наша с Европой 22 года назад? * ) восстанет и трепетать заставит водяных жителей западных», – согласитесь, что это как будто похоже на теперешнее, конечно, если только не брать в соображение наших европействующих мудрецов, как бы всё еще трепещущих перед «водяными жителями», обратно пророчеству, тогда как уже орел полетел, «сверкая двумя крылами». Но трепещут лишь мудрецы, а не орел. Далее: «водяные жители западные в земле девы», если приложить пророчество Иоанна Лихтенбергера к современным событиям, очевидно, означают собою Англию. Но в таком случае почему же «земля девы»? В 1528 году еще не было королевы Елизаветы. * Не означает ли аллегория Лихтенбергера землю (острова Великобритании), не подвергавшуюся ни разу нашествию, в том смысле, в каком выразился когда-то Наполеон о европейских столицах, подвергавшихся его нашествию: «Столица, подвергшаяся нашествию, похожа на девицу, потерявшую свою девственность». * Но орел, по пророчеству, трепетать заставит и другие «вершины прегордые», полетит к югу, чтоб возвратить потерянное, и – что всего замечательнее – «любовью милосердия воспламенит Бог орла восточного, да летит на трудное, крылами двумя сверкая на вершинах христианства». Согласитесь, что уж это-то нечто даже очень подходящее. Разве не милосердием воспламенясь к угнетенным и измученным, взлетел наш орел? Разве не милосердие Христово двинуло весь народ наш «на дело трудное» и в прошлом и в нынешнем году? Кто станет это отрицать? Этот народ, эти солдаты, взятые из народа, не знающего хорошенько молитв, подымали, однако же, в Крыму, под Севастополем, раненых французов и уносили и на перевязку прежде,чем своих русских: «Те пусть полежат и подождут; русского-то всякий подымет, а французик-то чужой, его наперед пожалеть надо». * Разве тут не Христос, и разве не Христов дух в этих простодушных и великодушных, шутливо сказанных словах? Итак, разве не дух Христов в народе нашем – темном, но добром, невежественном, но не варварском. Да, Христос его сила, наша русская теперь сила, когда орел полетел «на дело трудное». И что значит один какой-нибудь анекдот о севастопольских солдатиках сравнительно с тысячами проявлений духа Христова и «огня милосердия» в народе нашем, наяву и воочию, в наше время, хотя и до сих пор изо всех сил стараются мудрецы задавить мысль и похоронить факт участия народа нашего, духом и сердцем его, в теперешних судьбах России и Востока? И не указывайте на «зверство и тупость» народа, на невежественность его и неразвитость, при которых он будто бы не в силах понять того, что теперь происходит. Сущность дела он понимает превосходно, будьте уверены, он четыре уже столетия как ее понимает. * Вот теперешних дипломатов не понял бы вовсе, если б об них знал; но ведь кто ж их поймет? Да, великий народ наш был взращен как зверь, претерпел мучения еще с самого начала своего, за всю свою тысячу лет, такие, каких ни один народ в мире не вытерпел бы, разложился бы и уничтожился, а наш только окреп и сплотился в этих мучениях. Не корите же его за «зверство и невежество», господа мудрецы, потому что вы, именно вы-то для него ничего и не сделали. Напротив, вы ушли от него, двести лет назад, покинули его и разъединили с собой, обратили его в податную единицу и в оброчную для себя статью, и рос он, господа просвещенные европейцы, вами же забытый и забитый, вами же загнанный как зверь в берлогу свою, но с ним был его Христос, и с ним одним дожил он до великого дня, когда двадцать лет тому назад * северный орел, воспламененный огнем милосердия, взмахнул и расправил свои крылья и осенил его этими крылами… Да, зверства в народе много, но не указывайте на него. Это зверство – тина веков, она вычистится. И не то беда, что есть еще зверство; беда в том, если зверство вознесено будет как добродетель. Я видал и разбойников, страшно много наделавших зверства и павших развращенною и ослабевшею волею своею ниже всего низкого; но эти развращенные и столь упавшие звери – знали, по крайней мере про себя, что они звери, и чувствовали, сколь упали они, и в минуты чистые и светлые, которые и зверям посылает Бог, – сами умели осудить себя, * хотя часто не в силах уже были подняться. Другое дело, когда зверство воздвигается над всеми, как идол, и люди ему поклоняются, считая себя именно за это-то добродетельными. Лорд Биконсфильд, а за ним и все Биконсфильды, и наши и европейские, зажали уши себе и закрыли глаза на зверства и муки, которым подвергают целые племена людей, и изменили Христу – ради «интересов цивилизации» и ради того, что измученные племена называются славянами, то есть несут в себе нечто новое, а стало быть, их тем более надо задавить совсем до корня, и тоже ради интересов старой загнившей цивилизации. Вот это так зверство – образованное и вознесенное как добродетель, и кланяются ему как идолу, и на Западе, и у нас еще в России. А «блаженнейший папа, непогрешимый наместник Божий» * , отходя к Богу, в последние дни свои на земле, – разве не пожелал он победы туркам и мучителям христианства над русскими, ополчившимися во имя Христа за христианство, – за то только, что, по его непогрешимомуопределению, турки всё же лучше русских еретиков, не признающих папу? * Разве это не зверство, не варварство? Да, пророчество Иоанна Лихтенбергера сильно подходит к настоящей минуте. И не разуметь ли нам уж и папу в числе других-то «вершин прегордых», которых заставит трепетать взмахнувший крылами орел? Кстати, чтоб покончить с пророчеством: что же разумел Иоанн Лихтенбергер, говоря о том, что «придет орел, который огонь возбудит в лоне невесты Христовой, и будут три побочных и один законный, который других пожрет»? На религиозном и мистическом языке под выражением «невеста Христова» всегда разумелась вообще церковь. Кто же трое побочных и один законный? Казалось, должно бы тут разуметь, то есть если уж его принимать за предсказателя, три исповедания: католицизм, протестантство и… какое же третье-то из незаконных? И какое же законное-то? *
Но оставим Иоанна Лихтенбергера. Серьезно говорить обо всем этом трудно; всё это лишь мистическая аллегория, хотя бы и похожая несколько на правду.
И мало ли бывает совпадений? Правда, всё это написано и напечатано в 1528 году, и это очень любопытно. В то время, должно быть, часто являлись подобные сочинения, и хотя время это еще только предшествовало войнам великой протестантской реформации * , но уже протестантов, реформаторов и пророков было много. Известно тоже, что потом, особенно в протестантских армиях, всегда появлялись исступленные «пророки» из самих сражавшихся * , предсказатели и конвульсионеры. Если я сообщил эту латинскую выписку из старой книги (несомненно существующей, – повторяю это), то единственно как занимательный факт. Не как чудо, да и не одни лишь чудеса чудесны. Всего чудеснее бывает весьма часто то, что происходит в действительности. Мы видим действительность всегда почти так, как хотимее видеть, как сами, предвзято,желаем растолковать ее себе. Если же подчас вдруг разберем и в видимом увидим не то, что хотели видеть, а то, что есть в самом деле,то прямо принимаем то, что увидели, за чудо, и это весьма не редко, а подчас, клянусь, поверим скорее чуду и невозможности, чем действительности, чем истине, которую не желаем видеть.И так всегда бывает на свете, в том вся история человечества.