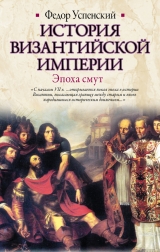
Текст книги "История Византийской Империи. Том 3"
Автор книги: Федор Успенский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
В половине 905 г. начались переговоры с сирийскими арабами об обмене пленными. После того когда установлены были обычные правила, началась фактическая передача; но снова произошли недоразумения, вследствие которых греки и арабы разошлись в разные стороны, не окончив обмена. Уже спустя три года, летом 908 г., снова греческие и арабские пленники были приведены к реке Ламус, здесь выкуплено было 3000 мусульман, по всей вероятности, тогда же получила свободу уцелевшая часть солунских пленников.
Известия о служебной карьере асикрита, впоследствии патрикия и логофета дрома, Имерия в высшей степени скудны, между тем с этим именем соединяется громадного значения факт – поднятие морского могущества Византии до такого положения, на котором оно стояло в течение X в. и которое впоследствии дало империи преобладание над арабами на море. В первый раз имя Имерия мы встречаем во время движения Льва Триполита по Эгейскому морю. Хотя ему было поручено действовать против неприятельского флота, но на этот раз, по неизвестным причинам, византийский вождь оказался ниже своей задачи и, как мы видели, допустил Мусульманский флот совершить разграблением Солуни неожиданное и небывалое еще в истории империи дело. Правда, он сохранил бывшие под его начальством корабли, и, конечно, из опасения встречи с ним мусульманский флот принимал крайние меры предосторожности на обратном пути из Солуни осенью 904 г. Как можно видеть из последующего, Имерию не было вменено в вину случившееся; напротив, не больше, как через два года он снова в звании логофета дрома поставлен был во главе флота, имевшего целью войну с арабами. Притом на этот раз предполагалось совместное действие флота и сухопутного войска против сирийских арабов и критских (22). Хотя план соединенных действий не удался, так как греческий стратиг Андроник отказался явиться на условленное место, тем не менее Имерию удалось одержать над мусульманским флотом блестящую победу, помеченную днем памяти апостола Фомы [76] [76]' Ήμέριος μόνος τη του αγίου αποστόλου Θωμά μνήμη συμβολών πόλεμον, μετά των Αγαρηνών μιγάλην νίκην Είργάσατο (Фheoch. Соntin. Lib. VI. Р. 372).
[Закрыть](6 окт. 906 г.). С этих пор в отношениях империи к мусульманам начинается большой поворот, который можно обозначить так: империя начинает наступательное движение против восточных арабов. Настроение современника по отношению к этому столь крупному в то время вопросу рисуется в письме Арефы, митрополита Кесарии, к дамасскому эмиру (23).
«Что вы хвалитесь, будто, пользуясь особенным Божиим расположением, воюете и завладеваете светом, то что скажете, если напомним… как Андроник истребил вас 18 тысяч на одном месте. Где была ваша вера, когда Имерий уничтожил и истребил целое ваше войско? Впрочем, уповаем, что время ваше исполнилось и вы окончательно погибнете».
До погибели было еще далеко. Но действительно, империя собиралась с силами, чтобы разорить самое опасное гнездо морских разбойников, утвердившихся на Крите, и подорвать таким образом силу сирийских арабов, которым всегда подавали руку помощи из Крита. С этой целью, с одной стороны, завязаны были непосредственные сношения с калифом ал-Муктафи, которые сопровождались благоприятным разрешением некоторых пограничных недоразумений и привели к окончанию споров по обмену пленными (24). Эта важная миссия возложена была на высокого государственного деятеля при Льве Мудром, магистра и патрикия Льва Хиросфакта, который два года оставался на Востоке и удачно выполнил возложенное на него поручение. В то же самое время правительство занималось организацией морских и сухопутных сил и подготовляло большую экспедицию против мусульман. Во главе этого громадного, как сейчас увидим, предприятия поставлен был Имерий. Ему был поручен не только царский флот, но, по-видимому, все морские силы, какими только располагали организованные для этой цели приморские фемы. Морской поход Имерия, имевший целью критских и сирийских арабов, заслуживает внимания не по результатам, которые вообще были весьма плачевны, а по той исторической обстановке, при которой он состоялся, в особенности же потому, что это был один из весьма немногих военных актов империи, который может быть тщательно изучен по его материальным средствам и по тем внутренним, невидным для внешнего наблюдателя пружинам, которые заставили устремиться к одной цели на морских судах десятки тысяч военных людей с военными запасами и продовольствием, оцениваемыми в миллионы рублей. Как был предусмотрен сбор войска, как собирались рекруты, откуда и какое содержание шло на офицеров и простых матросов, какие были суда и сколько экипажа могли они вмещать – все подобные данные сохранились до настоящего времени в официальных отчетах и документах, вошедших в труд Константина Порфирородного, сына царя Льва (25). Но прежде сообщим некоторые данные о ходе дела. За недостатком точных хронологических указаний поход Имерия весьма трудно приурочить к определенному времени, почему разные исследователи помещали его на протяжении от 902 по 910 г. Принимая в соображение, что отмеченный период истории Византии представляет особенный интерес по отношению к Руси, так как тогда начались договорные отношения между Византией и нашими предками, мы не можем не остановиться на более или менее близких к действительности догадках. Благодаря новому свету, проливающемуся на изучаемый период из арабских источников, и сопоставлениям, сделанным в недавнее время в русской литературе (26), получилась возможность относить поход Имерия к 910 г., а поражение его арабами у Самоса к 911 г. Вместе с этим получается иной взгляд на многие события того же времени, остававшиеся прежде в тени. Царь Лев долго готовился к войне с арабами и внимательно всматривался в современные отношения, чтобы найти себе союзника даже между самими мусульманами. Так, послы императора в 907 г. были в Африке и вели переговоры с Зиядат-Аллахом, который, находясь во вражде с сицилийскими арабами, мог быть полезным союзником Византии за ее обещание помочь ему в западной части Средиземного моря. Но еще важней была забота разъединить на время критских и сирийских арабов. С этой целью на Крит было отправлено особое посольство, но эта сторона дипломатических сношений не принесла ожидаемых результатов: критские арабы в решительную минуту стали действовать вместе с сирийскими. Удачней были переговоры с киприотами, последние были на стороне Византии и приняли на себя задачу держать надежных соглядатаев в городах сирийского побережья и извещать империю о планах и намерениях сирийских арабов.
Кипр был на стороне греков, и поэтому с началом экспедиции летом 910 г. Имерий прежде всего сделал высадку на этот остров. Хотя мусульмане оказали сопротивление, но местное население было к нему расположено и сообщало ему важные известия, приходившие сюда из Египта и Сирии. Для Имерия пребывание на Кипре было весьма выгодно в том отношении, что позволяло следить за различными областями калифата и давало возможность предупредить соединение флотов, могущих прибывать из Египта, Тарса и Африки. Первый удар был нанесен сирийскому побережью, где была взята крепость Ал-Куббе и важный город Лаодикея. Но это движение к сирийскому побережью имело для Имерия роковое значение. В это время Кипр снова перешел во власть арабов, причем ренегат Дамиан, начальник арабов, жестоко мстил убийствами и пожарами кипрским христианам, поддерживавшим Имерия. Действия мусульманского флота на Кипре помешали Имерию, и он в 911 г. начал отступление к островам Архипелага, куда преследовал его мусульманский флот под предводительством Льва Триполита и упомянутого Дамиана, и у острова Самоса нанес ему страшное поражение. Византийский адмирал едва спасся от плена, большая часть кораблей была потеряна, и все обширное и обдуманное предприятие, которым занят был царь Лев в последние годы жизни, пошло прахом. Военная карьера Имерия была закончена, так как преемник Льва, брат его Александр, заключил его в монастырь, где он и умер (27). Воспоминание по постигшей Имерия потере флота при Самосе долго оставалось в памяти греков. Хотя для правительства вопрос о критских арабах не переставал иметь жизненное значение и оно сознавало настоятельную необходимость покончить с этим вопросом, но урок, полученный в 911 г., долго сдерживал военных людей. Лучшим свидетельством этого служат слова историка (28) по поводу новых предположений организовать экспедицию против критских арабов при царе Романе II.
«Когда царь Роман, движимый ревностью по Боге и руководясь советами паракимомена Иосифа, собрав повсюду военные корабли с жидким огнем и отборным войском фракисийской фемы, из Македонии и славянских колен, предполагал отправить их в Крит, члены сената, ему преданные, выражали неудовольствие по поводу этого предприятия, напоминая царю о бывших при его предшественниках издержках и планах и неудачах, сопряженных с громадными расходами. В особенности памятно было, как при блаженной памяти царе Льве и Константине подобное же предприятие стоило громадных потерь деньгами и людьми. Выражалось опасение и морских бурь, и соединения сарацинских флотов Испании и Африки и народного поверья, что, кто отнимет у арабов Крит, тот будет царствовать над ромэями».
Известное под именем Константина Порфирородного сочинение «Об обрядах византийского двора» не может быть рассматриваемо в качестве произведения, действительно ему принадлежащего. Это есть сборник разного рода актов, хранившихся в царской канцелярии и в многочисленных приказах; между прочим, в этом сборнике находим следы придворного журнала, в котором записывались события, касающиеся царей и их интимной жизни, приемов иностранцев и торжественных выходов. При Константине благодаря проявленной им инициативе к собиранию древних архивных материалов часть их, к большому счастию для исторической науки, была прочитана и переписана и таким образом могла сохраниться для потомства. Между прочим, во 2-й книге сборника, в главах 44 и 45, находим материалы, имеющие специальное отношение к военному делу, именно к двум критским походам Имерия и Никифора Фоки, из коих последний (в 961 г.) наконец подчинил Византии этот остров. Чрезвычайная важность сохранившегося здесь разнообразного материала позволяет проникнуть в самое существо дела и войти в малейшие подробности военного искусства, насколько оно зависит от материальных причин. Попытаемся сообщить несколько выводов на основании цифровых данных, какими, впрочем, характеризуется всякий деловой и финансовый отчет.
Экспедиция Имерия не должна была воспользоваться всеми морскими силами империи, но, без сомнения, в походе участвовала значительная часть приморских фем. Подсчет военных людей, посаженных на суда, дает свыше 50 тысяч, считая здесь гребцов и военных людей, в числе коих были кавалеристы, и, между прочим, 700 человек русских, которые здесь упоминаются в первый раз на службе империи. Все это громадное число военных людей размещено было на морских судах, принадлежащих по своему составу 1) к царскому флоту и 2) к областному, или фемному, флоту. Первый участвовал в походе поставкой и снаряжением 100 военных судов: 60 дромонов и 40 памфил. На дромонах на каждом судне было по 230 гребцов и по 70 военных людей; на памфилах на одной половине было экипажа по 160, а на другой – по 130. Присоединив сюда 700 русских воинов, будем иметь на царский флот 24 500 [77] [77]В тексте у Константина – 23002.
[Закрыть]моряков. Что касается провинциального флота, или фемного, он участвовал в экспедиции меньшим количеством судов и людей, можно думать даже, что и вообще он был слабей царского. Четыре фемы, организованные для обслуживания потребностей морской войны, представлены здесь в следующих цифрах: 1) кивиррэотская с 31 кораблем, из коих 15 дромонов и 16 памфил, на них всего экипажа 6760; 2) остров Самос с 22 кораблями, из них 10 дромонов и 12 памфил, всего экипажа 4680 человек; 3) эгейская фема представила 7 дромонов и 7 памфил с экипажем в 3100 человек; 4) фема Эллада выставила 10 дромонов с 3000 экипажа. Следовательно, провинциальный флот представлен был в числе 77 судов, и всего экипажа на нем было 17 540 человек. Кроме того, привлечены были к набору в этот поход некоторые отделы войск и некоторые азиатские фемы с той целью, чтобы составить отряд конной службы. Сюда вошли полки фракисийской фемы, схоларии и македонцы всего в числе 1037 человек, и по 1000 рекрут из фем фракисийской и севастийской, кроме того, 500 новобранцев в феме Анатолике – всего 4037 [78] [78]В тексте у Константина – 6037.
[Закрыть]. Независимо от упомянутых частей привлечены были к службе в этом походе мардаитов числом 5087. Таким образом, всего привлечено было в поход, как сказано выше, больше 50 тысяч, хотя в изданном тексте данный итог не согласуется с нашим, давая 47 тысяч с небольшим.
Затем по приводимым в сборнике Константина актам получаем до известной степени возможность коснуться двух соединенных с тем же походом вопросов: системы рекрутской повинности и финансовых расходов, сопряженных с поставкой армии на военное положение. Постановка этих вопросов делается возможной вследствие некоторых указаний в занимающем нас материале на зависимость принимаемых на военную службу людей от земельного их обеспечения и на существование в империи так называемых стратиотских, или военных, участков, владельцы коих обязаны были к разным видам службы, смотря по финансовой квалификации участка. Военно-податные участки в фемах есть не только особенность византийского земельного хозяйства, но вместе с тем характерная черта изучаемой нами эпохи. Поэтому необходимо сделать здесь несколько указаний, хотя бы исключительно с методологическими целями, в применении к сборнику «Об обрядах византийского двора». В сборнике не имеется прямых данных о том, как, собственно, происходил набор военных людей для царского флота, точно так же можно лишь выставлять предположения насчет появления в этой экспедиции 700 русских. Но зато для провинциального флота сохранилось несколько ценных указаний. Прежде всего в трех морских фемах дело поставки военных людей лежало на обязанности военных начальников этих фем, или стратигов: «стратиг такой-то фемы принял на себя поставить» или «обязался поставить» [79] [79]Так следует понимать выражение εδεξατο (Dе Сеrim. II 651. 18, 20, 21); для толкования следует сравнить: Dе Сеrim. II 657. 20 и cл.
[Закрыть]. Количество требуемых с каждой фемы людей, конечно, стояло в зависимости от числа судов, каким каждая фема участвовала в экспедиции, но, кроме того, при наборе нужно было считаться с семейным и имущественным положением крестьянского населения. Для выяснения этого обстоятельства имеется несравненный по точности акт в том же отчете (29) по критской экспедиции.
«Протоспафарий Федор Пантехни принял подряд (εδεξατο) или «получил приказ» отправиться в фему Анатолику и произвести перепись в селении Платаниаты с тем, чтобы с жителей этого места и с других селений той же фемы набрать 500 отборных рекрутов, способных к службе в стрелках, а равно к конной службе в офицерских чинах. Если ратники окажутся владеющими полным земельным наделом, то должны на собственный счет сделать кавалерийское снаряжение; если же надел их недостаточен, то выдать им коней с конских подстав или взять с одиночек-соратников фемы Анатолики».
Приведенное место прекрасно дополняется законодательными памятниками X в., к которым мы обратимся в одной из следующих глав. Теперь же достаточно отметить, что сбор ратников на военную службу стоял в зависимости от акта имущественной переписи и что в византийских фемах крестьянское население посредством организации военно-податных участков поставлено было в обязательные отношения к отбыванию военной службы. С полного военного надела идет ратник с собственным снаряжением; недостаточные наделы или одиночки по семейному положению должны отбывать военную повинность по системе складчины – один ратник с нескольких хозяйств. Таким образом, следует принять, что стратиги фем по случаю объявления похода должны были собирать ратников каждый в своей феме на основании существовавшей системы стратиотских, или военно-податных, участков, на которых сидело обязанное военной службой население.
Что касается данных по финансовым расходам, соединенным с этой экспедицией, то в этом отношении наши выводы не могут быть достаточно точны. Это частию объясняется некоторыми неправильностями в самых цифрах, а затем слишком большой разницей цены металла в сравнении с настоящим временем. Если, например, подсчет расходов по всем статьям, приведенным в сборнике Константина Порфирородного, дает около одного миллиона на наши деньги, то это, конечно, не может представляться чрезмерным расходом на морскую экспедицию в составе 50 тысяч матросов. Нужно принять в соображение систему натурального хозяйства, дешевизну жизненных предметов и сравнительную редкость и дороговизну металла и повысить в десять раз указанную сумму, чтобы иметь представление о величине расходов. Но приведем некоторые реальные данные. Так, фема Кивиррэоты выставила 6760 человек, на них израсходовано в смысле жалованья 2 кентинария, 21 литра и 42 номисмы. Чтобы представить себе разность в системе вознаграждения военных людей разных родов оружия, укажем, что 700 русских получают в качестве жалованья 1 кентинарий. Приведенные термины денежного счета объясняются следующим образом. Номисма, иначе солид или иперпир, была большая золотая монетная единица, имевшая в обращении стоимость от 4 до 5 рублей. Литра составляла 72 номисмы, или от 300 до 350 р. В кентинарий полагалось 100 литр, или от 30 тысяч до 35 тысяч рублей. Всего на экспедицию показаны расходы в 37 кентинариев, 50 литр и 2 ном., составляющие, как сказано, около 1 миллиона рублей. Разберем, в частности, некоторые цифры. Так, жалованье кивиррэотской фемы (2, 21, 42 ном.), выставившей 6760 военных людей, составляет не больше 10 рублей на человека, между тем как жалованье в 1 кентинарий на 700 русских дает в четыре с лишком раза больше, именно почти по 43 р. на человека. Этим мы должны ограничиться по отношению к организации и расходам по критскому походу.
В связи с мероприятиями по отношению к сирийским и критским арабам следует бросить взгляд на соседние с империей, независимые от нее народы. Главным образом здесь имеются в виду армяне, находившиеся в то время в зависимости от калифата и в своей внешней политике тяготевшие к христианской империи. С вступлением на престол Македонской династии армяне появляются в значительном числе на военной и гражданской службе империи, из чего можно заключить, что Византия начала оценивать значение этого народа в своих планах против мусульман. Тогдашний правитель Армении Ашот из дома Багратидов, соединивший с Арменией Грузию и Албанию, дал своему государству столько материальной силы и политического значения, что империя, с одной стороны, и калифат – с другой, старались в постоянной взаимной вражде находить опорные пункты в этой пограничной стране 30. Отсюда происходят многоразличные сказания о присылке венца от царя Василия Ашоту и обратно, равно как о венчании Ашота калифом ал-Мутамидом. Пред самой смертью Василий заключил с армянским царем дружественный союз, имея в виду общего врага, т. е. восточных мусульман. Преемник Ашота (890) Сепад I, равно как и современный ему второй царь Македонской династии, продолжал поддерживать дружественные сношения и заключил в 893 г. союз против арабов. Но попытки Византии утвердить свое влияние в прикавказских областях не увенчались успехом. В качестве защитника христианства против мусульман Лев Мудрый посылал в Армению стратигов соседних фем, а доместик схол магистр Катакал раз дошел до Феодосиополя (ныне Эрзерум), разрушил находившиеся в окрестностях укрепления и нанес большой удар мусульманской власти в Армении. Но наместник калифа в Адербижане Афшин и преемник его Юсуф нанесли несколько раз поражения армянскому правителю и поставили страну в бедственное положение. Царь Лев думал подать руку помощи своему союзнику, но умер в сборах к походу. Армянский историк Асохик говорит об этом времени (31):
«Вся земля обратилась в пустыню и развалины, города разрушены, селения опустошены, жители рассеяны между иноязычными и чужеплеменными народами, храмы лишены служителей и всего благолепия».
Мы проследили в главных чертах отношения между империей и арабами на Востоке. Переходим к рассмотрению мусульманского вопроса на западной границе, главным образом в Южной Италии и Сицилии. Если сопоставить иконоборческую эпоху с македонской с точки зрения наиболее существенных интересов византийского государства, то нужно без колебания признать, что императоры Македонской династии полагали жизненный интерес свой в удержании и по возможности в расширении политического влияния империи именно в Европе. Итальянским владениям придавалось громадное значение и основателем династии, и его преемниками, и это не столько по действительной и ясно сознаваемой пользе, какая проистекала для империи от ее итальянских фем, сколько по властной фикции единства империи и соединенного с этой фикцией представления о господстве в Италии. Хотя по отношению к Сицилии и Южной Италии царь Василий не делал таких больших предприятий, какова экспедиция Имерия при Льве Мудром, тем не менее следует сказать, что итальянские владения, а равно и господство на водах, прилегающих к Далмации и Сицилии, оберегались с большой последовательностью и системой и основывались на прочной организации.
После занятия Бари и Тарента империи удалось вновь стать твердой ногой в Южной Италии и, пользуясь взаимной борьбой местных лангобардских герцогов и тяготевшим над Италией страхом сарацинских набегов и грабежей, расширить свое влияние. Эти успехи, впрочем, стояли в зависимости от положения дел в Сицилии, где власть империи с каждым годом становилась ограничен– ней и в последние годы Василия I простиралась лишь на небольшую полосу на восточном берегу острова и на город Тавромений. Этот клочок византийских владений едва ли долго мог держаться, будучи окружен со всех сторон арабскими колониями. В последние годы царя Василия в Южной Италии преследовалась настойчивая политика, в особенности с назначением стратегом Никифора Фоки, деда впоследствии знаменитого императора того же имени, который составил себе известность на службе в малоазийских фемах. Располагая военными отрядами из Фракии и Македонии, приведенными сюда его предместником Стефаном Максенцием, и усилив их восточным павликианским отрядом под начальством Диаконицы, Никифор Фока имел в своем распоряжении прекрасное войско, с которым мог сделать попытку осуществить намерения царя. Военным и административным заслугам этого вождя Византия и обязана упрочением своей власти в Южной Италии на все последующее время до появления на юге норманнов. Ввиду опасности со стороны греческого стратига арабы приняли нужные предосторожности и собрали отовсюду вспомогательные силы. Но Никифор разбил их и взял арабские укрепления: Амантеа, Тропеа и С. Северина (885–886). Когда с восшествием Льва на престол Никифор отозван был из Италии, Византия имела уже твердое положение во всей Калабрии, Апулии и в береговой части Лукании. Лучшей похвалой для административной деятельности этого мужа служат слова царя Льва (32):
«Он покорил лангобардов не только военными делами, прекрасно исполненными, но вместе с тем проницательностью, справедливостью и добротою, будучи снисходителен ко всем и пожаловав их освобождением от всякого рода зависимой службы и от податей».
Весьма можно пожалеть, что мы лишены возможности изучить произведенные Никифором реформы в устроении завоеванной страны. К этому времени должно относить учреждение двух фем в стране: Лангобардии с центром в Бари и Калабрии. Главная масса населения в них была, конечно, из лангобардов, арабские колонисты были изгнаны, равно как и гарнизоны их; в каком соотношении с введением византийской администрации оказались местные обычаи и законы с греческими, об этом можно лишь делать догадки. Рассказывают, будто итальянцы, прощаясь с Никифором, построили в честь его храм, дабы увековечить память об его гуманном управлении (33) и об освобождении страны от сарацинских набегов. Некоторое время Калабрия с центром в Региуме являла предмет специальных забот империи. Сюда постепенно переходили из Сицилии византийские подданные под напором арабского господства на острове, и здесь эллинизация пустила глубокие корни. Хотя в феме Лангобардии население было по преимуществу из германских колонистов, но устройство и управление в обеих провинциях было одинаковое и находилось в руках военного губернатора, или стратига, и подчиненных ему чинов, причем значительная часть земель объявлена была государственными, и владельцы этих земель призваны к отбыванию военной службы.
Главной задачей империи, оправдывавшей, так сказать, и само господство ее в Италии, была борьба с арабами. После побед, одержанных Никифором, сарацины утвердились в двух укрепленных пунктах римской Кампании, близ Гаеты, Агрополе и Гарильяно, и приняли деятельное участие в войнах герцога и епископа Неаполя Афанасия с Капуей и Салерно. Постоянным раздором между южноитальянскими герцогами и опасностью страха перед сарацинами Византия воспользовалась для распространения сферы своего влияния на те области, где прежде было политическое влияние Каролингов. Так, герцог Салерно, чтобы заручиться помощью Византии против Неаполя и союзников его, сарацин, сам отправился в Константинополь, где был принят с отменным вниманием и награжден саном патрикия. Следствием этих отношений было то, что Салерно получило византийский гарнизон и военные снаряды. Ближайшее княжество, Неаполитанское, скоро также искало союза и помощи у императора; тогда к князю-епископу был послан отряд под начальством Хассана, который ведет ожесточенную войну с Капуей, – под знаменами Хассана можно было видеть в одно и то же время неаполитанцев, сарацин и греков. Взамен оказанного благорасположения Неаполь также должен был признать над собой власть империи (34). Таким образом, Салерно, Беневент и Капуя находились формально под византийским влиянием, и между местными герцогами не было более серьезного противодействия дальнейшему расширению политической власти Восточной империи. Из всех лангобардских княжеств только Салерно пользовалось внутренним спокойствием, остальные были жертвой кровавых усобиц. В Капуе потомки Ландольфа находились в жестокой борьбе, в Беневенте постоянно происходили дворцовые революции. Гайдери, лишенный власти, ищет убежища в Бари, откуда стратиг препроводил его в Константинополь, исходатайствовал ему титул протоспафария и место правителя города Ории, в Южной Апулии. В Беневенте утверждаются на короткое, впрочем, время Радельхис, а за ним Айон, на которого напал герцог Сполето Гюи и взял его в плен. В это же время византийский стратиг Феофилакт, задавшийся целью нападения на сарацинское гнездо в Гарильяно, вооружил против себя лангобардов Беневента и Апулии, которые напали на Бари и выгнали из города византийский гарнизон. Но лангобарды не поддержали герцога Айона, и он скоро должен был снова сдать Бари патрикию Константину.
После этого для царя Льва не представлялось особенных трудностей провести свои честолюбивые планы и в Средней Италии. Прежде всего здесь нужно было воспользоваться враждой и противоположными стремлениями небольших княжеств в Кампании. Борьба герцогов между собою и с притязаниями Римского папы была одной из причин утверждения сарацин в Гарильяно; эта же борьба помогла и Византии. Было бы излишне следить за тем, как в Капуе, Салерно, Неаполе, Беневенте и Сполето почти ежегодно сменялись политические влияния и как почти в беспрерывной войне ослабляемы были княжества. Достаточно отметить, что в самом конце IХ в. вследствие возвышения графа Капуи Атенульфа, особенно после соединения им в 899 г. Беневента и Кари под своей властью, в Средней Италии начала зарождаться особенная политическая сила, приостановившая успехи Византийской империи. С тех пор Капуя возвышается между среднеитальянскими городами и в торговом отношении соперничает с Салерно, а в политическом оставляет в тени самый Беневент. Вместе с этим можно заметить, что в Южной Италии наступает период равновесия между боровшимися элементами, который находит себе объяснение и в тогдашнем положении мусульманского мира в Африке и Сицилии. Нужно признать большим благом, что Аглабитская династия в Африке имела для себя большие затруднения в местной африканской аристократии и что в Сицилии также происходила борьба между собственно арабами и берберами, а также между партией, стремящейся к полной самостоятельности, и другой, которая поддерживала идею подчинения африканскому эмиру. Только этими обстоятельствами можно объяснить то, что Византия все еще держалась в Сицилии у подошвы Этны и в Таормине. Наступил даже такой момент, что сарацины заключили союз с христианами на 40 месяцев (895–896). По истечении этого срока обстоятельства круто изменились. Ибрагим ибн-Ахмед, управлявший Африкой в последней четверти IX в., задался целью обуздать местных племенных представителей и для достижения этой цели не давал никому пощады, так что внушал ужас и отвращение своими изысканными жестокостями. Внимание его обращено было и на Сицилию. Так как посланный им для этого начальник не нашел средств примирить между собой враждующих, то Ибрагим отправил в Сицилию своего сына Абул-Аббаса с большим флотом, который 1 августа 900 г. пристал к Мазаре. Нанеся несколько поражений палермским арабам, Абул-Аббас овладел Палермо и принудил сицилийских арабов к повиновению. Масса населения искала убежища в византийских владениях, многие бежали в Константинополь. На следующий год арабский вождь напал на Региум и взял его приступом, забрав в плен до 17 тысяч населения. С громадной добычей возвратился он в Мессину, где нанес поражение византийскому флоту. Приглашенный затем своим отцом в Африку, он объявлен был преемником Ибрагима, который добровольно сложил власть под предлогом священной войны против неверных. С свойственным ему воинственным одушевлением он повел мусульман против последних укреплений, остававшихся в руках христиан на северо-восточном берегу Сицилии. Таормина не могла выдержать осаду и сдалась, причем город постигла страшная судьба: мужское население погибло от меча, женщины и дети проданы были в рабство (1 авг. 902 г.). Епископа Прокопия постигла жестокая участь: у него была отрезана голова, а тело подверглось сожжению. Потеря последнего опорного пункта на острове произвела тяжелое впечатление в империи, патриарх Николай Мистик обвиняет (35) византийское правительство в непринятии должных мер. В самом деле, успехи африканских арабов в Сицилии должны были поколебать установившееся до некоторой степени равновесие в Южной Италии и сильно поднять на место византийского мусульманский авторитет. Ходил слух, что Ибрагим замышляет движение на самый Константинополь. Во всяком случае из Сицилии Ибрагим переправился в Италию и, высадившись в Региуме, пошел на север. Со всех сторон получал он посольства от лангобардских князей и городов с просьбой о пощаде и с предложениями союза. Но он даже не хотел выслушать униженные просьбы, а приказал объявить через переводчика свою волю.








