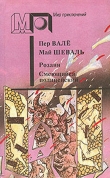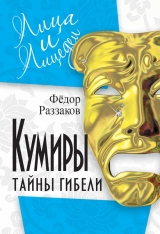
Текст книги "Досье на звезд: правда, домыслы, сенсации. Кумиры всех поколений"
Автор книги: Федор Раззаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
«Актовый зал» – это попытка нынешних 30-летних отвоевать собственное пространство, свою среду обитания. Здесь собираются просто посидеть в дружеском или, напротив, незнакомом кругу, потанцевать или выпить «по настроению», посмотреть в «тихой» комнате фильмы классиков мирового кино или обсудить собственные планы, которые с количеством выпитого и просиженных часов обретают стройную «классическую» форму. В галерее бывают именитые гости и простые смертные, и ко всем относятся с одинаковым дружелюбием...»
К сожалению, благой порыв известной киноактрисы завершился провалом: буквально через два месяца с момента открытия галереи на нее «наехала» братва, и в канун 1993 года заведение закрылось навсегда. И Друбич вновь вернулась к карьере доктора. В середине 90-х она добилась значительных успехов в этой области – возглавила московское представительство германской фирмы по поставке медицинских препаратов.
В 1996 году, после семилетнего перерыва, Друбич вернулась на съемочную площадку. На этот раз ее пригласил в свою новую комедию «Привет, дуралеи!» Эльдар Рязанов. Стоит отметить что до этого несколько режиссеров пытались заполучить Друбич в качестве главной героини в свои фильмы, но актриса ни одно; из этих предложений не приняла, считая эти роли повторением своих прошлых работ. И только Рязанову она не отказала в силу того, что роль Ксении в «Дуралеях» была диаметрально противоположна тому, что она играла до этого – это была комедийная роль.
Когда фильм вышел на широкий экран, критика его дружно не приняла. И только роль, исполненная Друбич, была встречена доброжелательно. К примеру, критик В. Туровский писал: «Привет, дуралеи!» – уникальный для Рязанова актерский разброд. Каждый играет как хочет и что хочет. Практически ни про одну роль нельзя сказать, что в таком или другом исполнителе обнаружилось что-то такое, чего ни в одном фильме не обнаруживалось. Персонажи Александра Ширвиндта, Татьяны Догилевой, Алексея Булдакова, Бориса Щербакова, Ольги Волковой – все это перепевы давно и недавно сыгранного. Очень мастерови-то – актеры-то какие замечательные! – профессионально чистенько, но знакомо до боли. Все это уже было, все это господа актеры давно и хорошо умеют.
Исключение, пожалуй, составляет роль Ксении в исполнении Татьяны Друбич. Актриса отважно бросается в материал роли и купается в ней. Красивая актриса абсолютно не боится предстать некрасивой, неуклюжей, нелепой... Нет ни одного угла, ни одного дерева, об которые плохо видящая Ксения не стукнулась. И делает это актриса с какой-то обезоруживающей наивностью и естественностью: «Ну да, вот такая я нескладная, что теперь со мной делать?»
Сегодня Т. Друбич по-прежнему живет в Москве, работает во главе российско-германской фирмы по поставке медицинских препаратов. Ее дочь Аня учится в специальной музыкальной школе при Институте им. Гнесиных, получает стипендию как особо одаренный ребенок от правительства Москвы.
Не менее успешно складывается и актерская карьера Друбич – она снялась в главной роли в фильме Александра Зельдовича «Москва», готовится к главной роли в картине С. Соловьева «Иван Тургенев. Метафизика любви». На этот раз ей предстоит перевоплотиться в любимую женщину И. Тургенева (в этой роли снимается Олег Янковский) Полину Виардо.
Андрей МАКАРЕВИЧ
Макаревич родился 11 декабря 1954 года в Москве. Его отец – Вадим Григорьевич – известный архитектор, в свое время преподававший в МАрхИ, создатель памятника Карлу Марксу в Москве, автор оформления советских павильонов на всемирных выставках в Брюсселе, Монреале, национальных выставок в Париже, Генуе, Лос-Анджелесе. Мать Андрея всю жизнь проработала в медицине. Однако в юности она увлекалась музыкой и даже получила музыкальное образование. Свою любовь к музыке она попыталась передать сыну, и того в 7 лет отдали учиться в музыкальную школу. Но ничего путного из этого не получилось – нотная грамота давалась Андрею с большим трудом, а многочасовые сольфеджио выводили из себя настолько, что мальчик на глазах превращался в неврастеника. Поэтому через два года с музыкальной школой пришлось расстаться.
Однако на место классической музыки в жизнь Андрея вскоре вошел рок-н-ролл. Случилось это году в 66-м при следующих обстоятельствах. В один из дней Андрей вернулся из школы домой (они тогда жили на Волхонке) и застал отца за серьезным занятием – тот переписывал на маленький магнитофон «Филипс» пластинку «Битлз» «Ночь после трудного дня», взятую у соседа. Стоит отметить, что Андрей и раньше слышал «ливерпульскую четверку», однако эти прослушивания носили отрывочный характер и не давали возможности составить о группе объективное Мнение. И только теперь, с появлением дома полноценной пластинки с записью 12 песен, у Андрея появилась возможность понять по-настоящему, что это за чудо – «Битлз». По его же словам: «Было чувство, что всю предыдущую жизнь я носил в ушах вату, а тут ее вдруг вынули. Я просто физически ощущал, как что-то внутри меня ворочается, двигается, меняется необратимо.
Начались дни битлов. Битлы слушались с утра до вечера. Утром, перед школой, потом сразу после и вплоть до отбоя. В воскресенье битлы слушались весь день. Иногда измученные битлами родители выгоняли меня на балкон вместе с магнитофоном, и тогда я делал звук на полную, чтобы все вокруг тоже слушали Битлов...»
Между тем примерно с середины 60-х годов, благодаря все тем же «Битлз», в Советском Союзе начали одна за другой возникать собственные рок-группы, игравшие музыку двух видов: англоязычную и русскоязычную. Подобные группы возникали везде: на заводах, в Домах культуры, в институтах и, конечно же в школах. Две такие рок-группы были и в 19-й средней спецшколе города Москвы, где учился Макаревич. Более того, одну из них (еще в восьмом классе) он создал сам. В нее, кроме основателя, входили еще три человека, учившиеся с ним в одном классе – Миша Яшин и две девочки, к одной из которых – Ларисе Кашперко – Андрей питал очень теплые чувства. В репертуаре группы преобладали песни Юрия Визбора и англо-американские народные песни. Несмотря на то, что группа не хватала с неба звезд, однако имела среднюю степень популярности в стенах родного учебного заведения, конкурируя с другим коллективом – мужским ансамблем из 9-го класса, игравшим инструментальные пьесы жутко популярного Арно Бабаджаняна и битлов в стиле «Ventures». Группа Макаревича могла просуществовать еще долго, если бы в дело не вмешался случай.
В один из дней к ним в класс пришли два новичка – Юра Борзов и Игорь Мазаев, которые любили битлов, сами играли на музыкальных инструментах и были не прочь создать собственный коллектив. С этим предложением они и обратились к Макаревичу, вынудив его решать сложную дилемму: убрать из группы девочек (напомним, что к одной из них Андрей не ровно дышал) и переходить на чисто мужской рок. И Макаревич выбрал последнее (отмечу, что Л. Кашперко затем попала в оркестр Л. Утесова). Так в 1969 году на свет появилась вокально-гитарная группа, которая сначала именовалась «The Kids», а чуть позже поменяла название на «Машины времени» (именно во множественном числе). Ее участники исполняли песни на английском языке – их первый магнитофонный альбом был записан в том же году и состоял из 11 песен.
Первое репетиционное помещение новоявленная группа получила в одной из квартир знаменитого Дома на набережной. Там жил барабанщик группы Юрий Борзов, который был сыном маршала авиации и командующего авиацией ВМФ Ивана Ивановича Борзова (кроме Борзова в группе одно время играл еще один «знатный» одноклассник Макаревича – Павел Рубин, у которого то ли отец, то ли дед были в руководстве Верховного Совета СССР). В отличие от отца Макаревича, который горячо приветствовал увлечение сына музыкой (он даже помогал сыну выпиливать его первую гитару), отец Борзова постоянно был недоволен более чем странным для сына маршала занятием и иногда грозился «разогнать всю волосатую компанию». К счастью, эти угрозы так и не осуществились.
Тем временем в 1970 году «машинисты» благополучно закончили школу и поступили в различные вузы. Например, Макаревич стал студентом Московского архитектурного института (МАрхИ). Однако несмотря на это, ансамбль продолжал свое существование. Более того, в 1970 году о нем уже были достаточно наслышаны московские хиппи, проводившие свои вечера во Дворце культуры «Энергетик» на Раушской набережной. Через эту альма-матер московской рок-музыки прошли многие известные исполнители: Алексей Козлов, Стас Намин (именно он привел «машинистов» в ДК), Александр Градский и др.
Стоит отметить, что «рокерская» тусовка предполагала наличие у ее участников определенных привычек, которые принято называть вредными: алкоголь, курение, девушки. «Машинисты» в этом отношении не были исключением, хотя некоторое время среди них была одна «белая ворона» – Макаревич, который в отличие от своих товарищей не был подвержен ни одному из перечисленных пороков. Однако долго так продолжаться не могло. Однажды нервы у Сергея Кавагоэ не выдержали, он купил бутылку портвейна и заставил Макаревича распить ее на двоих в одном из московских кафе-мороженых. Так состоялось «боевое крещение» Макаревича на винном поприще, а чуть позже и все остальное.
Между тем в 1971 году состав «Машин» претерпел серьезные изменения: Мазаева забрали в армию, а Борзов покинул группу по личным мотивам. Вместо них пришли другие участники: бас-гитару взял в руки Александр Кутиков (в прошлом боксер, бронзовый призер первенства Москвы среди юношей), за ударные установки сел Максим Капитановский (первый настоящий муыкант, до этого игравший в самой «техничной» московской группе «Второе дыхание»), у клавишных встал Сергей Кавагоэ (он был наполовину японец, и его отец часто привозил сыну из
Японии необходимый музыкальный реквизит). Произошли изменения и в репертуаре ансамбля – место англоязычных песен стали все больше занимать песни на русском языке. Именно тогда Макаревичем были написаны первые «хиты»: «Песня о солдате» («Я с детства выбрал верный путь...»), «Продавец счастья» («Вчера я шел в начале ночи...»), «Песня про розовые очки» («День назад я был не рад, что родился на свет...»), «Миллионеры» («Я слышал, что миллионеры...») и др.
Позднее музыкальный критик А. Троицкий так охарактеризует творчество Макаревича и его группы того периода: «Как исполнители они не очень впечатляли: играли элементарно, Андрей Макаревич пел гнусавым голосом (немного похоже на Дилана) и очень смущенно держался на сцене. Их музыка по-прежнему сильно отдавала «ливерпулем», косметически припудренным под хард-рок. Несколько красивых мелодий, а вообще, ничего особенного. Но все это и не имело большого значения, ибо реальная миссия «Машины времени» состояла совсем в другом, а именно – «заставить людей думать», разумеется, над текстами песен...
На мой вкус, стихи Макаревича немного пресноваты – абстрактны и дидактичны, – но они, бесспорно, честны и полны озабоченности. В них точно, пусть и в «мягком фокусе», переданы симптомы злостной эпидемии потребительства и неверия, косившей в то время всех подряд. Естественно, говорить об этих вещах во всеуслышание было не принято: средства массовой информации старательно поддерживали максимально благополучный (и лживый) образ решительного и идейно убежденного современного героя. Именно поэтому «проблемные» песни «Машины времени» имели фантастический резонанс, как один из немногих чистых голосов в фальшивом хоре...»
Об этом же слова другого критика – И. Смирнова: «В создаваемых ими («машинистами» – Ф. Р.) образах переливались все геральдические цвета хиппизма. Прежде всего, это предельная возвышенность, аллегоричность и романтизм. Программы «Машины времени», талантливейшей группы этого поколения, похожи на настенный гобелен: замки и корабли с парусами не оставляют практически никакого места для атрибутов реальной жизни. Из местоимений доминирует «ты»...
Настроение песен «Машины времени», как правило, чрезвычайно мрачное. Не имея никакого желания становиться на одну доску с теми т. н. критиками, которые считают пессимизм отрицательным качеством произведения, лишающим его права на внимание читателя, зрителя или слушателя, мы в интересах истины должны признать, что рокеры в этом отношении оказались весьма непохожи на бардов: в песнях Окуджавы, Высоцкого и приобретавшего в начале 70-х годов все большую популярность Аркадия Северного в десять раз больше жизнеутверждающей энергии...»
В 1972 году группа «Машины времени» на несколько месяцев прекратила свое существование и ее участники влились в состав популярной рок-группы «Лучшие годы», которая практиковалась на исполнении западной музыки и копировала Элвиса Пресли, Тома Джонса, Джеймса Брауна, Уилсона Пикета, «Лед Зеппелин» и др. Все лето «Лучшие годы» провели на юге в Международном студенческом лагере «Буревестник-2» в Вишневке, где играли на танцах.
В 1973 году «Лучшие годы» почти в полном составе ушли на профессиональную сцену и «Машина времени» (теперь она называлась в единственном числе) была возвращена к жизни (из «Лучших годов» в нее перешел клавишник Игорь Саульский). Из-под пера Макаревича на свет родились новые «хиты»: «Хрустальный город» («Я был вчера в огромном городе...»), «Туманные поля» («Я видел странный сон...»), «Круг чистой воды» («Я раскрасил свой дом...»), «Ты или я» («Все очень просто...»), «Я устал» («Я устал встречать знакомых и гадать, кто друг...») и др. Однако период относительного спокойствия в группе длился недолго – вскоре произошел конфликт между Кавагоэ и Кутиковым и последний ушел в группу «Високосное лето». За ним покинул группу и Саульский. Уставший от этих дрязг Макаревич собрал свои нехитрые пожитки и отправился на юг – играть в одной из сборных групп в спортивном лагере МГУ в Джемете.
Между тем следующий год запомнился Макаревичу прежде всего двумя событиями: его отчислением из института и съемками в кино. Расскажем все по порядку.
Творческие поиски Макаревича всегда вызывали крайне негативную реакцию со стороны руководства МАрхИ. Ладно бы он Писал бодрые песни про БАМ или про любовь, так ведь нет – то про хрустальные города, то про туманные поля. В 1974 году к этому списку прибавились и новые произведения из этого же ряда: «Черно-белый цвет» («Кто знал, кто тебя таким создал...»), «Из конца в конец» («Есть волшебный замок...»), «Это новый день» («Я песню спел свою...»). В конце концов руководству вуза это надоело, и Макаревича исключили из института (формальным поводом к этому стала его неявка на овощную базу). После этого Макаревичу пришлось идти на вечернее отделение все того же МАрхИ, а днем работать в «Гипротеатре». При этом свободного времени у него была уйма: на работе он добился зачисления на полставки и ходил туда через день, а в институте появлялся только на экзаменах. Позднее профессор МАрхИ В. Раннев так отзовется о студенте Макаревиче: «У него были явные способности к рисованию и проектированию. Вот только любви к архитектуре не было. На занятия он неизменно являлся с зачехленной гитарой и как что-то второстепенное, почти ненужное, приносил бумаги с чертежами. Скромный, щупленький, кудрявый, как негр, парень. Средненький хорошист. В нем не было ничего особенного. Помню, мы поразились, что он сам придумал тему своего диплома (обычно темы студентам давали мы). Да еще какую! Спроектировал в форме кристалла голографический театр со светомузыкой в саду «Эрмитаж». И почему-то категорически настаивал на светомузыке. Тогда только мы подумали, что музыка в его жизни – не просто хобби».
Однако в отличие от руководства МАрхИ, которое негативно относилось к песенному творчеству своих студентов, кинематографисты отнеслись к нему иначе. А. Макаревич вспоминает: «На сейшене в столовой номер восемь филфака МГУ (легендарное, кстати, место!) к нам подошел усатый дядька и объявил, что он из съемочной группы Данелии и мы им нужны. Ночь я провел в необыкновенном волнении. Перед именем Данелии я благоговел – недавно... прошел фильм «Тридцать три», был он очень смешной и по тем временам редкой гражданской смелости, на грани запрета. Я не мог себе представить, зачем мы понадобились Данелии, и воображение рисовало картинки самые причудливые. Оказалось, все очень просто. В эпизоде на клубных танцах нужна была на заднем плане какая-нибудь группа – так сказать, типичный представитель. Только и всего. Там даже вроде бы снимался «Аракс», но потом у них что-то не сложилось. Надо сказать, я не расстроился: я считал за честь принести пользу Данелии в любом виде. Быстро была записана фонограмма песни «Ты или я» – выбора, собственно, не было, других наших песен Дегтярюк (новый участник группы – Ф. Р.) играть не умел. Съемки прошли за один день (вернее, ночь). Надо сказать, Данелия отнесся к нам очень уважительно и щепетильно: песня была у нас приобретена по всем законам, и спустя несколько месяцев я неожиданно для себя получил невероятную кучу денег – рублей пятьсот (случай для нашего отечественного кинопроизводства отнюдь не типичный). На эти деньги был приобретен в комиссионном магазине магнитофон «Грюндиг ТК-46», который долго потом заменял нам студию. Что касается кино, то даже не помню, остались ли мы в кадре. Обрывки песни, кажется, звучат...»
Память не подвела Макаревича, – обрывок песни «Ты или я» действительно в кадре звучал, так же как и обрывок песни «Аракса» «Скоро стану я седым и старым».
Между тем в течение последующего года состав «Машины времени» постоянно менялся, и участники менялись в ней с калейдоскопической быстротой. Кто только не играл в «Машине...»: гитаристы Алексей Романов, Алекс «Уайт» Белов, Александр Микоян, скрипач Сергей Осташев, барабанщики Юрий Фокин и Михаил Соколов и многие другие. Наконец к лету 1975 года состав стабилизировался и состоял из четырех человек: Макаревича, Кавагоэ, Евгения Маргулиса и скрипача Николая Ларина. При этом базировалась группа в Министерстве мясной и молочной промышленности РСФСР, что объяснялось просто – там еще никто не знал, что представляет из себя «Машина времени». Именно к этому периоду относится вторая профессиональная запись группы (первая произошла в 1970 году на радио, и в ней звучали песни: «Солдат», «Продавец счастья», «Помогите», «Я видел этот день» и другие. К сожалению, прозвучав всего один раз, эта запись затем была стерта). На этот раз «Машину времени» попытались вытащить на голубой экран. Попытку сделать это предприняла ведущая популярной передачи «Музыкальный киоск» Элеонора Беляева, которая узнала про существование группы от своей дочери. Буквально за один день «машинисты» записали и свели шесть песен: «Круг чистой воды», «Ты или я», «Из конца в конец», «Черно-белый цвет», «Флаг над замком» и «Летучий голландец». Однако пройти сквозь кордон цензуры Беляевой не удалось и «Машина времени» на голубом экране так и не появилась. Но участники группы не сильно расстроились – ведь состоялась их вторая студийная запись, и песни, записанные тогда, вскоре разлетятся на тысячах магнитофонных кассет по всей стране.
В это же время в жизни коллектива произошло еще одно важное событие – он стал давать первые официальные гастроли. И хотя ради каждого публичного выступления приходилось идти на всякие унижения (например, добиваться «литовки» – то есть программы, утвержденной Домом народного творчества), однако польза от этого была куда весомее. Во-первых, росла популярность группы, во-вторых, она зарабатывала деньги, которые большей частью шли на техническое оснащение группы.
В марте 1976 года случилось событие, которое открыло новые горизонты в жизни «Машины времени» – группу пригласили в Таллин на фестиваль «Таллинские песни молодежи-76». Состав участников фестиваля был разношерстным: приехали группы из Москвы (кроме «Машины...» столицу представляли группы Стаса Намина и «Удачное приобретение»), из Ленинграда («Аквариум», «Орнамент»), из Горького («Время») и несколько групп из прибалтийских республик. Фестиваль длился несколько дней и завершился победой «Машины времени» – группа заняла первое место и увезла в Москву диплом, подписанный 1-м секретарем ЦК ВЛКСМ Эстонии. Это было первое официальное признание коллектива. В том году из-под пера Макаревича появились новые песни: «День рождения» («Сегодня теплый день...»), «Песня о капитане» («Случилось так, что небо было синее, бездонное...»), «Девятый вал» («Был день, белый день...»), «Белый день» («Белый день бывает только раз...»).
Сразу после таллинского фестиваля «Машину времени» пригласили на гастроли в Ленинград. Эти гастроли прошли с триумфом и принесли группе небывалую популярность в городе на Неве.
В 1977 году поэтическое вдохновение Макаревича выдало «на гора» самую большую порцию песен. Тогда на свет появились: «Полный штиль» («Полный штиль, как тряпки – паруса...»), «Блюз о безусловном вреде пьянства» («Я глаз не мог закрыть...»), «Посвящение одному хорошему знакомому» («Пусть люди тебя называют ослом...»), «Памяти А. Галича» («Снова в мир весна кинулась...»), «Гимн забору» («Душой и сердцем я горю...»), «Люди в лодках» («Долго я шел берегом реки..»), «Самая тихая песня» («Есть на свете вещь...»), «Родной дом» («Над нашим домом целый год мела метель...»), «Необычайно грустная песня» («Синеет небо, простор полей...»). Весной 1978 года «Машина времени» была приглашена на очередное официальное мероприятие – на рок-фестиваль «Весна УПИ» в Свердловск. Пригласил туда группу Артем Троицкий. Позднее он вспоминал: «Было удивительно, что свердловская аудитория уже знала все песни Макаревича наизусть, хотя группа никогда прежде там не выступала.
Был резонанс и иного рода. Я был членом жюри и вблизи наблюдал массовый инсульт, случившийся с местными официальными деятелями из-за текстов «Машины времени». Особенно их напугал «Блюз о безусловном вреде пьянства» (сатирическая антиалкогольная песня) и «Штиль», где были такие строки:
Мой корабль – творенье тонких рук, Мой маршрут – сплошная неудача, Но лишь только дунет ветер – Все изменится вокруг, И глупец, кто думает иначе...
«Машину времени» исключили из конкурса, они были явно лучшей группой, но чиновники боялись ставить свои подписи под дипломом. В подобные ситуации группа попадала постоянно: ее обвиняли в «пессимизме», «упаднических настроениях» и «искажении образа нашего молодого современника». Сразу после возвращения из Свердловска «Машину времени» ждало одно радостное событие – запись первого магнито-альбома. Причем помог ее сделать бывший «машинист» Александр Кутиков, который устроился работать в речевую студию ГИТИСа. Там и произошла легендарная запись альбома «День Рождения». Она была сделана в следующем составе: Андрей Макаревич – вокал, гитара; Евгений Маргулис – бас-гитара; Евгений Легусов – саксофон; Сергей Велицкий – труба; Сергей Кавагоэ – ударные. В альбом вошли почти все известные песни группы, и кассета с записью с быстротой молнии расплодилась Не только в Москве, но и по всему Союзу. Автор этих строк с благоговением вспоминает один из дней 78-го года, когда эта запись оказалась и на его катушечном магнитофоне «Комета-209». Это было нечто!
Между тем весной 1979 года прежний состав «Машины времени» распался. Причем со скандалом. Камнем преткновения стал концерт в горкоме графиков на Малой Грузинской, где Макаревич был частым гостем. И вот однажды художники попросили его выступить с группой на одном из их вечеров, но Кавагоэ встал на дыбы. Он заявил, что, если художникам интересно пусть приходят на концерт «Машины времени» и там слушают, а специально для них играть он не поедет. Макаревичу стоило огромного труда уговорить Кавагоэ выступить ради него, Макаревича, но впоследствии он сильно пожалел, что сделал это. Концерт состоялся, но прошел отвратительно. В тот же день Макаревич собрал всех «машинистов» и объявил о своем решении: он уходит из группы и всех желающих, кроме Кавагоэ, приглашает следовать за собой. Однако за ним никто не последовал. Так Макаревич остался один, а участники его коллектива разбрелись по другим коллективам – например, Кавагоэ и Маргулис ушли в только что созданную группу «Воскресенье», которая тут же стала супергруппой.
Слух о распаде «Машины времени» с быстротой молнии облетел рок-н-ролльную тусовку. По словам самого Макаревича, это его сильно удивило. Но еще сильнее его удивило другое – что уже через несколько дней у него появился новый состав, который ни в чем не уступал прежнему. И огромную роль при этом I сыграл все тот же Александр Кутиков. По словам Макаревича, все произошло чисто случайно. Он шел по улице Горького, встретился с Кутиковым, и тот с ходу предложил ему возобновить сотрудничество. При этом на роль ударника он порекомендовал своего коллегу по «Високосному лету» Валерия Ефремова. Четвертым участником нового коллектива стал клавишник Петр Подгородецкий.
Вспоминает А. Макаревич: «Мы бросились репетировать. Свежая кровь – это великое дело... На меня обрушилась лавина новых мыслей. Удивительным в этом плане был Петя. Он мог с ходу предложить сто вариантов своей партии, и надо было только говорить ему, что годится, а что нет, потому что сам он не знал. Обычно Кутиков, как всегда переполненный мелодиями, но плохо знавший расположение клавиш, напевал Пете на ушко что-то такое, и это немедленно находило воплощение в конкретных звуках. Программа получилась ударной – «Право», «Кого ты хотел удивить», «Свеча», «Будет день», «Хрустальный город». Почти сразу мы написали «Поворот» и «Ах, что за луна». Все шло на колоссальном подъеме, мы очень нравились друг другу и чувствовали себя на коне...»
Кроме перечисленных песен в том году Макаревичем были написаны и другие. Среди них: «Снег» («Снег. Город почти ослеп...»), «Закрытые двери» («Мы много дорог повидали на свете...»), «Лица» («Ночью нам дарован покой...»).
В том же году «Машина времени» подготовила и осуществила монументальную программу «Маленький принц» с развернутыми инструментальными соло, чтением стихов и начатками режиссуры. Программа была записана на пленку и быстро распространилась по стране. Одновременно с этой записью вышел третий магнитоальбом группы – «Ты или я».
Между тем, несмотря на охватившее в том году Макаревича воодушевление, его чрезвычайно тяготило одно обстоятельство – полуподпольное существование коллектива. Все эти периферийные Дома культуры, институтские актовые залы и прочие второсортные сценические площадки, где приходилось выступать «машинистам», стали вызывать у них стойкую аллергию, и всякое желание играть на них пропадало с первых же минут концерта. Им хотелось обрести статус легального коллектива, сделать то, что весьма удачно осуществил «Аракс», зачисленный в состав Театра имени Ленинского комсомола. И желание «Машины времени» вскоре обрело свою плоть – их взял под свое крыло Московский областной театр комедии. В том же году Макаревич навсегда покинул коллектив «Гипротеатра», где проработал шесть лет.
Первым спектаклем театра, в котором приняли участие «машинисты», был «Виндзорские насмешницы» В. Шекспира. На премьере спектакля зал был набит битком, причем в основном это были фанаты ансамбля. Они горели желанием услышать любимые произведения легендарного коллектива, но их ждало разочарование – «Машина времени» исполняла песни на стихи Шекспира и Бернса. После этого следующие спектакли проходили чуть ли не в полупустых залах. Естественно, это не могло положительно сказаться и на умонастроении самих «машинистов». Поняв, что театр они выбрали не тот, они стали подумывать об уходе из него. И вскоре такой случай им представился. В 1980 году в Росконцерте было принято решение пригласить «Машину времени» в собственный штат, и это приглашение было встречено участниками группы положительно. С этого дня официальная ставка «машинистов» за одно выступление в концертном зале равнялась 10 рублям, во Дворце спорта – 20. Первое выступление «Машины времени» под эгидой Росконцерта состоялось в Ростове, затем последовали концерты и в других городах: Харькове, Одессе. И везде – аншлаги.
В марте 1980 года «Машина времени» покорила еще одну вершину – музыкальный фестиваль в Тбилиси «Весенние рит-мы-80», на котором заняла 1-е место, разделив его с эстонской группой «Магнэтик Бэнд». Вспоминает А. Троицкий: «У Андрея Макаревича были все причины быть счастливым, как у человека, который двенадцать лет рыл тоннель и наконец выбрался из него на свет. Однако он не выглядел ослепленным, и наш единственный обстоятельный разговор в Тбилиси – прямо накануне отлета – имел горьковатый привкус. «Ну вот, теперь ты считаешь нас буржуями и продажными элементами», – Макаревич имел в виду пресс-конференцию после фестиваля, где я заявил, что теперь у «Машины времени» есть все шансы стать признанными поп-звездами, заменив наскучивших и устаревших «Песняров», «Самоцветов» и т. п. «Думаешь, если нас одобрило жюри, взяла на работу филармония, мы уже не те и не заслуживаем внимания? Это очень ограниченная позиция. Музыканты, и рокеры в том числе, должны работать профессионально, зарабатывать деньги своей музыкой... Ты же знаешь, я не иду ни на какие компромиссы и мы играем и поем то, что нам на самом деле близко. Мы не стали хуже, не стали глупее, просто изменилось отношение и к жанру, и к нам». – «Согласен, но вот бедный «Аквариум» чуть не выслали из города...» – «А тебе не кажется, что это именно то, чего они хотели? Устроить скандал, произвести по возможности более отталкивающее впечатление, как это делают в панк-роке... Кстати, и для этого надо обладать определенными навыками. Я не считаю, что «профессионализм» – это способность добиваться нужного результата... Боря (Гребенщиков – Ф. Р.) хотел вызвать смуту, и ему это хорошо удалось. Молодец! А нам никогда не нужна была скандальная слава, я никогда не стремился кого-либо эпатировать. Хотя некоторые и могли воспринять нас как что-то угрожающее – в меру своей глупости. Все мои песни в конечном счете – о доброте, чистоте... любви, если хочешь. И слава Богу, что это наконец поняли и перестали болтать о «пессимизме» и «фиге в кармане».
После победы на тбилисском фестивале не замечать «Машину времени» было уже нельзя, и официальные органы вынуждены были это учесть. Поэтому той же весной в центральной прессе появилось сразу несколько статей, в которых творчество группы рассматривалось с положительных позиций. К общему восторгу вскоре присоединилось и радио – радиостанция «Radio Moskow world service» круглые сутки крутила песни «Машины времени». Благодаря этому популярность группы росла как на дрожжах. Как пишет все тот же А. Троицкий: «Гастроли группы в Ленинграде по накалу ажиотажа вполне можно сравнить с массовым безумием времени «битломании». Тысячи подростков атаковали Дворец спорта «Юбилейный», автобусы, в которых везли музыкантов, совершали хитрые обманные маневры, чтобы спасти Макаревича, Кутикова, Ефремова и Подгородецкого от восторженной толпы. В Минске поклонники, не доставшие билетов, прорвались на концерт, выломав двери. Аналогичное происходило практически во всех городах, куда приезжала группа...»